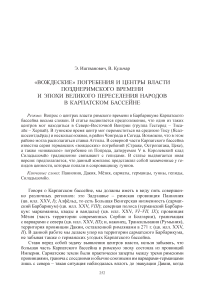«Вождеские» погребения и центры власти позднеримского времени и эпохи Великого переселения народов в Карпатском бассейне
Автор: Иштванович Э., Кульчар В.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 234, 2014 года.
Бесплатный доступ
Трудно думать о силовых центрах в Барбарикум Карпатского бассейна в римские времена. В документе предлагается где-то в северо-восточной части Венгрии (Geszteréd - Tiszalök - Herpaly Group). Центр, должно быть, переместился в Регион Средней Тисы (Jâszalsôszentgyörgy) вокруг Хунского века и далее на юг, в окрестностях Чонграда и Сегеда. В последнем регионе штаб-квартира Аттилы могла быть расположена. В северной части Карпатского бассейна прослеживается серия немецких вождей-могил 3-го века (Страз, Осцтропатака, Чека) и княжеская могила с 5-го века, найденная в Попраде. Королевский клад Szilagysomlyo традиционно считается гепидическим, но мы сомневаемся в этом, предполагая вместо этого, что первый клад принадлежал Гепидам и был захвачен и включен в их сокровищницу гуннами.
Паннония, дакия, мёзия, сарматы, германцы, гунны, гепиды, силадьшомйо
Короткий адрес: https://sciup.org/14328632
IDR: 14328632
Текст научной статьи «Вождеские» погребения и центры власти позднеримского времени и эпохи Великого переселения народов в Карпатском бассейне
Ставя перед собой задачу выявления центров власти, нельзя забывать, что большая часть Карпатского бассейна в римскую эпоху состояла из провинций Империи. Сарматские земли были практически заперты между тремя римскими провинциями, гранича с соседними и обычно союзными им варварами-германцами лишь с севера – такая ситуация наблюдалась вплоть до эвакуации Дакии, когда начиная с конца III в. на месте эвакуированной римской провинции на восточных окраинах Барбарикума поселились враждебные сарматам готы и их союзники.
Поскольку речь идет о приграничных землях Империи, основную роль в поддержании власти играли военные. Административные центры располагались в столицах провинций (несколько раз делившихся на части, таким образом, число столиц также увеличивалось). В Паннонии в конце III в. стояли шесть легионов ( Mócsy , 1974. Р. 273), то есть число солдат составляло, по меньшей мере, 36 000 человек (не считая вспомогательных войск). В Дакии было расквартировано около 30 000 человек ( Balla , 1968. P. 113; 1969). В Верхней Мёзии стояли два легиона (ок. 12000 человек). Другими словами, варваров римского времени -сарматов и отчасти германцев, живших на территории нынешних Восточной Венгрии и Словакии, - со всех сторон окружали провинции, снабженные значительными военными контингентами.
Иначе говоря, центрами власти на римской территории могут восприниматься как военные, так и гражданские административные центры – столицы провинций.
Что касается центров власти в Барбарикуме, то здесь мы располагаем лишь очень ограниченным числом письменных источников. Почти ничего не известно о верхушках власти в сарматском обществе. Анализом источников занимались несколько исследователей ( Alföldi , 1942; Vaday , 2001). В результате удалось выявить очень немногое. Вопросом остается уже само по себе то, имеет ли место присутствие племени или племенного союза в данном случае, и если да, то что под этими терминами здесь следует понимать.
Возникает также проблема, какие погребения или какого рода находки могут рассматриваться у варваров как «вождеские», что является их критериями. Из-за очень высокого процента ограбленных сарматских могил мы располагаем совсем небольшим количеством погребений, которые, судя по обряду (курганы, камерные погребения) или каким-то предметам (регалиям, сакральным предметам, престижным подаркам), могут считаться княжескими: Тисалёк (Tisza-lök), Гестеред (Geszteréd), Херпай (Herpály), Ясалшосентдьёрдь (Jászalsószent-györgy) ( Istvánovits, Kulcsár , 2013; 2014) (цв. илл. XXV, б1–4 ). В то же время небольшое количество находок (следствие ограблений) - это только кажущаяся «бедность». В недавней работе ( Istvánovits, Kulcsár , 2013) мы собрали предметы из золота, обнаруженные в сарматских могилах, и его оказалось на удивление много (в отличие, скажем, от соседних германцев – квадов, в чьих памятниках оно практически не встречается: Rajtár , 2013).
В какой-то мере это может являться отблеском годовых субсидий, получаемых – по-видимому, только в определенные периоды - от римлян, о чем имеется упоминание в источнике. Из «Жизнеописания Адриана» мы узнаем, что «с царем роксоланов, который жаловался на уменьшение ежегодных выплат, он [император], разобрав дело, заключил мир» (Авторы жизнеописаний Августов…, 1992. 1.6). Относительно сарматов у нас нет других данных письменных источников о регулярных выплатах, что, конечно, не означает прекращения субсидий, которые в этом регионе при гуннах (по некоторым подсчетам 5,85 тонны золота, см.: Kiss , 1999а. P. 58), а позже при аварах (13–36 тонн, см.: Ibid. P. 59), как хорошо известно, входят в систему.
Характерно, что встречаемость золота в сарматских погребениях зависит от хронологического периода. Непропорционально большая часть (более половины) всех золотых находок происходит из самого раннего, так называемого золотого горизонта, что, впрочем, может быть связано с меньшей – пока не-объясненной – ограбленностью ранних (I–II вв. н. э.) могил первых мигрантов с востока по сравнению с более поздними погребениями. Сам факт почти всеобщей (иногда до 90 % в могильнике) ограбленности погребений второй половины II – конца IV в. указывает на наличие ценных предметов, хоронившихся с умершими.
О структуре сарматского общества Алфёльда известно очень мало. По скупым сведениям источников можно понять, что в сарматском Барбарикуме Карпатского бассейна, достаточно, кстати, едином по своей материальной культуре, не было единовластия. Руководящую роль играли племенные вожди, «короли» (rex) и «князья» (dux), по-видимому стоявшие во главе различных племен. Есть указания на существование института двойного королевства. Еще Андраш Алфёльди обратил внимание на существование института двойной монархии главным образом в тюркской среде и вообще у степных номадов ( Alföldi , 1933). Наиболее характерный пример двоевластия у сарматов приводится у Иордана, который пишет, что в битве при Болии в 469 г. сарматы принимали участие «с королями своими Бевкой и Бабаем» (Jord. LIV.277.). Особого рассмотрения требует проблема аркарагантов и лимигантов – сведения о них, воможно, единственные, на основании которых можно сделать выводы о центрах власти в сарматском Барбарикуме. Информация, касающаяся этих двух племен (?) или общественных групп (?), достаточно расплывчатая. Все, что можно предположить, это то, что центр эвакуированных аркараган-тов находится где-то в Северо-Восточной Венгрии, а лимиганты обосновались на самом юге Алфёльда, в Банате (расположенное севернее Дуная пограничье нынешних Сербии и Румынии) ( Patsch , 1925) В связи с событиями сарматской «гражданской войны» упоминаются имена различных правителей (Ammian. XVII.12.1–20), но неясно, какова была иерархия между ними, если таковая вообще существовала.
Так или иначе, ситуация, естественно, менялась со временем. На Венгерской низменности сарматы – переселенцы из степной полосы очень быстро переходят на новый образ жизни, превращаясь из кочевников в земледельцев. Не только хозяйство, но и все окружение (германский Барбарикум, римские провинции), система контактов радикально изменились. Неизвестно, сохранились ли отношения со степными родственными племенами, переместились ли центры власти с востока (принимая во внимание, что, например, в случае языгов, племя было разорвано на две части: вероятно, оставшуюся на востоке и на переселенцев), образовались ли новые центры у сарматов Алфёльда.
В то время как в первые века н. э. речь идет только о языгах, после Мар-команнских войн с востока приходит новая иранская волна, связываемая с роксоланами; и, позднее, с гуннами, здесь появляются аланы. Как это отражается на центрах власти – мы не знаем, но, судя по группе элитных курганов в Ясалшосентдьёрде (Jászalsószentgyörgy) (цв. илл. XXV, б4 ), один из центров мог располагаться там ( Istvánovits, Kulcsár , 2014).
Из-за скудности письменных источников в вопросе об общественном устройстве и вождеских центрах нам почти всецело приходится полагаться на археологический материал. Такими центрами могут восприниматься ареалы, где концентрируются отдельные типы вещей: это могут быть, в первую очередь, оружие (воинские погребения), импортные товары и предметы из драгоценных металлов.
По данным Клавдия Птолемея, в сарматском Барбарикуме Карпатского бассейна существовали города. В венгерском сарматоведении были попытки идентификации птолемеевских населенных пунктов, но эти попытки пока не увенчались успехом ( Vaday , 2003). Единственное место, которое можно более или менее убедительно отождествить с определенной местностью, – это Партиск (Partiscon), находившийся, по всей видимости, на территории нынешнего Сегеда (цв. илл. XXV, в4 ), у слияния Тисы и Мароша ( Lakatos , 1966). Археологические свидетельства говорят о существовании здесь римской почтовой станции – таможни, которая, вероятно, играла роль в торговле между поставлявшей соль, золото и другое сырье Дакией и Паннонией. Из Трансильвании дакийский экспорт прибывал водным путем, дальше до Дуная, границы Паннонии, товары везли сухопутьем. Естественно, Партиск / Сегед, как возможный сарматский центр, имел стратегическое значение не только в мирное время, но и во время войн. Трудно судить, существовал ли здесь на самом деле сарматский «город», находился ли здесь центр власти, и на какую территорию он распространялся, а также сохранилась ли эта роль в гуннское время, когда, по предположениям, где-то в этих местах Аттила расположился со своей ставкой (см. ниже).
Судя по археологическому материалу (группы Чонград, Тисадоб и др.: цв. илл. XXV, в2, в1 ), с приходом гуннов сарматское общество, во всяком случае – его военизированная часть, гармонично вписывается в новые структуры власти. Как можно кратко охарактеризовать эти группы? Погребения группы Тисадоб, выделенной в начале 1990-х гг. Эстер Иштванович, локализуются на северо-востоке Венгрии ( Istvánovits , 1993; 2000). Группа отличается большим количеством воинских могил, местным сарматским обрядом и некоторыми черняховскими элементами, включая определенные черты обряда и инвентаря. Группа Чонград представляет в данном случае бóльший интерес, так как ее погребения концентрируются на юге средней части Алфёльда, в окрестностях Сегеда. Речь идет о погребениях ярко выраженного воинского характера, которые хорошо датируются эпохой Аттилы, например фибулами типа Лева / Левице-Прша или мечами «меотского» типа ( Istvánovits, Kulcsár , 1999. Р. 88).
Известно, что Аттила перенес свою ставку куда-то на территорию Восточной Венгрии. Исследования по определению места этого центра практически не продвинулись за последние десятилетия. Судя по местонахождению гуннского поминального (?) памятника из Надьсекшоша (Nagyszéksós) (цв. илл. XXV, д4) (непосредственно рядом с Сегедом), скоплению могильников и отдельных погребений позднесарматского – гуннского времени (конец IV – начало V в.) в окрестностях Чонграда и Сегеда (цв. илл. XXV, в2, в4), а также исходя из геостратегического положения обоих мест (в случае Чонграда – впадение реки Кёрёш в Тису, в случае Сегеда – впадение Мароша в Тису, т. е. древние места переправ и в том, и в другом случае), можно предположить, что описанные Приском (Prisc. fr. 8) деревянные, укрепленные башнями хоромы гуннского вождя нужно искать именно в этих местах.
Отношения между гуннами и их вассальными племенами – белое пятно в археологии и истории периода. Отто Менхен-Хелфен обратил внимание на то, что где-то после 406 г. происходят серьезные перемены: до этого времени среди союзников гуннов на первом месте всегда упоминаются аланы, а после этой даты ими становятся германцы ( Maenchen-Helfen , 1973. P. 71). С точки зрения нашего исследования это немаловажный факт, так как в этот период Алфёльд уже должен принадлежать к территориям, подверженным гуннской экспансии. Методическая оценка археологических данных в будущем, возможно, сможет осветить некоторые проблемы, в их числе тот факт, что если к югу от реки Кёрёш ( Bóna , 1991. S. 200), в окрестностях Ходмезёвашархея (Hódmezővásárhely) (цв. илл. XXV, в3 ), за редкими исключениями почти неизвестны вещи нового типа, упомянутые выше (группа Чонград), то как в этом случае объясняется находка самого значительного в Восточной Венгрии клада солидов из Сиканча (Szikáncs) (цв. илл. XXV, д3 ) именно в этом микрорегионе?
Наряду с предположением о гуннском центре в окрестностях Сегеда и/или Чонграда, нельзя оставить без внимания информацию Приска о том, что «епископ города Марга, явившись в их [гуннов] землю и обыскав находящиеся у них царские гробницы, похитил положенные в них сокровища» (Prisc. 575–576; Ma-enchen-Helfen , 1973. P. 109–110), что указывает на то, что – во всяком случае сакральный – центр гуннов находился по соседству с Маргом (римский город на территории современной Дубравицы в Сербии: цв. илл. XXV, а12 ), т. е. где-то в самой южной части Алфёльда, непосредственно на берегу Дуная или неподалеку от реки.
Слабая изученность этнической картины Трансильвании после эвакуации римской Дакии не позволяет пока делать какие-либо серьезные выводы о центрах власти вестготов, занявших этот регион, возможно, в конце III в., хотя новейшие исследования поселений культуры Марошсентанна / Сынтана де Муреш, вероятно, вскоре представят эту проблему в новом свете.
Здесь нельзя оставить без внимания знаменитый клад, вернее клады, из Силадьшомйо / Шимлеу Силванией (Szilágysomlyó / Şimleu Silvaniei, Румыния) (цв. илл. XXV, д1). Хотя первый клад состоит главным образом из медальонов римских императоров, датируемых в пределах 290–378 гг., на основании остальных вещей (особенно из второго клада) захоронение сокровищ датируют второй третью V в. (Barbarenschmuck und Römergöld…, 1999). Согласно теории Иштвана Боны о заселении гепидов в Карпатский бассейн (Bóna, 2001. P. 176), господствующей в археологической литературе, считается, что эти две находки, очевидно входившие в один и тот же клад (5 466 г золота и 2 536 г серебра), принадлежали к сокровищнице гепидских королей и захоронение клада связано с переменой династии (Kiss, 1999. S. 165). В числе вещей из второго клада присутствуют королевские и, более того, императорские регалии (фибула-брошь с ониксом), т. е. предполагается, что речь идет о династии, находившейся в союзнических отношениях с Византией (цв. илл. XXVI, 1). На самом же деле трудно представить, что если бы гепиды были союзниками Римской империи с конца III в., то источники упорно умалчивали бы об этом факте – ведь имя гепидов практически не упоминается римскими авторами. Попытки выявить гепидский археологический материал IV в. в Карпатском бассейне не привели к положительным результатам (эта проблема развернуто представлена в работе Ф. Биербрауера, см.: Bierbrauer, 2006). Принимая все это во внимание, стоит задаться вопросом: правомерно ли считать клад из Силадьшомйо гепидским? Фибула-брошь с ониксом могла принадлежать только выдающемуся варварскому правителю (цв. илл. XXVI, 1). Среди наиболее поздних предметов кладов особенно интересны в этом отношении полусферические чаши (цв. илл. XXVI, 2), аналогии которым – вероятно, вовсе не случайно – известны из гуннского погребения (?) или поминального места (?), найденного в Надьсекшоше (цв. илл. XXV, д4; XXVI, 3). Они по своему характеру явно указывают на связь с восточными степными территориями. Возможен вариант решения вопроса, если предположить, что клад на самом деле связан не с ге-пидами, а с гуннами, к которым в ходе их завоеваний могла попасть готская королевская сокровищница. Таким образом, стала бы на место наиболее поздняя дата – 378 г. – медальонов. Вещи первого клада могли первоначально принадлежать готам и позже достаться гуннам. В таком случае второй клад должен был состоять из вещей, которыми первоначально владел монарх другого народа. Естественно, мы не имеем в виду, что эти два комплекса не связаны друг с другом, а лишь предполагаем, что первый клад состоял из предметов захваченного сокровища. Судя по фибуле-броши, украшенной ониксом, и по чашам (цв. илл. XXVI, 1, 2), наиболее вероятными владельцами вещей второго клада были гунны. В таком случае сокрытие драгоценностей можно связать с бегством сыновей Аттилы, Денгитциха и Эрнака. Разумеется, на данный момент это только гипотеза, так же как и общепринятая гепидская принадлежность кладов. Географическое положение памятника тоже говорит в пользу гуннской атрибуции – из Трансильвании к Верецкому перевалу (цв. илл. XXV, е), которым часто пользовались в различные исторические периоды равнинные кочевники, предпочитавшие относительно небольшие возвышенности горам, ведет почти прямой путь через Мукачево и Сваляву. Вся эта дорога составляет не более 300–350 км.
В то же время, судя по находкам в Апахиде (Apahida) (цв. илл. XXV, д2 ), один из гепидских центров, несомненно, находился где-то неподалеку. По сообщениям источников известно, что второй гепидский центр находился в Сир-мии (цв. илл. XXV, а11 ), но ничего не известно о том, где располагалась ставка правителя алфёльдских гепидов.
Итак, в Барбарикуме Карпатского бассейна нельзя определенно говорить о центрах власти в римское время. Возможно, они находились на северо-востоке Венгрии (группа Гестеред – Тисалёк – Херпай: цв. илл. XXV, б1–3), а ближе к гуннской эпохе переместились (?) к среднему течению Тисы (Ясал-шосентдьёрдь) (цв. илл. XXV, б4) и южнее (Чонград, Сегед: цв. илл. XXV, в2, в4). В последнем же регионе предполагается ставка Аттилы. В северной полосе Карпатского бассейна мы знаем серию германских вождеских погребений III в. из Словакии: Cтраже (Straže), Цеке / Цeйков (Céke / Cejkov), Остропата-ка (Osztrópataka / Ostrovany) (цв. илл. XXV, г1–3) (Quast, 2009. S. 5–6), а также княжеское погребение V в. из г. Попрад (Poprad) (цв. илл. XXV, г4) (Pieta, Roth, 2007), но было бы неправильно с методологической точки зрения рассматривать их в отрыве от остальной германской территории. В постгуннское время, в период гепидского и лангобардского господства центры власти явно перемещаются, а радикальные перемены происходят во время аварского господства, когда впервые за много сотен лет почти весь регион на долгое время (после непродолжительного господства гуннов) объединили под одной властью.
Список литературы «Вождеские» погребения и центры власти позднеримского времени и эпохи Великого переселения народов в Карпатском бассейне
- Авторы жизнеописаний Августов. 1: элий Спартиан. Жизнеописание Адриана: Текст приведен по изданию: Властелины Рима. М.: Наука, 1992 (пер. С.П. Кондратьева под ред. А.И. Доватура, коммент. -О.Д. Никитинского). URL: http://ancientrome.ru/antlitr/sha/eliysadr.htm. Дата доступа: 07.07.2014.
- Alföldi A., 1933. A kettős királyság a nomádoknál//Emlékkönyv Károlyi Árpád születésének nyolcvanadik fordulójának ünnepére. 1933. Október 7. Budapest: SárkányNyomda Részvénytársaság. P. 28-39.
- Alföldi A., 1942. A pesti oldal új urai//Budapest története I. Budapest az ókorban. I/Szerk. Szendy K. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. P. 172-235.
- Barbarenschmuck und Römergöld. Der Schatz von Szilágysomlyó/Hrsg. W. Seipel. Wien: Kunsthistorisches Museum, 1999. 229 S.
- Bierbrauer V., 2006. Gepiden im 5. Jahrhundert -eine Spurensuche//Miscellanea romanobarbarica in honorem septagenarii magistri Ion Ioniţă. Honoria 2/Ed. V. MihailescuBîrliba, C. Hriban, L. Munteanu. Bucureşti: Editura Academiei Române. P. 167-216.
- Bóna I., 1991. Das Hunnenreich. Budapest; Stuttgart: Corvina-Konrad Theiss Verlag. 294 S.
- Bóna I., 2001. From Dacia to Erdőelve: Transylvania in the period of the Great Migrations//History of Transylvania. Vol. I/Ed. B. Köpeczi. Highland Lakes (NJ): Atlantic Research and Publications, Inc. Р. 137-318.
- Istvánovits E., 1993. Das Gräberfeld aus dem 4.-5. Jahrhundert von TiszadobSziget//Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XLV. S. 91-146.
- Istvánovits E., 2000. Völker im nördlichen Theißtal am Vorabend der Hunnenzeit//«Gentes, Reges und Rom». Auseinandersetzung -Anerkennung -Anpassung/Hrsg. J. Bouzek, H. Friesinger, K. Pieta, B. Komoróczy. Spisy Arch. ústavu AV ČR Brno 16. Brno: Archeologicky Ústav AV ČR. S. 197-208.
- Istvánovits E., Kulcsár V., 1999. Sarmatian and Germanic People at the Upper Tisza Region and South Alföld at the Beginning of the Migration Period//L’Occident romain et l’Europe centrale au début de l’époque des Grandes Migrations/Eds J. Tejral, Ch. Pilet, M. Kazanski. Brno: Archeologickỳ Ústav Akademie Věd České Republiky Brno. P. 67-94.
- Istvánovits E., Kulcsár V., 2013. The «upper class» of Sarmatian society in the Carpathian Basin//Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschaft und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 2/Hrsg. M. Hardt, O. HeinrichTamáska. Weinstadt: Verlag Bernhard Albert Greinerer. P. 195-209.
- Istvánovits E., Kulcsár V., 2014. Sarmatian chamber graves in the Great Hungarian Plain and their steppe antecedents //Kammergräber im Barbaricum. Zu Einflüssen und Übergangsphänomenen von der vorrömischen Eisenzeit bis in die Völkerwanderungszeit/Hrsg. A. AbeggWigg, N. Lau. Schriften Archäologischen Landesmuseums. Bd. 9. Neumünster; Hamburg: Wachholtz Verlag. P. 437-446.
- Kiss A., 1999a. A 375 és 1000 közötti kincsleletek, mint a Kárpátmedence kora középkori történeti forrásai. A kincsleletek katalógusa//Zalai Múzeum 9. P. 55-75.
- Kiss A., 1999b. Historische Auswertung//Barbarenschmuck und Römergöld. Der Schatz von Szilágysomlyó/Hrsg. W. Seipel. Wien: Kunsthistorisches Museum. S. 163-168.
- Lakatos P., 1966. Funde der Römerzeit vom Gebiet der Szegediner Festung//A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1964-65: 1. P. 65-81.
- L’Or des princes barbares: Du Caucase à la Gaule Ve sicècle après J.C., 2000. Paris: Éditions de la Réunion des musées nationaux. 223 p.
- Maenchen-Helfen O., 1973. The World of the Huns. Studies in Their History and Culture. Berkely; Los Angeles; London: University of California Press. 602 р.
- Mócsy A., 1974. Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire. London; Boston: Routledge & Kegan Paul. 453 р.
- Patsch C., 1925. Banater Sarmaten//Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa II: 1. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, PhilosophischHistorische Klasse XXVII. Wien; Leipzig. P. 181-216.
- Pieta K., Roth P., 2007. Kniežacia hrobka z PopraduMatejoviec.//Pamiatky a Múzeá 3. Slovenské národné múzeum. S. 44-47.
- Quast D., 2009. Wanderer zwischen den Welten. Die germanischen Prunkgräber von Stráže und Zakrzów. Mainz: Verlag des RömischGermanischen Zentralmuseums. 64 S.
- Rajtár J., 2013. Das Gold bei den Quaden//Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschaft und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 2/Hrsg. M. Hardt, O. HeinrichTamáska. Weinstadt: Verlag Bernhard Albert Greinerer. S. 125-150.
- Vaday A., 2001. Military system of the Sarmatians//International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1 st -5 th centuries A.D. Proceedings of the international archaeological conference held in Aszód and Nyíregyháza in 1999/Eds E. Istvánovits, V. Kulcsár. (Múzeumi Füzetek 51. Jósa András Múzeum Kiadványai 47). Aszód, Nyíregyháza: Jósa András Múzeum and Osváth Gedeon Museum Foundation. P. 171-193.
- Vaday A., 2003. A szarmata Barbarikum központjai a Kr. u. 2. században. //Barbarikumi Szemle I. Szeged. P. 9-22.