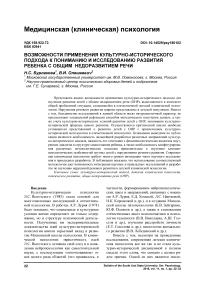Возможности применения культурно-исторического подхода к пониманию и исследованию развития ребенка с общим недоразвитием речи
Автор: Бурлакова Наталья Семеновна, Олешкевич Валерий Иванович
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Медицинская (клиническая) психология
Статья в выпуске: 1 т.11, 2018 года.
Бесплатный доступ
Представлен анализ возможности применения культурно-исторического подхода для изучения развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР), выполняемого в контексте общей проблемной ситуации, сложившейся в отечественной детской клинической психологии. Нарушения речевого развития широко представлены в детской популяции. Вместе с тем, большинство исследований в данной области носят натуралистичный характер, не предполагают специальной рефлексии способов методического получения данных, а также учета культурно-исторических условий развития детей с ОНР, понимания культурно-исторической природы самого развития. Осуществляется критический анализ наиболее устоявшихся представлений о развитии детей с ОНР с привлечением культурно-исторической методологии в отечественной психологии. Основными выводами по публикации являются необходимость дальнейшей разработки различных направлений культурно-исторического анализа, важность его сочетания с феноменологическим анализом внутренних диалогов в структуре самосознания ребенка, а также необходимость конфигурирования различных методологических подходов применительно к изучению клинико-психологических особенностей группы детей с нарушениями речевого развития. Современная клиническая психология требует нового уровня интеграции чисто научного исследования и прикладных разработок. В публикации показано, что использование соответствующей методологии дает возможность интеграции научных и прикладных исследований и разработок по изучению нарушений речевого развития в детской клинической психологии.
Культурно-исторический подход, детская клиническая психология, психическое развитие, общее недоразвитие речи (онр)
Короткий адрес: https://sciup.org/147233022
IDR: 147233022 | УДК: 159.922.73 | DOI: 10.14529/psy180102
Текст научной статьи Возможности применения культурно-исторического подхода к пониманию и исследованию развития ребенка с общим недоразвитием речи
Культурно-историческая психология
Л.С. Выготского (1983) стала основой для многочисленных исследований в отечественной психологии. В работах А.Р. Лурия (1974) было показано, что социальные и культурные условия жизни определяют не только содержание, но и структуру психической деятельности. Полученные им экспериментальные доказательства идей культурно-исторической психологии внесли серьезный вклад в развитие Московской школы психологии. В клинической психологии эвристичность идей Л.С. Выготского оставила свой след и в появлении нейропсихологии как самостоятельной науки, с последующим «отпочкованием» от нее целого ряда областей (что проявилось, в частности, формированием нейропсихологических школ и направлений, связанных с именами А.Р. Лурия, Е.Д. Хомской, Л.С. Цветковой, Н.К. Корсаковой и др.), и в создании Московской школы патопсихологии (Б.В. Зейгарник, Ю.Ф. Поляков и др.), а также в становлении отечественных школ психосоматики и психологии телесности (В.В. Николаева, А.Ш. Тхо-стов и др.), изучении расстройств личности (Е.Т. Соколова и др.), психологии аномального развития (В.В. Лебединский и др.).
Вместе с тем, несмотря на проведенные исследования, современная детская клиническая психология все же так и не стала культурно-исторической дисциплиной в полном смысле этого слова, что связано с целым рядом причин. Одной из них является после- дующая концентрация клинико-психологических исследований преимущественно на сфере патопсихологического и нейропсихологического изучения развития ребенка. В дальнейшем применительно к изучению аномального развития появился еще более широкий круг предметностей и микроспециализаций, методы работы внутри которых трудно назвать культурно-историческими. В лучшем случае культурно-исторические аспекты аномального развития ребенка появляются здесь уже вторично, когда они уже «бросаются в глаза». Одним из следствий этой проблемной ситуации является существующее разделение подходов к изучению аномального развития ребенка на чисто исследовательские и принципиально прикладные. Эти подходы существуют или параллельно, или же контакт между ними формируется на скоротечной основе: например, на основе исследований, в которых их фокусом был какой-либо частный предмет, впоследствии строятся практические рекомендации или коррекционные программы, охватывающие весьма широкий круг явлений. Немногочисленны в детской клинической психологии также и системные исследования, что опять-таки обусловлено ограниченностью ее методологии. И именно культурно-исторический подход в этой области исследований и клинической практики, с нашей точки зрения, может решить вышеназванные проблемы.
Общая характеристика исследований детей с общим недоразвитием речи Рассмотрим обозначенные проблемные области на частном примере, а именно – применительно к широко представленной на сегодняшний день группе детей, которые имеют психолого-педагогический диагноз «общее недоразвитие речи» («ОНР»). Как правило, развитие детей с ОНР осуществляется в рамках коррекционно-логопедических групп детских садов.
Существует большое количество исследований, посвященных изучению различных аспектов нарушений речи в разных научных дисциплинах, прежде всего – в медицине, логопедии, нейропсихологии и патопсихологии. Результаты этих исследований часто оказываются не интегрированными между собой, по-разному предметно ориентированными и даже в одной области знания могут оказаться крайне неоднозначными (в частности, в психологии).
Психологи изучают у таких детей нарушения их психического развития, сопутствующие общему речевому недоразвитию. В сущности, происходит сопоставление нарушений развития речи, с одной стороны, и различных граней нарушений собственно психического развития, с другой стороны. В результате обнаруживаются определенные корреляции между этими группами параметров. Они опираются на методики исследования, которые в значительной мере и определяют характер получаемых данных. Но при этом методики изучения могут быть разными, что является одним из источников разноречивости результатов. Отметим особо, что в рамках этих исследований, как и в клинической психологии в целом, часто недостает методической рефлексии того, что именно та или иная методика определяет характер получаемых данных, их форму и их содержание. Данные, полученные исследователем, сразу же натурализируются и воспринимаются как истинные, часто безотносительно к способам их получения. Хотя эта «истина» оказывается весьма частичной – в такой же мере, в какой частичными являются психодиагностические методики, не говоря уже о конъюктивности или аддитивности данных, когда они собираются по итогам проведения различных, порой не соотносимых друг с другом диагностических инструментов. Здесь обнаруживаются недостатки исключительно натуралистического подхода к изучению психического развития детей, безотносительно к культурноисторическим условиям их развития, а также забыв о том, что само развитие имеет культурно-историческую природу (в понимании ее по Л.С. Выготскому, Д.Б. Эльконину и др.).
Несмотря на описанные выше недостатки, все-таки существуют некоторые устоявшиеся и декларируемые многими авторами (Грибова, 1995; Соловьева, 1996; Слинько, 1992; Чиркина, 2009; и др.) представления о личностно-психологических особенностях группы детей с ОНР в виде некоторых общих характеристик (например, повышенной тревожности, трудностей в доступном по возрасту самоконтроле, инфантильности, повышенной эмоциональности, коммуникативных сложностей, особенностях в общении со сверстниками, снижением самооценки и др.) Эти особенности выступают как рядоположенные, что в целом обусловлено опять-таки существующей методикой их получения. Соотносить их друг с другом можно только опосредованно, вторично и, вероятно, достаточно спекулятивно.
Процесс исследования, который приводит к такому характеру знания, строится следующим образом. Вначале клинический психолог-исследователь, следуя доминирующим «научным стандартам», использует определенные тесты, что приводит его определенному разнообразию данных, полученных с их помощью. Далее он интерпретирует их как некоторую реальность, в рамках которой результаты часто оказываются противоречивыми, что вызывает заключительный вывод о «необходимости дальнейших исследований». Если осознать вышесказанное в полной мере, то с необходимостью придется прийти к выводу о проблематизации типа существующей рациональности в современной детской клинической психологии.
Вопрос о нормативности психического развития детей с ОНР
Представляет интересн вывод научнопсихологических и психолого-педагогических (логопедических) исследований о том, что уровень психического развития детей с ОНР колеблется в нормативных пределах (Левина, 1968; Мастюкова, 1992; Соботович, 2003 и др.). Обращает на себя внимание то, что речь идет именно об уровне психического развития, и, фактически, о норме психического развития. В данном случае эти понятия сами требуют дальнейшего анализа и понимания.
Само утверждение о нормативности психического развития детей с ОНР требует особого осмысления. С одной стороны, следуя Л.С. Выготскому, нужно было бы предположить, что дефекты в развитии речи должны снижать интеллектуальное развитие, причем существенно, поскольку культурно-историческая психология предполагает наличие непосредственной связи интеллектуального и речевого развития. Речь участвует в развитии мышления, интеллектуальных функций и даже управляет ими, и, как следствие, снижение уровня речевого развития должно было бы повлечь за собой снижение общего интеллекта и характеристик мыслительной деятельности. Интеллектуальная недостаточность фиксируется у детей с недоразвитием речи многими исследователями (Жукова, 1994; Пере-слени, Фотекова, 1993; Фотекова, 1994), что вступает в противоречие с ранее приведенным не менее веским выводом о нормативности развития таких детей.
Таким образом, какой-либо непосредственной однозначной корреляции в структуре опыта психолого-педагогического взаимодействия с такими детьми не наблюдается. Что же может означать такой вывод? Можно предположить, что в развитии интеллекта задействованы также и другие семиотические системы, например, движение и действие, жесты, экспрессия, а также, возможно, и те, о существовании которых мы в настоящее время даже не подозреваем. Опыт наблюдения авторов настоящей публикации за детьми старшего дошкольного возраста с ОНР показывает, что они, по сравнению с нормативно развивающимися детьми, весьма активно используют телесный и визуальный контакт (например, посредством прикосновения к Другому, разворота его лица в свою сторону, своего тесного прижимания к детям или воспитателям и т. д.); некоторые дети очень активны в своих движениях и экспрессивных вокализациях и т. д.
Обращаясь к этим наблюдениям, можно изучать иные системы коммуникации и иные (помимо речевой) знаковые системы, которые играют определенную роль и в нормальном развитии ребенка. Однако если у детей развитие речи соответствует норме, то эти коммуникативные системы не «бросаются в глаза», поскольку они слабо проявляют себя «в чистом виде», но у детей с нарушенным развитием речи они выступают более отчетливо, поскольку вынуждены замещать «дефектную» функцию в общем психологическом развитии ребенка.
Другим фокусом размышления, опирающемуся на представления Л.С. Выготского, выступает утверждение, что органические повреждения могут и не играть какой-либо существенной роли в организации психического развития, если в этом случае для ребенка создаются соответствующие условия развития. В советской психологии это было показано на примере обучения слепоглухонемых детей, начатого И.А. Соколянским (см. Басилова, 2006). У таких детей функция речи в буквальном смысле слова отсутствует вовсе, но, тем не менее, используя искусственные языки, все же удавалось организовать их нормальное развитие. В этом случае понятно, что для культурного развития важны не просто сама по себе речь и наличие сохранной органической основы, но и нечто другое.
Для понимания психического развития необходимо принять во внимание постулаты Л.С. Выготского о второй функции знака, а именно о его функции общения. Даже в том случае, если речь у ребенка развита более-менее нормально, он все же может страдать серьезным психическим расстройством, которое может быть связано как раз с недостатком развития функции общения. Нечто подобное можно наблюдать у детей, страдающих аутизмом (расстройствами аутистического спектра). Здесь может встретиться даже формально избыточная речь, но, вместе с тем, знаки при этом не выполняют функцию общения. Поэтому само по себе развитие либо недоразвитие речевой функции недостаточно для того, чтобы говорить об общем психическом развитии ребенка. Так, можно встретить детей дошкольного возраста с ОНР, имеющих как нормальное общее психологическое развитие, так и с существенными нарушениями такого развития. Отметим, что в детской патопсихологии в таких случаях преимущественно говорят о детях с задержанным типом развития (Лебединский, 2003; Марковская, 1993; Печникова, 2012).
Вероятно, что еще одной из основных проблем при этом является связь общения и обобщения в норме и специфические нарушения этих связей. Еще Л.С. Выготский точно вычленил здесь важную характеристику знака и его функции для психологического развития. Последующие исследования как в отечественной психологии (М.И. Лисина, Л.И. Божович и др.), так и в зарубежной, например, теории привязанности М. Боулби, психоаналитической психологии объектных отношений М. Малер, Д. Винникотт и др. показали, что функция общения, связанная с адекватными и постепенно (по мере взросления ребенка) трансформирующимися отношениями ребенка и матери, является фундаментальной для обеспечения психического развития ребенка. Можно сказать, что именно в процессе этого общения и развиваются последующие обозначения, а также связанные с ними обобщения. Причем первичными обобщениями являются именно символические обобщения, когда, например, образ матери начинает символизировать другие объекты, переноситься на них и таким образом обозначать их и, в некотором роде, даже «обобщать». Только после этого такие целостные символические объекты начинают дифференцироваться, что и происходит в процессе символического взаимодействия ребенка и матери.
Формирование процессов общения и обобщения происходит посредством постепенного развития процессов эмоциональной обратимости между символическими идентификациями ребенка и матери. Одновременно происходит развитие и общение (оно дифференцируется, динамически углубляется и пр.), и обобщения, которое начинает свое развитие из недифференцированной общности и, постепенно, шаг за шагом объективируется и, в некотором роде, обособляется от тех процессов общения, внутри которых оно и зарождается.
В своей более ранней работе авторами публикации (Бурлакова, Олешкевич, 2001) было показано, что процессы обратимости, которые Пиаже наблюдал у детей в возрасте 6–7 лет, существуют уже значительно раньше, например, у 4-летних детей. Но это не предметная обратимость, а обратимость эмоциональная. Следовательно, эмоциональные процессы обратимости впоследствии составляют основу тех процессов, которые описывает Пиаже для детей более старшего возраста. Развитие процессов общения непосредственно связано с развитием отношений самосознания, отношений «Я-Другой», а также их обратимостью. И именно внутри этих процессов развития формируются и совершенствуются также процессы и структуры обобщения. Вероятно, в том числе именно из-за нарушений в развитии этих процессов и формируются патологические явления в ходе развитии речи, мышления, а также при психологическом развитии в целом.
В этом смысле нарушения развития общения могут непосредственно приводить и к речевым нарушениям, и к нарушениям развития мышления. Конечно же существуют некоторые индивидуальные органически-консти-туциональные особенности ребенка, специфицирующие развитие речи и мышления. Но есть и некоторые общие закономерности. Например, существует общеизвестный случай задержки речевого развития в условиях крайне потворствующих и потакающих отношений матери к ребенку. В этом случае ребенок не стремится говорить, потому что все его желания угадываются, а всем его актуальным потребностям потакают окружающие. При этом, как правило, отмечается наличие у ребенка низкой толерантности к фрустрации. Вместе с тем, речевая деятельность требует усилия, поскольку она является именно деятельностью, специфической работой. Для того чтобы активно начать говорить ребенку, по-видимому, необходимо преодолеть какой-то психологический барьер, который в какой-то момент он переступить не может. Таким образом, развитие речи очень трудно отделить и от развития общения, и от тех социальных условий, в которых оно протекает.
Конечно существуют и чисто органические причины и механизмы нарушений речевой функции, и их нужно корректировать непосредственно. Но даже такая коррекция (даже если она организована психологически грамотно, а не только лишь формально корректно) представляет собой терапевтически осмысленный процесс общения с ребенком, причем – с конкретным ребенком, т. е. основана на понимании его конституции и индивидуальных особенностей психологического развития (Ахутина, Пылаева, 2008; Микадзе, 2008; Глухов, 2004; Жулина, Чикунова, 2008).
Таким образом, в практической клинической психологии вряд ли представляется возможность осмысленно диагностировать патологию развития речи безотносительно к развитию общения ребенка и в целом к его общему психологическому развитию и его особенностям.
Методы диагностики и коррекции общего недоразвития речи
Современные методы диагностики и коррекции речевых расстройств являются исторически обусловленными и достаточно обособленными друг от друга. В большинстве отечественных работ, описывающих исследование детей с ОНР, осуществляется поиск общих и частных признаков речевого недоразвития, тщательно изучается специфика исключительно речевой сферы ребенка, что задает цели и задачи дальнейшей логопедической коррекции речи. Логопедический подход к диагностике и коррекции речи понятен и необходим, но он, как правило, акцентирует внимание только на одной речи, безотносительно к самому ребенку в целом (Корнев, 2006). И, конечно же, эффективность логопедического подхода возможна при условии, что ребенок способен следовать правилам логопедической процедуры. Но и сама такая процедура не гарантирует того, что ее применение не может привести ребенка к иным расстройствам в процессе ее выполнения. Это мнение не означает оценки логопедических методов как неадекватных, а свидетельствует только о том, что современное состояние клинической психологии позволяет более глубоко осмыслить их и, возможно, найти им новое место в более целостной системе коррекционно-психологических процедур.
Если логопедия была изначально ориентирована преимущественно как практическая область, то нейропсихология изначально развивалась как экспериментальная наука, основателя которой А.Р. Лурия интересовали прежде всего связи систем головного мозга и психических функций. Она была построена преимущественно на клиническом материале исследований высших психических функций (ВПФ) взрослых пациентов с локальными поражениями мозга. Речь интересовала нейропсихологию прежде всего именно как высшая психическая функция, а ее нарушения – лишь в связке с другими ВПФ.
Вместе с тем, исключительность нейропсихологического подхода к диагностике и коррекции детского развития вызывает глубокие сомнения. Например, практический опыт показывает, что достаточно редко встречаются «чисто» нейропсихологические случаи. В конце концов, даже в таких случаях существует вторичная симптоматика, отмечается необходимость установления терапевтически эффективных отношений с ребенком, создания специальных ситуаций в коррекционноэффективном общении, констатируется важность анализа семейной ситуации, а также общего клинико-психологического и патопсихологического обследования ребенка.
Повторимся, что исключительность чисто нейропсихологического подхода к диагностике и коррекции развития ребенка представляется неоправданной. Значимость нейропсихологической диагностики и коррекции бесспорна, но они должны быть включены и в общую психологическую диагностику и коррекцию, и в общую систему организации коррекционно-психологической помощи конкретному ребенку.
Патопсихология и нейропсихология традиционно существовали как отдельные научные дисциплины. У каждой из них был свой предмет, и они существовали независимо и самостоятельно друг от друга, хотя и во взаимосвязи, что отразилось, например, в наименовании профильной кафедры Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Однако подчеркнем, что это касается научных дисциплин, которыми они и остаются и по сей день. Если же речь идет о детской клинической психологии применительно к диагностике и коррекции речевых расстройств, то следует рассматривать ее в контексте отрасли прикладной клинической психологии.
Если в академической науке можно, к примеру, изучать функцию речи как феномен, изолированный от всех других функций и от характера развития в целом, то применительно к конкретному клиническому случаю такой подход вряд ли будет осмысленным. В этой связи требуется специальная разработка методологии и методов формулирования, исследования и анализа отдельного случая как способа практико-ориентированного исследования (Беребин, 2001; Бурлакова, Федорова, 2016; Manasis, 2014). Именно этот метод дает возможность увидеть, как психоорганическая основа образует тесное сплетение с культурным развитием ребенка, а также позволяет усмотреть механизмы имеющихся отклонений, что является залогом последующей продуктивной коррекционной работы.
Различные типы детей с ОНР
В большинстве представленных в публикациях материалах исследований детей с ОНР неявно предполагается, что первичными нарушениями являются именно нарушения речи. Но, как известно, эти нарушения сопровождаются или имеют своим основанием также и другие, часто более фундаментальные органические, функциональные и психогенные нарушения. При этом дети с различными проявлениями ОНР объединяются в одну «экспериментальную» группу только по признаку наличия нарушений речевого развития, и только после этого такую группу пытаются изучать как некое более или менее гомогенное образование. Вместе с тем, данные о психологических и логопедических характеристиках детей с ОНР разноречивы. В частности, в некоторых исследованиях показывается, что по некоторым параметрам дети с ОНР даже превосходят детей из группы нормы, например, в плане более выраженной инициативности или любознательности и даже креативности и пр. Такая разноречивость свидетельствует не только о применении в каждом описываемом случае различных методических средств, но и о существовании различных вариантов нарушений у детей с ОНР, а также о вероятности работы исследователя с различными клинически неоднородными группами. К вопросу о возможной неоднородности группы детей с ОНР как в плане клинических проявлений, так и в плане их патогенетических механизмов ранее привлекалось внимание (Корнев, 2006), однако в подавляющем большинстве публикаций приводится только указание на уровень выраженности ОНР.
Еще одной причиной такой рассогласованности является и фактор культуры. В этом отношении нужно отметить, прежде всего, что в различных культурных ситуациях можно установить разное отношение к недоразвитию речи, разный уровень терпимости к такого рода явлениям и пр. Как следствие, возникает необходимость культурно-исторического анализа соответствующих расстройств, их генезиса, а также изучения факторов, сопровождающих этот генезис.
Следуя Л.С. Выготскому, в каждом случае исследования и коррекции ребенка с ОНР необходимо, прежде всего, предусматривать возможное выявление (диагностику) органического расстройства, которое лежит в основе такого рода осложнений в развитии ребенка. Причем нужно иметь в виду, что такого рода расстройства квалифицируются обычно не только как проявления речевой патологии.
Например, важно помнить, что существуют расстройства развития речи, имеющие преимущественно психогенный характер. В этой связи вместо общих и недифференцированных групп детей с ОНР необходимо изучать группы детей с идентичной или сходной этиологией соответствующих расстройств, что требует организации исследования в русле общих идей культурно-исторической психологии. Например, требуется изучение взаимодействия культурно-опосредующих и конституционально-компенсаторных факторов, изучаемых в рамках заданной той или иной системой психодиагностики конкретной органической основы. Но, как писал Л.С. Выготский, органическая основа расстройства или некоторая органическая основа индивидуальной психики может задавать только общую матрицу для развития, при этом само развитие определяет культурная среда. Следовательно, в любом исследовании важно каждый раз описывать и изучать те культурноисторические обстоятельства и условия, внутри которых происходит развитие ребенка, а также способ их влияния и различные формы культурного опосредования развития ребенка такого рода обстоятельствами. Эти условия тоже можно выделять и типологизировать и на основе результатов такого рода типологи-зации рассматривать соответствующие клинические группы.
Еще одним методическим основанием может стать индивидуальный подход к изучению таких детей как некоторой серии случаев, организованному уже не посредством применения тестов, а при помощи использования метода анализа и формулирования индивидуального случая, включающего использование проективных методик, феноменологического анализа самосознания ребенка, его внутренних диалогов, соответствующих способов саморегуляции и пр. (Бурлакова, Олешкевич, 2001; Бурлакова, Федорова, 2016).
Необходимость обращения к изучению единичного случая, включая феноменологический подход к его анализу, обсуждается в методологии клинической психологии (Бере-бин, 2001, 2011; Бурлакова, Олешкевич, 2012).
Применительно к ребенку такой подход осмыслен только в контексте параллельного изучения во всей совокупности той культурной среды, в которую ребенок включен, и внутри которой происходит его развитие.
Одним из достоинств такого подхода является то, что такое исследование может оказаться также значимым для коррекции нарушений развития ребенка и для разработки системной психотерапевтической и психокоррекционной стратегии, относящейся не только к самому ребенку, но и к его окружению.
Такой подход к исследованию позволяет определить типологию различных случаев развития, квалифицировать различные траектории возможных компенсаций дефекта, типов формируемых защит от дефекта и пр. В целом он может позволить выделить определенные типы или группы, варианты развития детей с ОНР. Подход на основе индивидуального рассмотрения отдельных случаев, с нашей точки зрения, может также помочь уточнить этиологию и патогенез расстройств такого рода. Ориентированное на прикладное применение единичное клинико-психологическое исследование должно все же быть ориентированным не на описание разнообразных свойств (знание которых часто мало что может дать в коррекционной работе), не на отдельную функцию речи как таковую или в ее связи с отдельными иными функциями, но прежде всего на изучение именно внутренних механизмов производства расстройства.
В зарубежной психологии уже достаточно представлена точка зрения об ограниченности тестовых методов при изучении детей с ОНР (Cantwell, Baker, 1980; Cuperus et.al., 2014 и др.). Понятно, что развитие ребенка осуществляется и проявляется в разных ситуациях и контекстах, и его можно исследовать с различных позиций (например, с точек зрения на ребенка его родителей, сибсов, учителей, сверстников и т. д.).
При этом не следует исключать то, что при этом изучаются ситуации, в которых ребенок развивается и проявляет себя. Это значит, что развитие ребенка не представляет собой линейный процесс, а его внутренние и внешние свойства не схватываются тестами и стандартными пробами, применяемыми в стандартных ситуациях. Как следствие, для полноценного понимания и исследования развития ребенка требуется интеграция различных точек зрения и результатов наблюдения и профессионального изучения его в различных ситуациях. Следует также учитывать, что самосознание ребенка неоднородно, и может проявлять себя совершенно по-разному в различных ситуациях. Поэтому варьирование ситуаций представляется необходимым при изучении детского развития. Другими словами, речь идет о системном клинико-психологическом обследовании ребенка.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно отметить следующее. Для развития детской клинической психологии, приведению ее к требованиям современной ситуации, к необходимым мировым стандартам важно активно разрабатывать феноменологический метод, являющийся значимой составляющей методологии анализа и формулирования индивидуального случая. Такой подход представляется необходимым для адекватного клинико-психологического понимания и исследования ребенка как в норме, так и патологии. Не менее важна разработка культурно-исторического подхода и культурно-исторического анализа развития ребенка, интенсивно меняющихся культурноисторических сред, внутри которых происходит обучение и воспитание детей (Бурлакова, Быкова, 2015). В этом отношении важно понимать культуру именно как живую среду, внутри которой происходит развитие детей, и понимать каждый раз дифференцированно, поскольку различия между разными культурами и субкультурами в современном обществе очень существенны (Бурлакова, Олешкевич, 2012).
Наконец, встает задача соединения этих двух подходов – культурно-исторического и феноменологического – в одно целое, внутри которого есть возможность понимать развитие ребенка изучаемого как «извне», так и «изнутри». Этот тезис это относится не только к детям с ОНР, а построенная на нем методология имеет фундаментальное значение для построения системных основ современной детской клинической психологии.
Список литературы Возможности применения культурно-исторического подхода к пониманию и исследованию развития ребенка с общим недоразвитием речи
- Ахутина, Т.В. Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход / Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева. - СПб.: Питер, 2008. - 320 с.
- Басилова, Т.А. О Соколянском и его методах обучения глухих и слепоглухих детей, так интересовавших Выготского / Т.А. Басилова // Культурно-историческая психология. - 2006. - № 3.
- Беребин, М.А. Феноменологический подход как теоретическая основа методов психологической диагностики нарушений психической адаптации // Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». - 2011. - № 5. - С. 82-88.
- Беребин, М.А. К вопросу об изучении единичного случая как методе клинико-психологического исследования / М.А. Беребин // Теоретическая, экспериментальная и практическая психология: сб. науч. тр. / под ред. Н.А. Батурина. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001. - Т. 3. - С. 3-11.
- Бурлакова, Н.С. Проективные методы: теория, практика применения к исследованию личности ребенка / Н.С. Бурлакова, В.И. Олешкевич. - М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 2001. - 352 с.
- Бурлакова, Н.С. «Сказочная педагогика» и несказочные риски в эмоционально-личностном развитии детей старшего дошкольного возраста / Н.С. Бурлакова, П.С. Быкова // Национальный психологический журнал. - 2015. - Т. 18, № 2. - С. 123-133.
- Бурлакова, Н.С. Уровни культурно-исторического анализа в клинической психологии / Н.С. Бурлакова, В.И. Олешкевич // Вопросы психологии. - 2012. - № 6. - С. 36-45.
- Бурлакова, Н.С. Метод формулирования случая в практико-ориентированном исследовании / Н.С. Бурлакова, Ю.Н. Федорова // Консультативная психология и психотерапия. - 2016. - Т. 24, № 1. - С. 109-129.
- Выготский, Л.С. Собрание сочинений в 6 т. / Л.С. Выготский. - М.: Педагогика. - Т. 3, 1983. - 368 с.
- Глухов, В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи / В.П. Глухов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: АРКТИ, 2004. - 168 с.
- Грибова, О.Е. К проблеме анализа коммуникаций у детей с речевой патологией / О.Е. Грибова // Дефектология. - 1995. - № 6. - С. 7-16.
- Жукова, Н.С. Отклонения в развитии детской речи / Н.С. Жукова. - М., 1994.
- Жулина, Е.В. Комплексная психологическая диагностика психического развития детей раннего возраста с задержкой речи / Е.В. Жулина, Н.А. Чикунова // Вестник психотерапии. - 2008. - № 27. - С. 28-41.
- Корнев, А.Н. Основы логопатологии детского возраста: клинические и психологические аспекты / А.Н. Корнев. - СПб.: Речь, 2006. - 380 с.
- Лебединский, В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте / В.В. Лебединский. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 144 с.
- Левина, Р.Е. Основы теории и практики логопедии / Р.Е. Левина. - М.: Просвещение, 1968. - 368 с.
- Лурия, А.Р. Историческое развитие познавательных процессов / А.Р. Лурия. - М., 1974.
- Марковская, И.Ф. Задержка психического развития (клинико-нейропсихологическая диагностика) / И.Ф. Марковская. - М., 1993.
- Мастюкова, Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии: Ранняя диагностика и коррекция / Е.М. Мастюкова. - М.: Просвещение, 1992. - 95 с.
- Микадзе, Ю.В. Нейропсихология детского возраста / Ю.В. Микадзе. -СПб.: Питер, 2008. - 288 с.
- Переслени, Л.И. Особенности познавательной деятельности младших школьников с недоразвитием речи и с задержкой психического развития / Л.И. Переслени, Т.А. Фотекова // Дефектология. - 1993. - № 5. - С. 2-6.
- Печникова, Л.С. Фундаментальные принципы структурно-функциональной модели дизонтогенеза, сформулированные В.С. Лебединским / Л.С. Печникова // Идеи Виктора Васильевича Лебединского в психологии аномального развития. - М.: Акрополь, 2012. - С. 23-32.
- Слинько, О.А. К изучению проблемы межличностных отношений дошкольников с нарушениями речи / О.А. Слинько // Дефектология. - 1992. - №1. - С. 62-67.
- Соботович, Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции / Е.Ф. Соботович. - М.: Классикс стиль, 2003. - 160 с.
- Соловьева, Л.Г. Особенности коммуникативной деятельности детей с ОНР / Л.Г. Соловьева // Дефектология. - 1996. - № 1. - С. 62-66.
- Фотекова, Т.А. Сочетание нарушений познавательной и речевой сфер в структуре дефекта у детей с общим недоразвитием речи / Т.А. Фотекова // Дефектология. - 1994. - № 2. - С. 9-13.
- Чиркина, Г.В. Коммуникативно-речевая деятельность детей с отклонениями в развитии: диагностика и коррекция: монография / Г.В. Чиркина и др. - Архангельск: Помор. ун-т, 2009. - 401 с.
- Cantwell, D.P. Рsychiatric and behavioral characteristics of children with communication disorders / D.P. Cantwell, L. Baker // Journal of pediatric psychology. - 1980. - Vol. 5, № 2.
- Cuperus, J. Executive function behaviours in children with specific language impairment (SLI) / J. Cuperus, B. Vugs, A. Scheper, M. Hendriks // International Journal of Developmental Disabilities. - 2014. - V. 60. - P. 132-143.
- Manassis, K. Case Formulation with Children and Adolescents / K. Manassis. - N.Y., London: Guilford Press, 2014. - 244 p.