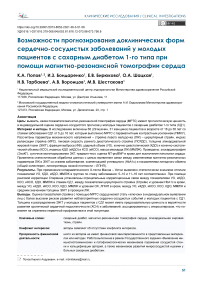Возможности прогнозирования доклинических форм сердечно-сосудистых заболеваний у молодых пациентов с сахарным диабетом 1-го типа при помощи магнитно-резонансной томографии сердца
Автор: Попов К.А., Бондаренко И.З., Бирюкова Е.В., Шацкая О.А., Тарбаева Н.В., Воронцов А.В., Шестакова М.В.
Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk
Рубрика: Клинические исследования
Статья в выпуске: 3 т.36, 2021 года.
Бесплатный доступ
Цель: выявить, какие показатели магнитно-резонансной томографии сердца (МРТС) имеют прогностическую ценность в индивидуальной оценке сердечно-сосудистого прогноза у молодых пациентов с сахарным диабетом 1-го типа (СД1).Материал и методы. В исследование включены 60 (29 мужчин, 31 женщина) пациентов в возрасте от 18 до 36 лет со стажем заболевания СД1 от 5 до 16 лет, которым выполнено МРТС с парамагнитным контрастным усилением (ПМКУ). Рассчитаны параметры механического напряжения - стрейна левого желудочка (ЛЖ) - циркулярный стрейн, индекс релаксации стрейна (ИРС), пиковая скорость раннего диастолического стрейна (ПСРДС), толщина эпикардиальной жировой ткани (ЭЖТ), фракция выброса (ФВ), ударный объем (УО), конечно-диастолический (КДО) и конечно-систолический объемы (КСО), индексы КДО (иКДО) и КСО (иКСО), масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ). Проведены: эхокардиография (ЭхоКГ), суточное мониторирование ЭКГ, тредмил-тест, оценка NT-proBNP в крови для исключения патологии сердца. Применена статистическая обработка данных с целью выявления связи между изменениями магнитно-резонансных параметров ЛЖ и ЭЖТ со стажем заболевания, компенсацией углеводного (HbA1c) и показателями липидного обмена (общий холестерин, липопротеиды низкой плотности - ЛПНП).Результаты. При применении непараметического U-теста Манна - Уитни выявлено статистически значимое отличие показателей УО, КДО, иКДО, ММЛЖ в группах по стажу заболевания: 5-10 и 11-16 лет соответственно. При помощи ранговой корреляции Спирмена установлены отрицательные корреляционные связи между показателями УО, иКДО, КСО, иКСО, КДО, ММЛЖ и стажем СД1, между показателем циркулярного стрейна (Стрейн) и уровнем HbA1c в крови, между УО, иКДО, иКСО, КСО, КДО, ММЛЖ и уровнем ОХ, ЛПНП в крови, между УО, иКДО, иКСО, КСО, КДО, ММЛЖ и средним значением толщины ЭЖТ в проекции ЛЖ.Выводы. Оценка показателей стрейна с помощью МРТС сердца может стать «ключом» в индивидуальном выявлении лиц с более высоким риском развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у молодых пациентов с СД1. Толщина и распределение ЭЖТ у молодых пациентов с СД1 может иметь предсказательную ценность в вероятности развития хронической сердечной недостаточности (ХСН) и заболеваний, ассоциированных с атеросклерозом, что повлияет на стратегию первичной профилактики в этой популяции.
Сахарный диабет, магнитно-резонансная томография сердца, эпикардиальная жировая ткань, стрейн
Короткий адрес: https://sciup.org/149139353
IDR: 149139353 | УДК: 616.1-037:616.379-008.64]-053.81:616.12-073.86-073.756.8 | DOI: 10.29001/2073-8552-2021-36-3-51-58
Текст научной статьи Возможности прогнозирования доклинических форм сердечно-сосудистых заболеваний у молодых пациентов с сахарным диабетом 1-го типа при помощи магнитно-резонансной томографии сердца
Кардиальная дисфункция при сахарном диабете (СД) ассоциирована с изменениями структуры и функции сердца. Она проявляется в виде формирования фиброза и гипертрофии миокарда, что в конечном итоге приводит к развитию хронической сердечной недостаточности (ХСН). Впервые это явление было изучено в 1970-х гг. при вскрытии четырех умерших больных СД без анамнеза артериальной гипертензии, заболеваний коронарных артерий и других факторов сердечно-сосудистого риска [1, 2].
Повышение уровня глюкозы в крови считается ключевым фактором в развитии метаболических, структурных и функциональных нарушений сердца при СД [3]. Роль гипергликемии в развитии сердечной недостаточности изучалась в различных исследованиях [4–6]: к механизмам патогенеза относят накопление конечных продуктов гликирования, отложение кальция, увеличение активных форм кислорода (АФК) и активацию ренин-ангиотензино-вой системы [7].
Сердечная недостаточность остается одним из самых тяжелых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). В исследовании с участием почти 50 000 пациентов с СД было продемонстрировано, что на каждый 1% повышения уровня НвА1С на 8% увеличивался риск развития сердечной недостаточности [8]. Интересно, что этот эффект наблюдался независимо от наличия артериальной гипертензии [1, 2]. В другом исследовании с включением 20 985 относительно молодых пациентов с СД1 (средний возраст – 38,6 лет) и с 9-летним периодом наблюдения было показано, что на каждый 1% прироста НвА1С на 30% повышался риск развития ХСН [9]. В исследовании с участием 33 915 пациентов с СД1 (средний возраст – 35,8 лет), которое продолжалось в течение 8-летнего периода, выявлено увеличение риска смертности от ССЗ в 10,5 раза у пациентов с неудовлетворительной компенсацией углеводного обмена (средние значения HbA1C ≥ 9,7%) в сравнении с популяцией без СД. В этом же исследовании показано, что у больных СД1 и с хорошим гликемическим контролем (средние значения HbA1C ≤ 6,9%) риск заболеть ССЗ был все равно повышен почти в 3 раза в сравнении со здоровой популяцией [9]. Исходно пациенты с СД1 не имели факторов риска ССЗ, характерных для СД2, таких как ожирение и артериальная гипертензия. Вероятно, существуют другие факторы сердечно-сосудистого риска, характерные для СД1, что требует более глубокого анализа этой проблемы [10].
Фиброз миокарда является как причиной, так и следствием ХСН. Фиброз миокарда может возникнуть на макроскопическом (замещающий или очаговый фиброз миокарда) или на микроскопическом уровнях (реактивный или инфильтративный интерстициальный фиброз, наблюдаемый в том числе при СД) [11]. Существуют различ- ные способы визуализации фиброза миокарда, такие как эхокардиография (ЭхоКГ), однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и компьютерная томография (КТ). Тем не менее именно магнитно-резонансная томография сердца (МРТС) с парамагнитным контрастным усилением (ПМКУ) является «золотым стандартом» для визуализации миокардиального фиброза [12].
Помимо оценки фиброзной ткани, МРТС позволяет измерить толщину ЭЖТ правого (ПЖ) и левого желудочков (ЛЖ), оценить практически все определяемые параметры и индексы, доступные методу ЭхоКГ [12, 13]. В то же время МРТС, в отличие от других методов визуализации, позволяет объективно прогнозировать развитие сердечной недостаточности и жизнеугрожающих аритмий у больных без сердечно-сосудистой патологии при помощи расчета раннего показателя диастолической дисфункции (индекс релаксации стрейна) [14], что может быть весьма актуальным для молодых пациентов с СД1.
За последнее десятилетие отмечается растущий интерес к изучению эпикардиальной жировой ткани (ЭЖТ). В настоящее время считается, что ЭЖТ выполняет эндокринные и паракринные функции в виде синтеза активных веществ, которые играют существенную роль в развитии ожирения, метаболического синдрома, заболеваний миокарда, в том числе ХСН. Предполагается, что качественная и количественная оценка ЭЖТ может быть полезной в первичной профилактике ССЗ, а также способна менять стратегию терапии у таких пациентов [15].
Эпикард – это внутренний серозный слой перикарда, образованный мезотелиальными клетками и располагающийся непосредственно на миокарде. Коронарные артерии покрыты эпикардиальным жиром, который в норме выполняет протективную роль против возможных «повреждений» коронарных артерий, вызванных артериальной пульсовой волной. Другими словами, ЭЖТ можно сравнить с «подушкой», благодаря которой коронарные артерии остаются интактными [16]. ЭЖТ также участвует в гомеостазе жирных кислот в миокарде [17], что позволяет ей служить локальным хранилищем энергии при повышении нагрузки на миокард. Вероятно и непосредственное влияние ЭЖТ на процессы ремоделирования коронарных артерий [18]. Таким образом, есть убедительные данные, что ЭЖТ сердца является независимым предиктором неблагоприятного сердечно-сосудистого прогноза [19–21].
Интересен и тот факт, что именно для молодых пациентов с СД1 без явной сердечно-сосудистой патологии был описан феномен внезапной гибели – «смерть в постели», когда при патологоанатомическом вскрытии отсутствовали несовместимые с жизнью изменения [22, 23]. Феномен до сих пор не объяснен. И в этой связи инновационные способы визуализации миокарда представляются крайне важными.
Материал и методы
Объект исследования
В исследование были включены молодые пациенты в возрасте от 18 до 36 лет со стажем заболевания СД1 от 5 до 16 лет. Критериями исключения являлись выраженные нарушения электролитного состава крови, хроническая печеночная недостаточность, нарушение функции почек (СКФ (EPI) ^ 60 мл/мин/1,73 м2), нарушения функции щитовидной железы, ожирение (ИМТ > 30 кг/м2), ранее диагностированные ССЗ (сердечная недостаточность II–III функционального класса – ФК), ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертензия, врожденные пороки сердца, клинически значимые нарушения ритма, противопоказания к выполнению МРТ.
Фокус научной работы был направлен на обследование молодых больных СД1, поэтому возраст и стаж заболевания в исследовании ограничен (до 36 и 16 лет соответственно). Оценка изменений функции миокарда посредством МРТ подразумевалась на фоне отсутствия вышеописанных факторов (критерии исключения), которые могли привести к недостоверности полученных результатов.
Условия проведения
Лабораторно-инструментальная диагностика проводилась по специализированному протоколу в отделении МРТ и функциональной диагностики ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. Набор пациентов осуществлялся с сентября 2017 г. На момент написания статьи в исследование были включены 60 пациентов.
Дизайн исследования
МРТ сердца проводилась с целью расчета показателей стрейна – количественной оценки параметров глобальной и сегментарной сократимости стенки ЛЖ -стрейн, индекс релаксации стрейна (ИРС), пиковая скорость релаксации стрейна (ПСРДС), измерения толщины эпикардиального жира желудочков, а также расчета стандартных показателей ЛЖ (фракция выброса - ФВ, ударный объем - УО, конечно-диастолический - КДО и конечно-систолический объемы – КСО, индексы КДО (иИКДО) и КСО (иКСО), масса миокарда (ММЛЖ)).
Выполнено суточное мониторирование ЭКГ, ЭхоКГ, тредмил-тест, определение уровня N-концевого проВ-ти-па натрийуретического пептида (NT-proBNP) в крови для исключения сердечно-сосудистой патологии, в том числе сердечной недостаточности. Определены уровни гликированного гемоглобина, общего холестерина, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в крови для оценки компенсации углеводного и липидного обмена.
Статистическая оценка и субъективная визуализация зон фиброза в данном исследовании не проводились в связи с отсутствием возможности количественно измерить зоны фиброза, сопоставить с другими лабораторно-инструментальными параметрами.
Описание медицинского вмешательства посредством МРТ
Магнитно-резонансные исследования сердца (томограф General Electric Optima MR 450 w GEM 1,5 Т, Аме- рика) проводились с использованием поверхностной кардиальной катушки, с применением парамагнитных контрастных препаратов с содержанием активного вещества 1 ммоль/мл, в дозировке 0,15 мл/кг – Гадовист (Bayer, Германия). Синхронизация с сердечным ритмом осуществлялась по сигналу ЭКГ в стандартных отведениях. Исследование выполнялось в стандартных анатомических плоскостях (2- и 4-камерной, по короткой оси) с применением последовательностей с кино-петлей во время задержек дыхания пациентами.
Для расчета стандартных функциональных показателей ЛЖ (ФВ, УО, КДО и КСО, индексы КСО (иКСО) и КДО (иКДО), ММЛЖ использовалась программа постобработки МР-изображений CardioVX. Референсные значения стандартных показателей ЛЖ использовались на основании рекомендаций [24].
В связи с отсутствием общепризнанных референсных значений толщины ЭЖТ ПЖ и ЛЖ в этом исследовании измерение эпикардиального жира проводилось на уровне 3 сегментов (базальный, средний, верхушечный) 4-камерной проекции сердца с дальнейшим получением 2 параметров: максимального значения (МЗ) и среднего значения (СЗ) толщины ЭЖТ.
Показатели стрейна (ИРС, ПСРДС, Стрейн) ЛЖ рассчитывались по авторской методике [14].
Статистический анализ
Статистическая обработка проводилась на персональном компьютере при помощи программы статистической обработки данных IBM SPSS STATISTICS v. 26. Нормальность распределений исследуемых показателей проверялась по критерию Колмогорова – Смирнова. При отсутствии нормального распределения количественные данные описывались первым, вторым и третьим квартилями. Категориальные данные описывались частотами ( n ) и процентами (%). Для выявления статистически значимых различий показателей в двух независимых группах пациентов был использован непараметрический U-тест Манна - Уитни. Для анализа связей между количественными показателями применялся коэффициент корреляции Спирмена. Все статистические гипотезы проверялись по уровню значимости 0,05.
Результаты
Генеральная совокупность пациентов разбивалась на 2 группы по стажу заболевания: 5–10 лет и 11–16 лет (табл. 1). На момент исследования 2 пациента со стажем заболевания СД1 ≥ 10 лет имели целевые значения ЛПНП < 1,8 ммоль/л, 12 пациентов со стажем заболевания СД1 < 10 лет имели целевые значения ЛПНП < 2,5 ммоль/л, только 1 пациент имел целевые значения гликированного гемоглобина - 6,4% (< 6,5%). Целевые значения показателей углеводного и липидного обмена оценивались согласно Национальным рекомендациям [25].
Всем больным проведены: суточное мониторирование ЭКГ, ЭхоКГ, тредмил-тест, определен уровень NT-proBNP в крови. Данных за наличие сердечно-сосудистой патологии, в том числе сердечной недостаточности, получено не было (табл. 2). Параметры МРТ сердца у пациентов представлены первым, вторым и третьим квартилями ( Q 1 , Q 2 , Q 3), таблица 3. Результаты сравнения 2 групп больных по стажу заболевания на основании непараметрического U-теста Манна – Уитни, где p – уровень значимости различий, приведены в таблице 4.
Таблица 1. Общая характеристика пациентов
Table 1. General characteristics of patients
|
Показатели |
Квартили Quartiles |
||
|
Q 1 |
Q 2 (медиана) (median) |
Q 3 |
|
|
Возраст, лет Age, years |
22,00 |
25,00 |
27,25 |
|
Стаж СД T1DM duration |
7,00 |
10,00 |
14,00 |
|
ИМТ Body mass index |
20,275 |
22,05 |
23,95 |
|
СКФ Glomerular filtration rate |
94,75 |
107,00 |
118,25 |
|
ОХ Total cholesterol |
4,43 |
5,145 |
5,5425 |
|
ЛПНП Low-density lipoprotein |
2,4375 |
3,11 |
3,75625 |
|
HbA1c |
7,65 |
8,8 |
9,9 |
|
NT-proBNP |
11,825 |
22,5 |
34,375 |
|
Пол: м., n (%) ж., n (%) Gender m, n (%) f, n (%) |
29 (48,33) 31 (51,67) |
||
|
Стаж заболевания: 5–10 лет (%) 11–16 лет (%) Disease duration 5–10 years (%) 11–16 years (%) |
32 (53,33) 8 (46,67) |
||
Таблица 2. Количественные параметры эхокардиографии, суточного мониторирования, электрокардиографии, тредмил-теста у пациентов (представлены квартилями Q 1 , Q 2 , Q 3 )
Table 2. Parameters of echocardiography, 24-hour electrocardiography, and treadmill test in patients (presented as quartiles Q 1 , Q 2 , Q 3)
|
Показатели Parameters |
Квартили Quartiles |
||
|
Q 1 |
Q2 (медиана) (median) |
Q 3 |
|
|
ФВ EF |
57 |
60 |
64,25 |
|
КДО EDV |
60,75 |
68,5 |
84,25 |
|
КСО ESV |
23 |
27 |
34 |
|
КДР EDD |
42 |
44 |
46 |
|
ЗС ЛЖ LVPW |
8 |
9 |
9 |
|
МЖП IVS |
7 |
8 |
9 |
|
PQ |
148,75 |
160 |
166,25 |
|
Средняя ЧСС, день Mean HR, day |
84 |
89 |
95 |
|
Средняя ЧСС, ночь Mean HR, night |
61,75 |
69 |
76,25 |
|
Средняя ЧСС за все время Mean HR, 24-h |
76 |
81 |
86 |
|
Максимальная ЧСС Maximum HR |
143,75 |
152 |
163 |
|
Минимальная ЧСС Minimum HR |
43 |
46 |
48,25 |
|
Общее время нагрузки, мин Total load time, min |
16 |
19 |
20,25 |
|
METS |
8,3 |
8,7 |
10,2 |
|
Максимальная ЧСС при нагрузке Maximum HR during exercise |
161 |
166,5 |
175 |
Примечание: КДР – конечно-диастолический размер, ЗС ЛЖ – задняя стенка левого желудочка, ЧСС – частота сердечных сокращений.
Note: EF – ejection fraction, EDV – end-diastolic volume, ESV – end-systolic volume, EDD – end-diastolic dimension, LVPW – left ventricular posterior wall, IVS – interventricular septum, PQ – the time for conduction from the sinus node across the atrioventricular node and His-Purkinje system, HR – heart rate, METS – metabolic equivalents.
Таблица 3. Количественные параметры магнитно-резонансной томографии сердца у пациентов (представлены квартилями Q 1 , Q 2 , Q 3 ) Table 3. Cardiac magnetic resonance parameters in patients (presented as quartiles Q 1 , Q 2 , Q 3)
|
Показатели Index |
Квартили Quartiles |
||
|
Q 1 |
Q 2 (медиана) (median) |
Q 3 |
|
|
ФВ EF |
60 |
66 |
71 |
|
УО SV |
55,5 |
66,4 |
79,475 |
|
КДО EDV |
88,725 |
101,5 |
115,25 |
|
иКДО EDVI |
51,075 |
58,3 |
63,7 |
|
КСО ESV |
27,725 |
33,1 |
43,525 |
|
иКСО SDVI |
16 |
18,55 |
25,05 |
|
ММЛЖ LVM |
92,75 |
107 |
134,25 |
|
ПСРДС SRe |
0,0977525 |
0,116015 |
0,1493125 |
|
ИРС SRI |
0,724956675 |
1,056141071 |
1,66692343 |
|
Стрейн Strain |
17,62093 |
20,5625 |
23,11738 |
|
СЗЭПЖ Mean RVEFT |
1,4167 |
2,3333 |
2,9167 |
|
МЗЭПЖ Maximum RVEFT |
2,0000 |
3,0000 |
4,0000 |
|
СЗЭЛЖ Mean LVEFT |
0,3333 |
0,6667 |
1,3333 |
|
МЗЭЛЖ Maximum LVEFT |
1,0000 |
2,0000 |
2,7500 |
Примечание: здесь и далее в таблицах: СЗЭПЖ – среднее значение эпикардиального жира в проекции правого желудочка, МЗЭПЖ – максимальное значение эпикардиального жира в проекции правого желудочка, СЗЭЛЖ – среднее значение эпикардиального жира в проекции левого желудочка, МЗЭЛЖ – максимальное значение эпикардиального жира в проекции левого желудочка.
Note: EDV – end-diastolic volume, EDVI – end-diastolic volume index, EF – ejection fraction, ESV – end-systolic volume, LVEFT – left ventricular epicardial fat thickness, LVM – left ventricular mass, RVEFT – right ventricular epicardial fat thickness, ESVI – end-systolic volume index, SRe – peak early diastolic strain rate, SRI – strain relaxation index, SV – stroke volume.
Таблица 4. Сравнение 2 групп больных по показателям магнитно-резонансной томографии и стажу заболевания на основании непараметрического U-теста Манна – Уитни ( p – уровень значимости различий)
Table 4. Comparison of two groups of patients by cardiac magnetic resonance parameters and disease duration based on nonparametric Mann – Whitney U-test ( p is significance level)
|
Показатели Index |
Стаж 5–10 лет 5–10-year disease duration |
Стаж 11–16 лет 11–16-year disease duration |
p |
|
ФВ EF |
67,5 [61,25; 70,75] |
63,5 [59,25; 71] |
0,49 |
|
УО SV |
70,15 [63,05; 84,25] |
59,7 [53,225; 74,775] |
0,011 |
|
КДО EDV |
110 [93,175; 123,75] |
96,45 [81,125; 106,75] |
0,022 |
|
иКДО EDVI |
61,65 [52,95; 69,925] |
54,8 [48,025; 59,575] |
0,017 |
|
КСО ESV |
34,05 [28,575; 45,025] |
31,15 [24,675; 42,975] |
0,239 |
|
иКСО ESVI |
19,6 [16,8; 25,6] |
18,2 [14,525; 24,4] |
0,114 |
Окончание табл. 4
End of table 4
|
Показатели Index |
Стаж 5–10 лет 5–10-year disease duration |
Стаж 11–16 лет 11–16-year disease duration |
p |
|
ММ ЛЖ LVM |
119 [98; 138,5] |
94 [78; 118] |
0,005 |
|
ПСРДС SRe |
0,1172 [0,0973; 0,1484] |
0,1140[0,0979; 0,1516] |
0,965 |
|
ИРС SRI |
0,9201 [0,6839; 1,6130] |
1,2432[0,8349; 1,7694] |
0,159 |
|
Стрейн Strain |
20,4666 [17,5070;22,3167] |
21,3897[17,3963; 23,5500] |
0,678 |
|
СЗЭПЖ Mean RVEFT |
2,5 [1,0833; 3,1667] |
2,6667 [1,75; 3,25] |
0,578 |
|
МЗЭПЖ Maximum RVEFT |
3 [1,25; 3,75] |
3 [2; 4,75] |
0,501 |
|
СЗЭЛЖ Mean LVEFT |
1,8333 [1,0833; 2] |
1 [0,75; 1,6667] |
0,136 |
|
МЗЭЛЖ Maximum LVEFT |
2 [2; 3,75] |
2 [1; 2,75] |
0,209 |
Таблица 5. Результаты сравнения 2 групп больных по стажу заболевания и показателям тредмил-теста с помощью непараметрического U-теста Манна – Уитни ( p – уровень значимости различий)
Table 5. Comparison of two groups of patients by disease duration and parameters of treadmill test based on nonparametric Mann – Whitney U-test ( p is significance level)
|
Показатели Parameters |
Стаж 5–10 лет 5–10-year disease duration |
Стаж 11–16 лет 11–16-year disease duration |
p |
|
Общее время нагрузки, мин Total load time, min |
19,738 [16,606; 21,305] |
16,744 [14,627; 21,32] |
0,304 |
|
METS |
9,5 [8,571; 10,1] |
8,572 [7,786; 9,036] |
0,089 |
|
Максимальная ЧСС при нагрузке Maximum heart rate during exercise |
157,5 [142,25; 186,13] |
153,4 [138,75; 184,77] |
0,672 |
Для определения взаимосвязи между показателями МРТ и другими клинико-лабораторными характеристиками молодых пациентов с СД1 был использован корреляционный анализ с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Отмечались следующие статистические значимые отрицательные зависимости:
-
• между показателем УО и уровнями общего холестерина (ОХ) [ r = –0,341; p = 0,004], ЛПНП [ r = –0,328; p = 0,005], HbA1c [ r = –0,253; p = 0,025] в крови, СЗЭЛЖ [ r = –0,261; p = 0,022], стажем заболевания СД1 [ r = –0,333; p = 0,005];
-
• между показателем иКДО и уровнями ОХ [ r = -0,444; p = 0,000], ЛПНП [ r = –0,0400; p = 0,001], HbA1c [ r = –0,217; p = 0,048] в крови, показателем СЗЭЛЖ [ r = –0,231; p = 0,038], стажем заболевания СД1 [ r = –0,389; p = 0,001];
-
• между показателем иКСО и уровнями ОХ [ r = -0,355;
p = 0,003], ЛПНП [ r = –0,289; p = 0,013] в крови, СЗЭЛЖ [ r = –0,310; p = 0,008], стажем заболевания СД1 [ r = –0,233; p = 0,036];
-
• между показателем КДО и уровнями ОХ [ r = -0,460; p = 0,000], ЛПНП в крови [ r = –0,421; p = 0,000],СЗЭЛЖ [ r = –0,250; p = 0,027], стажем заболевания СД1 [ r = –0,337; p = 0,004];
-
• между показателем КСО уровнями ОХ [ r = -0,362; p = 0,002], ЛПНП в крови [ r = –0,288; p = 0,013], СЗЭЛЖ [ r = –0,233; p = 0,037], стажем заболевания СД1 [ r = –0,253; p = 0,026];
-
• между показателем ММЛЖ уровнями ОХ [ r = -0,375; p = 0,002], ЛПНП [ r = –0,313; p = 0,007] в крови, СЗЭЛЖ [ r = –0,349; p = 0,003], стажем заболевания СД1 [ r = –0,330; p = 0,005];
-
• между показателем стрейна и уровнем HbA1c в крови [ r = –0,257; p = 0,024];
-
• между показателями ИРС и СЗЭПЖ [ r = -0,251; p = 0,027];
-
• между показателем МЗЭЛЖ и стажем заболевания СД1 [ r = –0,242; p = 0,031].
Обсуждение
Новые методы визуализации миокарда дали толчок к исследованиям в области физиологии сердца, позволили проводить раннюю диагностику и осуществлять контроль сердечной недостаточности, определять систолическую и диастолическую функцию миокарда, проводить дифференциальный диагноз кардиомиопатий, а также болезней накопления миокарда. В рутинной практике у больных с СД1 для скрининга патологии миокарда проводится ЭхоКГ, однако детальная оценка эпикардиальной и фиброзной ткани в миокарде – маркеров неблагоприятного сердечно-сосудистого прогноза – в полном объеме может быть выполнена при МРТС (в том числе рутинные показатели ЭхоКГ – ФВ, УО, КДО, КСО, иКСО, иКДО, ММЛЖ). Метод МРТС также важен при количественной оценке эпикардиальной и фиброзной ткани в миокарде.
МРТС сердца проводилась у 60 молодых больных СД1 с целью выявления ранних функциональных изменений миокарда; 98,3% обследуемых пациентов были декомпенсированы по состоянию углеводного обмена, 80% имели нарушения липидного обмена. В свою очередь, у обследованных лиц не было явных ССЗ, нарушений функции почек, ожирения, что позволило минимизировать влияние сопутствующих факторов на исследуемые показатели.
В ходе исследования клинически значимых отклонений от нормы рутинных показателей МРТ сердца выявлено не было (ФВ, УО, КДО, КСО, иКСО, иКДО, ММЛЖ соответствовали нормальным показателям, указанным в последних Рекомендациях [24]). При применении не-параметического U-теста Манна – Уитни, где уровень значимости p > 0,05, пациенты в группах, разделенных по стажу СД1 (5–10 и 11–16 лет), статистически значимо отличались по показателям УО, КДО, иКДО, ММЛЖ, но не различались по клиническим проявлениям дисфункции миокарда: у пациентов обеих групп оставалась высокая толерантность к физической нагрузке (см. табл. 5). При применении ранговой корреляции Спирмена отмечалась отрицательная корреляция между стандартными показателями ремоделирования ЛЖ (УО, иКДО, иКСО, КСО, КДО) и стажем СД1. Снижение вышеуказанных показателей, по всей видимости, является начальным проявлением дисфункции миокарда и указывает на формирование доклинической стадии ХСН. В качестве дополнительного патологического фактора, влияющего на снижение показателей УО, иКДО, иКСО, КСО, КДО, ММЛЖ, можно отнести повышение уровня ОХ, ЛПНП в крови, статистически доказанное при помощи ранговой корреляции Спирмена (отрицательная корреляционная связь). Вероятно, нарушение липидного обмена в условиях повышенных показателей гликемии и нарушения синтеза природного вазодилататора монооксида азота приводит к формированию жесткой сосудистой стенки и меняет геометрию сердца. Выявлены отрицательные корреляции между стандартными показателями ЛЖ (УО, КДО), показателями стрейна (Стрейн) и уровнем HbA1c в крови. Чем более выражена декомпенсация углеводного обмена, тем хуже функциональные возможности ЛЖ, что подтверждает отрицательную зависимость показателей ремоделирования миокарда от колебания уровня гликемии, а также от стажа СД1. Показатели стрейна также закономерно зависели от уровня гликемии. В то же время показатели стрейна, отражающие количественную глобальную и сегментарную сократимость миокарда, не коррелировали со стажем СД1. Стрейн существенно зависит от кислородной задолженности: чем больше сердечная мышца потребляет кислород, тем выше показатели стрейна, т. е. повышение скорости этого показателя, увеличение «ротации» миокарда и/или так называемое «скручивание миокарда» (разнонаправленная ротация базальных и верхушечных сегментов ЛЖ) являются компенсаторным механизмом в ответ на начальные проявления ХСН. Наиболее вероятно, что отсутствие динамики стрейна по мере увеличения стажа СД1 сохраняется, пока длительность нарушения углеводного обмена небольшая и пациенты не имеют значимых факторов риска ССЗ. Снижение этого показателя может свидетельствовать о необратимых изменениях геометрии сердца.
ЭЖТ – самостоятельный эндокринный орган, влияющий на усугубление сердечно-сосудистого прогноза у пациентов с СД, особенно имеющих ожирение. В этой связи его количественная оценка у молодых пациентов с СД1, не имеющих ожирения, может существенно повлиять на стратегию первичной профилактики ССЗ.
Список литературы Возможности прогнозирования доклинических форм сердечно-сосудистых заболеваний у молодых пациентов с сахарным диабетом 1-го типа при помощи магнитно-резонансной томографии сердца
- Rubler S., Dlugash J., Yuceoglu Y.Z., Kumral T., Branwood A.W., Grish-man A. New type of cardiomyopathy associated with diabetic glomerulosclerosis. Am. J. Cardiol. 1972;30(6):595-602. DOI: 10.1016/0002-9149(72)90595-4.
- Regan T.J., Lyons M.M., Ahmed S.S., Levinson G.E., Oldewurtel H.A., Ahmad M.R. et al. Evidence for cardiomyopathy in familial diabetes mel-litus. J. Clin. Invest. 1977;60(4):885-899. DOI: 10.1172/jci108843.
- Huynh K., Bernardo B.C., McMullen J.R., Ritchie R.H. Diabetic cardiomyopathy: Mechanisms and new treatment strategies targeting antioxidant signaling pathways. Pharmacol. Ther. 2014;142(3):375-415. DOI: 10.1016/j.pharmthera.2014.01.003.
- Fang Z.Y., Prins J.B., Marwick T.H. Diabetic cardiomyopathy: Evidence, mechanisms, and therapeutic implications. Endocr. Rev. 2014;25(4):543-567. DOI: 10.1210/er.2003-0012.
- Boudina S., Abel E.D. Diabetic cardiomyopathy revisited. Circulation. 2007;115(25):3213-3223. DOI: 10.1161/circulationaha.106.679597.
- Bugger H., Abel E.D. Molecular mechanisms of diabetic cardiomyopathy. Diabetologia. 2014;57(4):660-671. DOI: 10.1007/s00125-014-3171-6.
- Ritchie R.H., Zerenturk E.J., Prakoso D., Calkin A.C. Lipid metabolism and its implications for type 1 diabetes-associated cardiomyopathy. J. Mol. Endocrinol. 2017;58(4):225-240. DOI: 10.1530/jme-16-0249.
- Iribarren C., Karter A.J., Go A.S., Ferrara A., Liu J.Y., Sidney S. et al. Glycemic control and heart failure among adult patients with diabetes. Circulation. 2001;103(22):2668-2673. DOI: 10.1161/01. cir.103.22.2668.
- Lind M., Svensson A.M., Kosiborod M., Gudbjornsdottir S., Pivodic A., Wedel H. et al. Glycemic control and excess mortality in type 1 diabetes. N. Engl. J. Med. 2014;371(21):1972-1982. DOI: 10.1056/nej-moa1408214.
- Libby P., Okamoto Y., Rocha V.Z., Folco E. Inflammation in atherosclerosis: transition from theory to practice. Circ. J. 2010;74(2):213-220. DOI: 10.1253/circj.cj-09-0706.
- Mewton N., Liu C.Y., Croisille P., Bluemke D., Lima J.A. Assessment of myocardial fibrosis with cardiovascular magnetic resonance. J. Am. Coll. Cardiol. 2011;57(8):891-903. DOI: 10.1016/j.jacc.2010.11.013.
- Ambale-Venkatesh B., Lima J.A. Cardiac MRI: A central prognostic tool in myocardial fibrosis. Nat. Rev. Cardiol. 2015;12(1):18-29. DOI: 10.1038/nrcardio.2014.159.
- Ganame J., Messalli G., Masci P.G., Dymarkowski S., Abbasi K., Van de Werf F. et al. Time course of infarct healing and left ventricular remodelling in patients with reperfused ST segment elevation myocardial infarction using comprehensive magnetic resonance imaging. Eur. Radiol. 2011;21(4):693-701. DOI: 10.1007/s00330-010-1963-8.
- Ambale-Venkatesh B., Armstrong A.C., Liu C.Y., Donekal S., Yoneyama K., Wu C.O. et al. Diastolic function assessed from tagged MRI predicts heart failure and atrial fibrillation over an 8-year follow-up period: the multi-ethnic study of atherosclerosis. Eur. Heart J. Cardio-vasc. Imaging. 2014;15(4):442-449. DOI: 10.1093/ehjci/jet189.
- Sacks H.S., Fain J.N. Human epicardial adipose tissue: a review. Am. Heart J. 2007;153(6):907-917. DOI: 10.1016/j.ahj.2007.03.019.
- Keegan J., Gatehouse P.D., Yang G.Z., Firmin D.N. Spiral phase velocity mapping of left and right coronary artery blood flow: Correction for through plane motion using selective fat only excitation. J. Magn. Reson. Imaging. 2004;20(6):953-960. DOI: 10.1002/jmri.20208.
- Marchington J.M., Pond C.M. Site-specific properties of pericardial and epicardial adipose tissue: The effects of insulin and high-fat feeding on lipogenesis and the incorporation of fatty acids in vitro. Int. J. Obes. 1990;14(12):1013-1022.
- Arora R.C., Waldmann M., Hopkins D.A., Armour J.A. Porcine intrinsic cardiac ganglia. Anat. Rec. 2003;271A(1):249-258. DOI: 10.1002/ ar.a.10030.
- Mahabadi A.A., Massaro J.M., Rosito G.A., Levy D., Murabito J.M., Wolf P.A. et al. Association of pericardial fat, intrathoracic fat, and visceral abdominal fat with cardiovascular disease burden: the Framingham Heart Study. Eur. Heart J. 2009;30(7):850-856. DOI: 10.1093/eurheartj/ ehn573.
- Rosito G.A., Massaro J.M., Hoffmann U., Ruberg F.L., Mahabadi A.A., Vasan R.S. et al. Clinical perspective. Circulation. 2008;117(5):605-613. DOI: 10.1161/circulationaha.107.743062.
- Ding J., Hsu F.C., Harris T.B., Liu Y., Kritchevsky S.B., Szklo M. et al. The association of pericardial fat with incident coronary heart disease: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Am. J. Clin. Nutr. 2009;90(3):499-504. DOI: 10.3945/ajcn.2008.27358.
- Gill G.V., Woodward A., Casson I.F., Weston P.J. Cardiac arrhythmia and nocturnal hypoglycaemia in type 1 diabetes - the 'dead in bed' syndrome revisited. Diabetologia. 2009;52(1):42-45. DOI: 10.1007/s00125-008-1177-7.
- Hsieh A., Twigg S.M. The enigma of the dead-in-bed syndrome: challenges in predicting and preventing this devastating complication of type 1 diabetes. J. Diabetes Complications. 2014;28(5):585-587. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2014.04.005.
- Kawel-Boehm N., Maceira A., Valsangiacomo-Buechel E.R., Vo-gel-Claussen J., Turkbey E.B., Williams R. et al. Normal values for cardiovascular magnetic resonance in adults and children. J. Cardiovasc. Magn. Reson. 2015;17(1):17-29. DOI: 10.1186/s12968-015-0111-7.
- Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., Викулова О.К., Галстян Г.Р, Кураева Т.Л. и др. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. Сахарный диабет. 2017;20(1S):1-121. DOI: 10.14341/dm20171s8.
- Dedov I.I., Shestakova M.V., Mayorov A.Yu., Vikulova O.K., Galstyan G.R., Kuraeva T.L. et al. Standards of specialized diabetes care. Diabetes Mellitus. 2017;20(1S):1-121 (In Russ.). DOI: 10.14341/ dm20171s8.