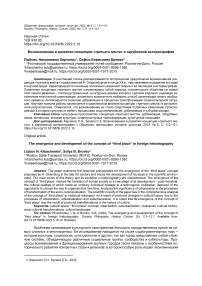Возникновение и развитие концепции «третьего места» в зарубежной историографии
Автор: Харченко Любовь Николаевна, Бровко Софья Борисовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье рассматриваются исторические предпосылки возникновения концепции «третьего места», предложенной Р. Ольденбургом в конце XX в., прослеживается развитие его идей в научной среде. Характеризуются основные положения указанной теории и ее эволюция в историографии. Появление концепции «третьего места» ознаменовало собой переход человеческого общества на новый этап своего развития - постиндустриальный, культурные реалии которого сделали рядового индивида заложником техногенной цивилизации, лишенного возможности выбирать способ организации своего свободного времени. Анализируется значение урбанизации в процессах трансформации социокультурной ситуации. Научная новизна работы заключается в комплексном анализе концепции «третьего места» в исторической ретроспективе. Отмечается, что возникновение ее стало следствием глубинных изменений, происходивших в истории культуры в связи с процессами индустриализации, урбанизации и субурбанизации.
Культурное пространство, концепция «третьего места», урбанизация, субурбанизация, мегаполис, история культуры, социокультурные трансформации, культурный ландшафт
Короткий адрес: https://sciup.org/149140205
IDR: 149140205 | УДК: 930.85
Текст научной статьи Возникновение и развитие концепции «третьего места» в зарубежной историографии
потенциал, эволюционирующий на основе научно-технических достижений. Именно они определяют динамику и тональность общественных отношений.
Со второй половины XX в. проблема организации культурного пространства большого города достаточно востребована в историографии. Глобальные изменения в политической, экономической и социальной сферах человеческой цивилизации в начале XXI в. стали причиной ее актуализации. Значительное число не только зарубежных, но и отечественных авторов посвятили свои работы изучению различных аспектов данного вопроса. Так, исследователей интересовали особенности формирования городского пространства, его специфика и структура, архитектура, тенденции городской застройки, особенности трудовой занятости населения, благоустройство городов и т.д.
В контексте настоящего исследования особое внимание обращено на освещение в историографии одной из ключевых проблем культурного пространства – организации свободного времени, отдыха, неформального досуга жителей большого города. В зарубежной науке данная проблема, на наш взгляд, завершила стадию своего обсуждения формированием концепции «третьего места» Р. Ольденбурга, которая ознаменовала собой утверждение новых культурных реалий для человека постиндустриального общества, в определенном смысле ставшего заложником техногенной цивилизации и вынужденного жить по ее правилам, но все еще пытающегося отстоять свое право на свободную организацию собственного досуга. Западноевропейская цивилизация, и в особенности США, достигла такого уровня развития раньше других стран, поэтому объективно и трансформации в сфере культуры там произошли быстрее.
В отечественную историографию концепция «третьего места» пришла в начале XXI в., когда книга Р. Ольденбурга (Oldenburg, 1999) была опубликована в переводе А. Широкановой (Ольденбург, 2014). В настоящее время ее обсуждение только набирает обороты и, на наш взгляд, еще не достигло той глубины понимания, которая предполагалась автором. Так, значительная часть отечественных ученых концепцию «третьего места» рассматривает применительно к сфере библиотечного дела (Кряжева, Шакирова, 2019). При этом нередки дискуссии о правомерности применения данной теории к деятельности библиотек по работе с читателями (Плешкевич, 2019; Нещерет, 2019).
Объектом нашего исследования является концепция «третьего места», а предметом – процесс ее возникновения и развития в зарубежной историографии.
Цель исследования состоит в выявлении причин появления и характера эволюции концепции «третьего места» в зарубежной историографии применительно к организации культурного пространства большого города.
Методологическую базу настоящей работы составили принципы историзма и научной объективности. Кроме того, в процессе ее подготовки были использованы: принцип детерминизма, предполагающий взаимную обусловленность конкретного события определенными предпосылками, и принцип всесторонности, обеспечивающий не только полноту и достоверность информации, но и учет всех взаимосвязей при рассмотрении событий и явлений, имеющих отношение к предмету исследования.
Методика исследования обусловлена применением историко-генетического, идеографического методов, а также метода ретроспективного анализа исторической и социокультурной ситуации крупных городов США, выступившей фоном для возникновения концепции «третьего места».
Все работы, оказавшиеся в фокусе нашего внимания, можно условно разделить на две основные группы: исследования общего характера и специальной направленности. К первым можно отнести труды, в которых на теоретическом уровне рассмотрены вопросы эволюции культуры человечества в связи с процессами, протекающими в обществе (Хёйзинга, 2013; Мамфорд, 1986, 2001 и др.). В работах специальной группы рассмотрены отдельные аспекты истории культуры больших городов – вопросы функционирования некоторых социальных групп в определенный исторический период, проблемы иммигрантской молодежи, оказавшейся в индустриально развитых городах (Addams, 1910; O’Connor, 1968; Kenneth, 1922; Bruce, 2015; Lerner, 1957 и др.).
Особое внимание с нашей стороны было уделено работе Р. Ольденбурга, так как именно в ней представлена первая попытка концептуально сформулировать основные проблемы, связанные с потребностью населения больших городов организовать свой отдых неформально. Исследователь рассматривает механизмы формирования таких потребностей, обозначает и анализирует так называемые «третьи места», где такой досуг возможен.
Американский философ и историк Л. Мамфорд в свое время отмечал, что «многообразные требования полного человеческого развития могут быть удовлетворены только тогда, когда игра и работа образуют часть органического целого…» (Мамфорд, 1986). Иными словами, необходимость комфортной организации культурного пространства обусловлена потребностями времени и направлена на решение таких важных вопросов, как создание условий для эффективной трудовой деятельности и снижение социальной напряженности в обществе.
А.С. Ахиезер подверг глубокому философско-методологическому анализу различные аспекты урбанизации и пришел к выводу о том, что они представляют часть единого исторического процесса, в котором общество выступает в качестве «архимедова рычага», способного изменить мир. Ученый был убежден, что подлинную роль города в историческом процессе можно понять и оценить только при условии рассмотрения сути феномена урбанизации через призму формирования и распространения городской культуры (Ахиезер, 1994). Именно она повлекла за собой качественные цивилизационные изменения, втягивая в орбиту своего влияния и другие территории посредством формирования городских агломераций.
Таким образом, культура – динамичный процесс, находящийся в постоянном синтезе (Зиммель, 1996: 457), а проблемы ее качественных изменений связываются научным сообществом с урбанизацией. Потому в XX в. они оказались в центре внимания представителей различных отраслей научного знания – прежде всего философии, социологии, психологии, урбанистики – и продолжают оставаться актуальными до сих пор. Следовательно, рассмотрение данных вопросов через призму истории культуры вполне оправдано и целесообразно.
Й. Хёйзинга, осмысливая качественные изменения в истории мировой культуры, в свое время писал, что «история – это духовная форма, в которой культура отдает себе отчет о своем прошлом» (Хёйзинга, 2013). В 1930-е гг. исследователь в качестве общественного деятеля работал в Международном комитете по интеллектуальному сотрудничеству (предшественник ЮНЕСКО, Лига Наций) и много времени посвятил защите культуры от нараставшей опасности «интоксикации» нацистской идеологии (Хёйзинга, 2013). Вопросы выживания и сохранения подлинной культуры Й. Хёйзинга считал делом интернациональным. Потому любую науку XX в. он отождествлял с гигантской национально-интернациональной организацией, полагая крайне важным для нее взаимодействие широкого круга ученых, обладающих разными точками зрения. Исследователь считал, что именно такой подход должен способствовать более глубокому изучению процессов, протекающих в истории культуры и взаимному обогащению выдвигаемых концепций и суждений. История культуры могла бы только выиграть от такого тесного контакта (Хёйзинга, 2013).
Во второй половине XX в., после завершения Второй мировой войны, самой развитой в технологическом отношении страной мира являлись США, где уже в 1950–1960-е гг. происходило формирование постиндустриального общества. Данное обстоятельство вызвало серьезные трансформации в американской культуре, чему в значительной степени способствовали миграционные процессы и быстро развивавшаяся промышленность. В этот же период стало формироваться антиколониальное движение, в ходе которого целый ряд стран оказался пред выбором собственного пути политического и экономического развития.
Изменение культурного ландшафта и переход к качественно новому уровню развития экономики обусловили необходимость изучения и научного переосмысления глобальной социокультурной ситуации. Заметную роль в этом процессе сыграли крупнейшие университеты мира. США, где ко второй половине XX в. сложились собственные школы социологических и антропологокультурологических исследований, в этом плане стали претендовать на позиции лидера, так как их научный потенциал за годы войны не только не пострадал, но и приумножился. Так, например, в Гарвардском университете под руководством П.А. Сорокина еще в первой половине XX в. сложилась мощная социологическая школа. Воспитанником данного учебного заведения являлся Р. Мертон – один из классиков и крупнейших представителей структурного функционализма. Его педагогическая деятельность была тесным образом связана с Колумбийским университетом, где сформировалось ядро исследователей в области социологии и культурной антропологии, изучавших глубинные процессы развития общества. Здесь же на протяжении длительного времени исследованиями в области прикладной социологии руководил П. Лазарсфельд, разработавший программы преподавания для университетов Осло, Вены, Питтсбурга. Одним из выдающихся выпускников, а затем преподавателей (1959–1971) Колумбийского университета был и И. Вал-лерстайн, который на протяжении длительного времени разрабатывал теоретические вопросы социально-экономического развития общества. Он стал одним из авторов мир-системной теории в социологии, в определенной степени продолжив идеи, высказанные Ф. Броделем о тесной связи истории повседневности с социальными процессами (Бродель, 1993).
В целом можно сказать, что на базе высших учебных заведений Америки возникли и успешно развивались крупные научные школы: модернизации (структурно-функционального анализа – Р. Мертон, П. Лазарсфельд, И. Валлерстайн и др.), культурной антропологии (эволюционизм – Л. Уайт, этнопсихологическое направление – Р. Бенедикт) и другие.
Американский социолог Р. Ольденбург, исследовавший городскую культуру США второй половины XX в. в связи с быстрым ростом субурбии, ставшей обратной стороной урбанизации, впервые ввел в научный оборот термин «третье место». Подходя к проблеме основательно, он изучил культурную жизнь больших городов США, Англии, Германии, Франции, Австрии, Австралии на богатом фактическом материале и обосновал собственное понимание социокультурной ситуации мегаполиса в своих работах: «Отличное хорошее место: кафе, кофейни, общественные центры…», «Празднование третьего места: вдохновляющие истории о “замечательных хороших местах” в центре наших сообществ» (Oldenburg, 1999). Таким образом, разрабатывая концепцию «третьего места», Р. Ольденбург опирался на широкий горизонт достижений других исследователей, в поле зрения которых находились различные аспекты формирования и развития городской культуры, а также факторы, влиявшие на эти процессы.
Льюис Мамфорд, современник Р. Ольденбурга, изучавший историю развития техники и городов мира, считал, что во все времена «образ большого города требовал изрядного человеческого усердия и труда» (Мамфорд, 2001). Наряду с внутренними конфликтами и сопровождавшими этот процесс трудностями, город, тем не менее, раскрыл перед человеком и новые возможности. Ценность исследования Мамфорда состоит в том, что он выделил основные стадии развития города в истории человеческой цивилизации, предложив емкую концепцию, показавшую обусловленность трансформации культуры процессами экономического и социально-политического развития (табл. 1).
Таблица 1 – Основные стадии развития города в истории цивилизации в концепции Л. Мамфорда (Мамфорд, 2001)
|
№ п/п |
Стадия |
Характерные черты и функции |
Эволюция культуры |
|
1. |
Эополис |
Формируется прототип города – сельскохозяйственная деревня. Защита, хранение продуктов, жизнеутверждение |
Развитие форм коллективного искусства |
|
2. |
Полис |
Ассоциация деревень с общностью: жизни, земли; собраний, обмена продуктами, предметами ремесла; общее божество и место поклонения |
Начало развития образования, науки, искусства. Дифференциация знаний |
|
3. |
Метрополис |
Формирование городов как центров регионов с преимуществами в расположении, запасах питьевой воды, защищенности и т.п. Развитие торговли |
Развитие библиотек, университетов, органов центрального управления, судов |
|
4. |
Мегаполис |
Концентрация города вокруг бизнеса и силы, формирование олигархии, финансирующей войну. База сельского хозяйства становится незначительной. Маленькие города объединяются в сеть мегаполисов |
Развитие стандартизации культурного производства. Образование становится количественным, культура – средством разобщения. Знания отделяются от жизни |
|
5. |
Тиранополис |
Распространение паразитизма в экономике и социальной жизни. Увеличение разрыва между классами-«производителями» и классами-«транжирами». Военные конфликты, голод, эпидемии. Появление диктаторов-гангстеров |
Негативные процессы жизни общества парализуют все высшие проявления культуры. Деморализация |
|
6. |
Некрополис |
Голод, эпидемии, войны истощают город и деревню |
Памятники и книги не несут сообщающих знаний |
Великобритания стала первой страной в мире, где уже в середине XIX в. была зафиксирована урбанизация. Ее катализатором явилась промышленная революция, ускорившая и развитие транспорта. Стоит отметить, что стабильный рост населения в стране происходил практически на протяжении столетия – с середины XVIII до середины XIX вв., причем не только в крупных, но и в провинциальных городах. В начале XIX в. только жителей Лондона насчитывалось более 100 тыс., а к середине века аналогичных показателей достигли Бирмингем, Лидс и Бристоль. Еще более стремительно росло население Манчестера и Ливерпуля, которые в 1830 г. были соединены железной дорогой. К середине века количество жителей в них увеличилось до 250 тыс. человек. В начале 1860-х гг. уже 38 % англичан проживали в городах с населением более 20 тыс. человек1.
В то же время в США процессы урбанизации были запущены во второй половине XIX в., а к концу столетия миграция сельского населения в города, постепенно становившиеся крупными промышленными центрами, приобрела значительные масштабы. Если в 1860 г. в стране насчитывалось девять городов с населением более 100 тыс. человек, то к 1910 г. их было уже 50. Нарастание процесса урбанизации происходило вплоть до начала 1930-х гг. и подпитывалось быстрыми темпами развития промышленности, а также желанием переселенцев найти хорошую работу и улучшить свое материальное положение. В конце XIX – начале XX вв. усилился поток иммигрантов в США (в основном из Южной и Восточной Европы, с территории Балканского полуострова, Ближнего Востока), которых привлекала стабильность американского государства, высокие темпы его экономического развития, большие возможности самореализации (Валюженич, 2000: 55–60).
В начале XX в. быстро растущие города США – Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Вашингтон, Даллас и другие – стремительно превращались в мегаполисы (табл. 2), а их население до середины 1950-х гг. продолжало расти (исключая период великой депрессии). Быстрое развитие транспортных коммуникаций катализировало данный процесс. По темпам промышленного развития в XX в. США существенно опережали страны Европы. Мировые войны не затронули их территории, что привлекло в страну не только свежие силы трудовой и интеллектуальной иммиграции, но и сделало ее экономику выгодным объектом для инвестиций.
Таблица 2 – Численность населения крупнейших городов США в XIX–XX вв.1
|
Мегаполис |
Период |
||||
|
1850 |
1900 |
1930 |
1950 |
1970 |
|
|
Нью-Йорк |
696 115 |
3 437 202 |
6 930 446 |
7 891 957 |
7 894 862 |
|
Чикаго |
29 963 |
1 698 575 |
3 376 438 |
3 620 962 |
3 366 957 |
|
Лос-Анджелес |
1 610 |
102 479 |
1 283 048 |
1 970 358 |
2 811 801 |
|
Филадельфия |
121 376 |
1 293 697 |
1 950 961 |
2 071 605 |
1 948 609 |
|
Хьюстон |
2 396 |
44 633 |
292 352 |
596 163 |
1 232 802 |
|
Вашингтон |
51 687 |
278 718 |
486 869 |
802 178 |
756 510 |
|
Бостон |
136 881 |
560 892 |
781 188 |
801 444 |
641 071 |
|
Даллас |
– |
42 639 |
260 475 |
434 462 |
844 401 |
В первой половине XX в. в США стали формироваться сверхурбанизированные зоны (субурбии). В 1920-х гг. городское население США составило более половины всех жителей страны. Значительная его часть проживала в сверхкрупных городах (см. табл. 2).
Процесс субурбанизации с новой силой возобновился после Второй мировой войны, чему в большей степени способствовало развитие автомобильной промышленности США, а также характер государственной жилищной политики, направленной на поощрение частного строительства. В результате с середины XX в. стали быстро развиваться пригородные зоны, что повлекло за собой разделение населения не только по имущественному, но и по расовому признаку (Валюженич, 2000: 70–74).
Усложнявшаяся социально-культурная ситуация крупных городов была подвергнута изучению со стороны социологов, антропологов, представителей феминистского движения, общественных деятелей (Addams, 1910; Kenneth, 1922; O’Connor, 1968). Их работы были опубликованы задолго до выхода в свет исследования Р. Ольденбурга. В трудах упомянутых авторов поднимались вопросы социальной адаптации, освоения культурного пространства, проблема организации досуга больших масс населения. Нередко исследователи выступали в роли не только теоретиков, но и практиков рассматриваемого процесса. Так, крупный общественный деятель, социолог и писатель Джейн Аддамс в 1889 г. основала в бедном квартале Чикаго благотворительную организацию Халл-Хаус (по типу лондонского Тойнби-Холла), ставший одним из первых в Северной Америке центров социальной адаптации (ЦСА) иммигрантов (Харченко, 2021).
В конце XIX – начале XX вв. в среде интеллигенции Великобритании и США начало развиваться движение поселений (Settlement Movement), главный смысл которого заключался не просто в материальной помощи нуждающимся, а в тесном взаимодействии благотворителей с их подопечными. Основатели ЦСА, как правило, сами проживали на территории созданных ими центров, справедливо полагая, что активная благотворительная деятельность должна была воспитывать всех участников процесса. Д. Аддамс в ходе своей многолетней деятельности пришла к выводу о том, что одним из главных обстоятельств, способствующих поддержанию стабильности и здорового морально-психологического климата в обществе, является правильная организация досуга людей. Рассматривая большие возможности индустрии отдыха крупного города в своей работе «Дух молодежи и улицы города» («The Spirit of Youth and the City Streets»), она, тем не менее, констатировала: «И все же весь аппарат для доставления удовольствия крайне неадек-
-
1 Demographics of the United States [Электронный ресурс] // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/De- mographics_of_the_United_States#:~:text=The%20United%20States%20had%20an,just%20over%20330%20mil- lion%20residents (дата обращения: 05.05.2022).
ватен и полон опасности для любого, кто может к нему приблизиться» (Addams, 1910). Возможность предотвращения формирования дурных наклонностей в среде молодых иммигрантов и сублимации их энергии Д. Аддамс видела в правильной организации их отдыха. Халл-Хаус, обладавший обширной инфраструктурой, готов был предоставить гражданам достойную альтернативу, приемлемую для различных возрастных групп. В ЦСА функционировали разного рода курсы и кружки, художественная студия, библиотека, кофейня. Данное социальное движение нашло своих последователей. К 1920 г. в США уже действовали около 500 подобных центров, в которых жили и работали инициативные женщины (Bruce, 2015).
Таким образом, рассмотренная выше работа Д. Аддамс стала одной из первых, содержавших мысль о необходимости организации культурного пространства большого города, которое могло бы предоставить возможность качественного отдыха его жителям. Особое беспокойство у исследователя вызывало психологическое состояние и судьба молодых иммигрантов, оказавшихся вдали не только от родителей, но и от родины, в абсолютно новой для них социокультурной среде.
Что же касается проблемы места, то впервые в научной литературе США ее начал разрабатывать историк и социолог Макс Лернер. Он обозначил ключевые вопросы формирования американской цивилизации и отметил, что все ее неудачи и успехи, образ жизни и мыслей граждан тесно увязываются с аналогичными аспектами, наблюдавшимися «в странах-прародительницах» (Lerner, 1957). Так, он доказывает, что первоначально значимую роль в исторической судьбе США сыграла Англия и ее культурное наследие, оставившее глубокий след в формировании языка нации, законов общего права, фундаментальных государственных институтов и др. Но в конце XIX в. в регионе стало нарастать немецкое влияние, а в XX в. воздействия на американскую традицию были довольно разнородными. Сам Лернер называет их «многоязыким нашествием». Словом, каждая группа иммигрантов привносила собственные штрихи в процесс формирования американского общества, но, как отмечает исследователь, такое влияние было взаимным и избирательным.
Интенсивное развитие промышленности, транспорта и предпринимательства в конце XIX – начале XX вв. привело к буму градостроительства в США. В этот период быстро развивались Детройт, Лос-Анджелес, Хьюстон, Даллас, Сиэтл, Портленд и другие города, формировалась их специализация. Мегаполисы представляли собой средоточие колоссальной энергии, являясь «продуктом революций в производстве, энергетике, транспорте и коммуникациях» и концентрируя на своей территории большие массы людей. Параллельно росло значение сельскохозяйственных районов, где города выступали центрами сбыта фермерской продукции. Все они нуждались в рабочей силе, недостатка в которой не было: молодежь привлекала в города свобода, романтика и стремление осуществить собственные мечты. Тем не менее социокультурная ситуация в стране далеко не всегда оказывалась благоприятной для развития личности. Продвижение по пути внедрения новых технологий сопровождалось разрушением старых и выстраиванием новых социально-экономических связей, вызывая серьезные трансформации в культуре.
Лернер справедливо отмечал, что американский город, порожденный обстоятельствами технического и экономического развития, безусловно, предоставлял возможности для самореализации людей, но в то же время он обострял проблему человеческого одиночества. Мест для душевного общения с течением времени оставалось все меньше и меньше. «Ни город-гигант, ни уютное предместье в своем сегодняшнем виде не способны решить проблему места в Америке …, не может решить ее и современный городок», – писал М. Лернер (Lerner, 1957). Вместе с тем исследователь полагал, что прогрессирующая децентрализация промышленности и уход ее в пригородные зоны не внесет рокового дисбаланса в формирование культурной среды маленького городка. Развитие современных видов транспорта поможет сделать доступными школы, медицинское обслуживание, развлечения и т.п. Иными словами, в работе Лернера прослеживается определенная доля оптимизма по поводу возможности формирования культурного пространства субурии, которое будет располагать комфортными зонами для качественного отдыха.
В то же время Р. Ольденбург полагал, что, входя в процесс субурбанизации, американская культура теряет нечто важное. Исследуя реалии современной ему социокультурной действительности, он проявлял интерес к неформальной общественной жизни (НОЖ), которая, во-первых, создает ощущение наполненности индивидуального существования отдельного человека, а во-вторых, постоянно подпитывает низовую демократию (Ольденбург, 2014: 9–10). В первой главе своего исследования, расставляя акценты в формулировке понятий, Ольденбург отмечает, что тональность работы «требует более простого» названия ключевых точек НОЖ, находящихся в центре его внимания. Вместе с тем он констатирует отсутствие в разговорном языке такого понятия: «У нас нет никакого достойного аналога французскому “рандеву”. Американский аналог “hangout” имеет негативный подтекст и не отражает всего спектра социокультурных и психологических аспектов общения». Потому, «не найдя подходящего понятия», он решает использовать в своем исследовании термин «третье место», то есть «дом вдали от дома» (Ольденбург, 2014:
-
57). Значимость существования таких точек в пространстве города Ольденбург ставит в зависимость от культурного окружения человека и исторической эпохи.
В отличие от других авторов, на наш взгляд, Ольденбургу удалось обозначить более или менее ясную структуру предлагаемой им концепции «третьего места». Основными ее элементами, оказавшимися в центре внимания социолога, стали проблемы организации полноценной повседневной жизни жителя современного большого города; понимания окружающей среды как важнейшего фактора формирования культуры; осознания одиночества как дезорганизующего фактора; подтверждения интегрирующей социокультурной роли «третьих мест» и их способности заменить собой образ «цельной жилой среды» маленького городка. В результате концепция «третьего места» произвела большой резонанс в обществе и стала достаточно обсуждаемой не только в США, но и по всему миру (Oldenburg, 1999).
Следует отметить, что четкой трактовки понятия «третьего места» Р. Ольденбург не предлагает. Но вместе с тем он описывает характерные черты, которыми оно должно обладать. Ключевым признаком «третьего места» является нейтральность территории, ее доступность и неприметность на первый взгляд («уравновешивающее» пространство), где возможно ни к чему не обязывающее общение. Кроме того, крайне важными факторами признаются душевный и психологический комфорт участников коммуникации. Словом, в процессе общения особую ценность приобретает атмосфера социального равенства, в которой человек оценивается по личностным качествам, а не его материальному положению (Харченко, 2021: 199–204).
Таким образом, Ольденбург стремился понять истинную роль неформальной публичной жизни в создании социокультурного ландшафта большого города, чтобы затем выявить ее влияние на жизнь индивида и нации в целом. Исследуя данную проблему, ученый отмечает, что разрастание субурбанизированных зон носит исключительно коммерческий характер, а представители деловой сферы «демонстрируют свое полное пренебрежение» к сложившимся традициям общения. Осуществляя регламентированную застройку пригородов комфортным жильем, они разрушают устоявшиеся варианты общения, не предлагая новых возможностей. Данную ситуацию Ольденбург считал опасной, ведущей к духовной стерилизации общества, то есть к его разобщению. Специфика «третьих мест», по его мнению, состоит в их важной культурно-исторической роли – сохранении посредством НОЖ механизма преемственности духовных традиций в обществе (Ольденбург, 2014: 60–61).
В работе Р. Ольденбурга явно просматриваются тонкие грани переосмысления феномена игры в культуре, развитые в свое время Й. Хёйзингой. Глобальные потери способствуют вытеснению подлинности из контекста культурно-исторического развития («никто не может отправиться в место, которого нет, и получить опыт, который … невозможен»), что обедняет общество. «Люди сначала формируют окружающую среду…, а затем окружающая среда формирует и контролирует их» (Oldenburg, 1999). Таким образом, среда, в которой человек проживает каждый свой день, является активной формирующей силой. Чем больше в ней позитивных впечатлений, тем здоровее общество.
В России интерес к работе Р. Ольденбурга возник в начале XXI в., когда был осуществлен ее перевод (Ольденбург, 2014). Популяризации исследования в известной степени способствовала рецензия С. Львовского, который, полагаем, стремился к объективности оценок. Тем не менее хотелось бы отметить, что вне поля зрения рецензента осталась беспокоившая автора в процессе работы над книгой проблема1. Вместе с тем согласимся с мнением С. Львовского о том, что работы, подобные книге Ольденбурга, нечасто попадают в поле зрения отечественного читателя. В целом же отметим, что публикации, посвященные данному вопросу, можно разделить на две части: первую составят исследования, анализирующие прикладные аспекты реализации идеи Ольденбурга об устройстве мест неформального общения («хороших третьих мест») с целью организации досуга; а вторую – труды, содержащие теоретическое осмысление проблемы, анализ условий, способствовавших серьезным изменениям в культуре и механизме формирования новых тенденций ее развития.
Таким образом, возникновение и развитие факторов, повлиявших на формирование концепции «третьего места» Р. Ольденбурга, происходило на протяжении всего XX в. и сопутствовало развитию индустриального общества в крупных странах Западной Европы и США. США, совершившие значительный рывок в экономическом развитии, генерировали новые идеи в объяснении социокультурных процессов, развивавшихся в больших городах, и достигли в данной области значительных успехов (Гарвардский и Колумбийский университеты). Сформировавша- яся база знаний сделала возможным возникновение концепции «третьего места», которая представляется значимой и интересной с точки зрения выявления механизмов развития социальнокультурной среды, позволяющей обеспечить жизнеспособность гражданского общества. Рей Ольденбург, размышляя над ключевыми аспектами этой проблемы, не только затронул вопросы формирования культурного пространства постиндустриального общества, но и попытался сформулировать ее методологические основания. Эта проблема, безусловно, актуальна, имеет интернациональные черты и перспективы развития.
Список литературы Возникновение и развитие концепции «третьего места» в зарубежной историографии
- Ахиезер A.C. Воплощение свободы или средоточие зла? Методология анализа города как фокуса урбанизационного процесса // Земство: архив провинциальной истории России. 1994. № 2. С. 16-28.
- Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск, 1993. 126 с.
- Валюженич А.В. Особенности урбанизации, расовая и этническая структура населения крупнейших городов США: историко-этнографический подход // Экономические и социальные проблемы России. 2000. № 1. С. 31-40.
- Зиммель Г. Избранное : в 2 т. М., 1996. Т. 1. 670 с.
- Кряжева М.Ф., Шакирова Э.С. Библиотека как «третье место»: реализация концепции // Библиосфера. 2019. № 3. С. 93-98. https://doi.org/10.20913/1815-3186-2019-3-93-98
- Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. М., 2001. 416 с.
- Мамфорд Л. Техника и природа человека // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 225-240.
- Нещерет М.Ю. Цифровизация процессов обслуживания в библиотеках - это уже реальность // Библиосфера. 2019. № 2. С. 19-25. https://doi.org/10.20913/1815-3186-2019-2-19-25
- Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, солоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества. М., 2014. 456 с.
- Плешкевич Е.А. К вопросу о кризисе отечественного библиотечного дела: есть ли свет в конце туннеля? // Библиосфера. 2019. № 3. С. 27-34. https://doi.org/10.20913/1815-3186-2019-3-27-34
- Харченко Л.Н. К вопросу о концепции «третьего места» и ее трактовке в отечественной научной литературе // Современные наука и образование. Достижения и перспективы развития : в 2 ч. Часть 2. Керчь, 2021. С. 199-204.
- Хёйзинга Й. Осень Средневековья: исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. СПб., 2013. 767 с.
- Addams J. The Spirit of Youth and the City Streets. N. Y., 1910. 162 р.
- Bruce B.C. What Jane Addams Tells us About Early Childhood Education // International Handbook of Progressive Education. N. Y., 2015. Pp. 437-450.
- Kenneth R.L. Why Europeans Leave Home. N. Y., 1922. 356 р.
- Lerner M. America as a Civilization: Life and Thought in the United States Today. N. Y., 1957. 1036 p.
- O'Connor R. The German-Americans: An Informal History. Boston, 1968. 484 р.
- Oldenburg R. The Great Good Place. Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bar, Hair Salons and Other Hangouts at the Heart of a Community. N. Y., 1999. 336 р.