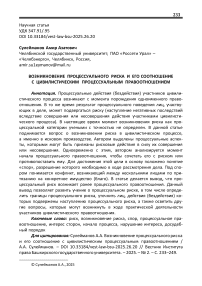Возникновение процессуального риска и его соотношение с цивилистическим процессуальным правоотношением
Автор: Сулейманов А.А.
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Гражданский процесс, арбитражный процесс
Статья в выпуске: 2 (26), 2025 года.
Бесплатный доступ
Процессуальные действия (бездействия) участников цивилистического процесса возникают с момента порождения одноименного правоотношения. В то же время результат процессуального поведения лиц, участвующих в деле, может подвергаться риску (наступление негативных последствий вследствие совершения или несовершения действия участниками цивилистического процесса). В настоящее время момент возникновения риска как процессуальной категории учеными с точностью не определен. В данной статье поднимается вопрос о возникновении риска в цивилистическом процессе, а именно в исковом производстве. Автором выделены процессуальные аспекты, которыми могут быть признаны рисковые действия в силу их совершения или несовершения. Одновременно с этим, автором анализируется момент начала процессуального правоотношения, чтобы сочетать его с риском или противопоставить ему. Для достижения этой цели в основу положено понятие «спор», разрешение которого необходимо в ходе рассмотрения дела. Под спором понимается конфликт, возникающий между несколькими лицами по притязанию на конкретное имущество (благо). В статье делается вывод, что процессуальный риск возникает ранее процессуального правоотношения. Данный вывод позволяет развить учение о процессуальном риске, в том числе определить границы процессуального риска, уточнить лиц, действия (бездействия) которых подвержены наступлению процессуального риска, а также осветить другие вопросы, которые могут возникнуть в ходе практической деятельности участников цивилистического правоотношения.
Риск, возникновение риска, спор, процессуальное правоотношение, интерес сторон, начало процесса, нарушение интереса, досудебный порядок
Короткий адрес: https://sciup.org/142244945
IDR: 142244945 | УДК: 347.91/.95 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2025.26.20
Текст научной статьи Возникновение процессуального риска и его соотношение с цивилистическим процессуальным правоотношением
Введение. Посредством механизма процессуальных правоотношений сторона защищает свои нарушенные или оспариваемые права. Защита может проявляться в использовании досудебного порядка урегулирования спора или посредством обращения в суд. При этом, совершая те или иные действия, участники процессуального правоотношения подвергают их результат опасности, который выражается в наступлении негативных последствий, например: для истца – отказ в удовлетворении исковых требований, для ответчика, наоборот, удовлетворение требований истца.
Основой для наступления негативных последствий являются действия рискующего. При этом момент возникновения процессуального риска в насто- ящее время не установлен. Данная проблема возникает по той причине, что в настоящее время отсутствует полное и всестороннее учение о процессуальном риске. Такое обстоятельство порождает множество вопросов и задач, которые возникают при разрешении споров между участниками гражданского оборота. В целях настоящего исследования под процессуальным риском мы будем понимать потенциальную возможность наступления негативных последствий для участников гражданского судопроизводства. Данное понятие не содержит исчерпывающих признаков рассматриваемого понятия, однако оно поможет другим исследователям данной темы искоренить возможные тавтологические споры относительно настоящей работы.
Исследование вопроса . По поднимаемому вопросу исследователи процессуального риска приходят к различным выводам. И.В. Решетникова, связывая процессуальное и материальное право, указывает, что риск в процессе является продолжением предпринимательского риска [1, с. 94]. А.В. Юдин отмечает, что любой материальный риск должен проецироваться лицом на потенциально возможный процессуальный риск [2, с. 20]. В свою очередь, Н.С. Звягина считает, что процессуальный риск сопровождает процессуальные действия и бездействия и обращает внимание на безусловную связь процессуального риска с процессуальным поведением сторон. В связи с этим, автор приходит к выводу, что под рисковыми процессуальными действиями стоит понимать действия лиц, участвующих в деле, и их представителей, предполагающие выбор варианта поведения и вероятность наступления разных последствий [3, с. 15]. Как видно из приведенных мнений, ученые различно понимают время возникновения процессуального риска. Вместе с тем, данный вопрос подробно ими не рассмотрен.
В ходе исследования выделены существующие точки зрения о возникновении судебного процесса. При их сравнении автор настоящего исследования анализирует момент начала развития процессуального риска, с наступлением обстоятельств которого возникает потенциальная опасность наступления негативных последствий. Выводы, полученные в ходе исследования о различном моменте возникновения цивилистического процессуального правоотношения и процессуального риска, представляют научную новизну исследования.
Целью статьи является пополнение теоретического объема знаний об учении о процессуальном риске, в ходе исследования которого дополнительно поднимается вопрос о необходимости рассмотрения начала цивилистического процесса с момента образования спора между сторонами. Такое понимание процессуального правоотношения позволяет определить, что риск при всех возможных точках зрения не соприкасается с названным правоотношением, а возникает раньше его. Данной целью определяются соответствующие задачи работы, которыми являются определение теорий возникновения процессуального правоотношения, определение момента возникновения спора и влияние тех или иных институтов на развитие процессуального риска.
Теоретическая значимость работы проявляется в определении момента начала процессуального риска. Выявление особой конструкции необходимо для подтверждения выводов настоящего исследования, в связи с чем принят подход к расширению понятия цивилистического процесса. Практическая значимость исследования направлена как на ликвидацию возможного наступления негативного последствия, так и на минимизацию последствий для участников судопроизводства.
Методология исследования основывается на анализе трудов отечественных и зарубежных авторов, материалов судебной практики и российского законодательства. В качестве методов исследования использовались научное познание, сравнение, анализ и синтез, индукция и дедукция и формальнологический метод.
Результаты. Для решения поставленных задач мы считаем необходимым рассмотреть момент возникновения процессуального риска при степени влияния на результат процесса. Конечно, любое процессуальное действие или бездействие влияет на итог процесса. Но, на наш взгляд, результат исхода процесса в большей степени составляют, с одной стороны, сбор и представление доказательств и истечение срока исковой давности – с другой стороны.
Рассмотрение спора в суде парализует материальное правоотношение сторон, приводя его в неопределенность. Возникшая неясность означает, что в ходе исполнения или неисполнения действий неясность не может быть с точностью определена и зависит от правильности и своевременности рассмотрения и разрешения дела и установленных в нем фактических обстоятельств дела. Спор между сторонами основывается на конкретизации их требований и возражений, которые опираются на аргументирование, поэтому в каждом конкретном случае возможность убеждения одним лицом другого определяется в круге доказательств. Именно поэтому, стоит согласиться с С.И. Поварниным, который утверждал, что в абстрактном понимании под спором признается состязание доказательствами между спорящими. В качестве систематизации доказательств используются тезисы для убеждения одной стороны другой [4, с. 4– 5]. Доказательства сохраняют знания о фактах, имевших место в прошлом, обеспечивая установления истины по делу [5, с. 4]. Поэтому собранные доказательства дают возможность сторонам (с помощью привлекаемого государственного суда, частного арбитра или третьей стороны) разрешить спор.
В то же время сосредоточение доказательственного материала в суде первой инстанции реализует принцип концентрации процесса, поскольку такой сбор направлен на правильное рассмотрение и разрешение дела, а также и на последующую проверку законности и обоснованности судебного решения [6, с. 27]. В случае же, если до судебного процесса стороны не произведут сбор соответствующих доказательств и своевременно не представят их суду, то такое поведение может негативно сказаться как на принятии искового прошения судом
(неприложение к исковому заявлению доказательств), так и на продолжительности рассмотрения дела (возложение на сторону бремени доказывания под страхом негативных последствий). По этой причине истец может самостоятельно затянуть возбужденный им судебный процесс в силу непредставления доказательств или их недостаточности.
Согласно праву континентальной системы, обстоятельства, требующие доказывания, определяются гражданским материальным правом, а не судебной практикой. В связи с этим спорящие могут с достаточной определенностью установить какие обстоятельства будут приняты судом, а какие – нет. Следовательно, отсутствие действий по сбору доказательственного материала может стать одной из составляющих процессуального риска, возникающего до начала судебного процесса и проявляющегося в несвоевременности защиты нарушенного права.
Интересом в разрешении спора обладают обе стороны конфликта с целью установления правовой определенности в их правоотношении. С учетом того, что такой интерес всегда является противоположным, стороны могут прибегать к различным способам достижения результата, в том числе ответчик может заявить о пропуске срока исковой давности. Ведь такое заявление освобождает его от исполнения какого-либо обязательства.
Как обоснованно отмечает С.В. Сарбаш, фактически исковая давность благосклонно защищает существующий порядок от притязаний из прошлого и становится надежным свидетелем ответчика [7, с. 863]. Аналогичное понимание исковой давности как гражданско-правового инструмента защиты стороны от предъявленного ей иска приводится в судебной практике1. Ведь требование о защите права как основное право человека принимается судом к рассмотрению независимо от истечения срока исковой давности [8, с. 469].
По той причине, что исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, которая в силу положений законодательства несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении срока исковой дав-ности22, интерес истца подвергается риску неудовлетворения заявленных требований, в связи с чем нарушенное право будет считаться незащищенным. В случае же, если истец как лицо, опровергающее факт истечения срока исковой давности, должным образом не зафиксирует и не представит основания для применения положений о приостановлении срока исковой давности и/или его перерыва, то суд при наличии заявления ответчика предсказуемо прибегнет к применению института срока исковой давности и откажет в иске истцу. В связи с этим следует признать, что риск отказа в удовлетворении требований истца может быть обусловлен пропуском им срока исковой давности. Конечно, риск пропуска исковой давности не возникает для тех требований, на которые законодатель не распространил течение срока исковой давности. Поэтому стоит признать, что истечение срока исковой давности подвергает риску тот интерес, который зависит от названого института. По той причине, что срок протекает вне процессуальных правоотношений, процессуальный риск отказа в удовлетворении требований возникает до возбуждения судопроизводства по делу.
Названные обстоятельства могут встречаться в любых процессуальных правоотношениях. Однако это не означает, что процессуальный риск возникает исключительно из указанных аспектов.
До возбуждения судебного процесса его стороны могут принять условия по договорной подсудности, арбитрабельности спора или иного способа его урегулирования. Несмотря на то, что процесс сторонами еще не возбужден, они принимают на себя расходы, связанные с его возможным рассмотрением, толкованием, сложившимся в определенном судебном округе и затягиванием реального исполнения обязательства. В связи с этим стороны, осуществляя досудебные действия, принимают на себя риск несения дополнительных затрат, как временных, так и финансовых. Ввиду изложенного, мы считаем, что процессуальный риск возникает до возбуждения судопроизводства по делу. Здесь дополнительно стоит отметить, что риск обладает признаком возможного наступления последствий. Данная черта позволяет отнести к риску то действие, которое может и не наступить, но в тоже время при его реализации негативно повлиять на правовой статус рискующего.
По этой причине мы не можем согласиться с ранее указанной точкой зрения Н.С. Звягиной, поскольку риск, с ее точки зрения, возникает посредством осуществления процессуальных действий (бездействий) при рассмотрении дела судом.
В то же время возникает другая дилемма, а именно «соотношение порождения процессуального риска с моментом возникновения процессуального правоотношения». Иначе говоря, может ли отдельный аспект выделяться из общего контекста. Для ответа на поставленный вопрос необходимо понять то, с какого момента начинается процессуальное правоотношение.
Согласно преобладающей в литературе точке зрения, моментом возникновения процесса считается направление прошения в суд и его принятие органом государственной власти [9, с. 66; 10, с. 43; 11, с. 184; 12, с. 13]. Для оправдания указанной теории исследователи указывают, что обязательным участником рассматриваемого правоотношения является суд [13, с. 20; 14, с. 50, 52–53], поскольку разрешение проблемы совершенствования судебной деятельности играет важную роль для определения понятия предмета процессуальной деятельности [15, с. 168]. С другой стороны, такая позиция оспаривается рядом других ученых, которые считают, что процесс начинается раньше направления искового заявления и называют такое обстоятельство фикцией [16, с. 152; 17, с. 7–8; 18, с. 162–163].
Учитывая точку зрения ученых, считающих, что процессуальное правоотношение начинается до направления искового заявления, мы считаем, что необходимо учитывать цель обращения в суд. Как обоснованно утверждают некоторые исследователи, с момента проведения подготовки гражданского дела обеспечивается своевременное и правильное разрешение спора, в связи с чем целью судебной деятельности является разрешение спора о праве между истцом и ответчиком [19, c. 105; 20, с. 8]. Поэтому можно признать, что судебный орган по цели его деятельности является «привлекаемым» сторонами лицом для урегулирования возникшего спора.
В виду этого и учитывая положения утратившего силу3 1 и ныне действую-щего4 2 законодательства о праве лиц, чьи права и законные интересы на обращение в суд нарушены или оспариваются, мы считаем необходимым рассмотреть категорию «спора» и дать ей оценку как моменту возникновения процессуального правоотношения, а следовательно возможному возникновению процессуального риска.
Признание начала процессуального правоотношения с момента появления разногласий означает, что фиксация всех возникающих правоотношений будет если не невозможной, то затруднительной. Однако с учетом того, что государство не заинтересовано разрешать частноправовые споры [21, с. 349, 360], то отсутствие такой статистики не повлечет за собой негативных последствий.
При участии в гражданско-правовых отношениях его участники свободно распоряжаются своими правами, честно и добровольно выполняют свои обязательства [22, с. 11; 21, с. 343]. Однако в случае нарушения прав одной из сторон, конфронтация отношений между ними возрастает, что, как правило, перетекает в противостояние и дальнейшее порождение спора. Среди известных нам авторов работ, посвятивших свои труды спору, И.М. Зайцев подробно оха- рактеризовал его природу в учении о сущности хозяйственных споров. В частности, он указывал, что при существующих концепциях: спор как разногласие, спор как нарушение субъективных прав, спор как невозможность осуществления гражданских прав, необходимо все же рассматривать его в качестве правового конфликта с участием субъектов, наделенных равной правоспособностью, который может быть урегулирован самими сторонами или разрешен в исковом порядке [23, с. 18–24]. Наряду с этим, другие ученые определяют спор в качестве следующих признаков: 1) нарушение или оспаривание субъективных прав лица другим конкретным лицом; 2) предъявление субъектом защиты требования к нарушителю об определенном поведении; 3) неисполнение (препятствие в исполнении) нарушителем требования субъекта защиты [24, с. 5; 25, с. 98]. В целом названные признаки не противоречат работе М.И. Зайцева, в связи с чем считаем возможным применить их для дальнейшего исследования.
Под первым названным обстоятельством Д.И. Мейер понимал: «юридическое действие, направленное со стороны его автора к стеснению другого лица в осуществлении права» [26, с. 253]. Исходя из данного понятия следует, что спор должен быть «реальным» [27, с. 62–63, 66] (или как его именуют другие авторы «сосредоточенным» [4, с. 9]), поскольку в таком случае у сторон возникают противоположные интересы по поводу определенного предмета спора (потерпевший заинтересован в восстановлении своего положения, а правонарушитель – не осуществлять такое восстановление за счет своих сил и средств). В свою очередь, абстрактные условия спора не позволят спорящим определить: предмет спора, его ценность, противоположность интересов друг друга и других элементов положения потерпевшего. Поэтому можно признать, что спор, образующий процессуальное правоотношение, направлен на разрешение конкретных притязаний, касающихся предмета гражданского права.
Вместе с тем мы не можем признать возникновение спора с момента гражданского правонарушения несмотря на то, что имеется двусторонность отношения и нарушены интересы управомоченной стороны. Основанием для такого исключения является удовлетворение требований обязанным лицом в добровольном порядке.
Оспаривая точку зрения И.М. Зайцева о наличии субъективного элемента для возникновения спора, Э.Х. Губайдуллина считает, что субъективные процессы восприятия и оценки фактов объективной действительности индивидуальны и находятся вне пределов правового регулирования. В свою очередь, приводя свое собственное понимание возникновения спора, указанный автор отмечает, что для начала спора необходимо осознание (здесь и далее курсив мой – А.С.) ущемления своих интересов и направленное действие или целенаправленное бездействие одного участника против другого при условии, что последний понимает, что эти акты направлены против него, и противодействует им [28, с. 22]. Исходя из приведенного понимания возникновения спора следует, что в рассматриваемой работе автор критикует использование психологических процессов для определения спора, хотя в то же время не лишает себя возможности обращаться к оспариваемому ей критерию. По этой причине мы можем представить спор в качестве нарушения конкретного интереса одной стороны.
Как считал А.Г. Гойхбарг: «защищаемый интерес должен быть достаточным и серьезным» [29, с. 109]. Однако возникает вопрос: в чем именно должен выражаться такой интерес?
Р. фон Иеринг считал, что интерес должен иметь имущественное значение, чтобы пользоваться защитой прав [30, с. 31]. Оспаривая экономическую позицию, В.П. Грибанов определял, что интерес должен выражаться в потребности лица в благе, при этом форма потребности может быть различной, но она всегда выражает определенную целенаправленность действий лица [31, с. 245]. Д.И. Мейер указывал, что для обнаружения спора необходимо не просто нарушение интересов потерпевшего, но и его отношение к такому событию, ведь законодательство не понуждает потерпевшего к непременной защите его частных интересов, в связи с чем он может объявить о прощении долга [26, с. 259].
Позиции отечественных авторов мы считаем обоснованными, поскольку право не только регулирует и охраняет, но и развивается вместе с имущественными, а также с лично-неимущественными отношениями [32, с. 132], последние из которых могут быть не определены в денежном эквиваленте.
С другой стороны, противники излагаемой точки зрения могут утверждать, что в практике могут возникать случаи, когда исковое прошение подано лицом, требования которого в действительности не возникали (отсутствует легитимация). Такая позиция имеет место, поскольку в силу формального соблюдения требований к форме и содержанию искового заявления суд вынужден принять его к производству для дальнейшего рассмотрения дела по существу. В связи с этим судебное производство будет считаться начавшимся. Однако возникает вопрос: имеется ли в таком «обедненном» событии процессуального правоотношения элемент спора?
На наш взгляд, в таком случае наличие спора безусловно, но вместе с тем сторона, имеющая больший интерес в защите своего права, не выступает в роли нападающей стороны. Наоборот, в таком случае ее положение проявляется в качестве ответчика, на интересы которого необоснованно претендует другое лицо. При этом судебная практика относительно отсутствия заинтересованности в большей степени склоняется к самостоятельному и достаточному основанию для отказа в удовлетворении заявленного требования51. В связи с этим, применяя обо- значенный подход к интересу, мы считаем, что спор может возникнуть исходя из личностной оценки нарушенного интереса, что позволит конкретизировать обстоятельства спора, определить его перспективность и развитие.
Второй и третий ранее указанные критерии спора можно кратко обозначить как наличие стороны-антагониста, которая оспаривает или нарушает права другой. Ее отсутствие логически приведет к нивелированию самого спора, поскольку в таком случае будет отсутствовать обязательный элемент конфликта.
Вступить в гражданские правоотношения могут как физические, так и юридические лица, либо публично-правовые образования. При нарушении же права стороны распределяются по ролям потерпевшего и нарушителя. Их противостояние заключается в наличии заинтересованности относительно предмета спора, поскольку механизм удовлетворения интереса зависит исключительно от воли управомоченного лица, ведь он вторгается в правовое пространство лица, обязанного удовлетворить интерес первого [20, с. 13]. В свою очередь, заинтересованность субъекта нарушенного права или его нарушителя определяется в невозможности одностороннего определения меры вознаграждения или меры восстановления [26, с. 258].
Несмотря на то, что при требовании к определенному лицу (пострадавшего к нарушителю) о совершении определенного действия, стороны противостоят друг другу, им все же присущ характер частноправовых отношений [33, с. 325]. Причиной неприемлемости одностороннего выбора является влияние гражданско-правовых принципов, одним из которых является равноправие всех субъектов гражданского оборота. В связи с этим необходимо сделать второй промежуточный вывод о наличии равноправных сторон при возникновении конфликта.
Для прекращения спора стороны вынуждены либо прийти к соглашению (договорится между собой), либо передать спор на рассмотрение и разрешение другому лицу, которому предстоит выбрать надлежащее возмещение. Возникший спор самостоятельно не оказывается у другого лица. Наличие такого механизма предполагало бы вмешательство в гражданско-правовой спор и признание сторон зависимыми лицами. Однако, наоборот, они остаются равноправными членами гражданского оборота, задачей которых в возникшем правоотношении становится убеждение другого в правомерности его требований или возражений.
По этой причине моментом возникновения процессуального правоотношения не является факт передачи спора для урегулирования другому лицу. Именно поэтому для спора первоначально характерно невмешательство третьего лица для урегулирования возникших разногласий. В связи с этим мы можем сформировать вывод о том, что спором признается конфликт равноправных сторон, заинтересованных в его разрешении касательно определения судьбы предмета спора.
Предложенная формулировка спора предполагает, что цель обращения в судебный орган может быть реализована посредством иных способов (мето- дов) урегулирования спора. Например, при реализации института досудебного урегулирования спора, ведь, как указывает законодатель, на момент передачи спора третьему лицу между сторонами должны возникнуть разногласия61. Иное будет означать, что приглашенная независимая сторона не сможет определить круг вопросов, подлежащих исследованию, и установить конкретные права и обязанности сторон относительно предмета спора.
При таком понимании процессуального правоотношения мы расширяем его содержание, поскольку процедура разрешения спора концентрируются не только на судопроизводстве, но и на любом другом механизме, предполагающем разрешение спора.
С другой стороны, в качестве примера для подтверждения нашего суждения можно рассмотреть расходы, понесенные в досудебном производстве. Согласно действующему законодательству, судебные расходы возникают в связи с рассмотрением дела в суде, и они подлежат взысканию в пользу той стороны, которая получила положительный результат при рассмотрении и разрешения дела7 2 .
Разъясняя положения о судебных издержках, Верховный Суд Российской Федерации указывает, что расходы, понесенные стороной, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд, и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости и допустимости. Дополнительно им отмечается, что если сторона прибегла к обязательному досудебному урегулированию спора во внесудебном порядке и понесла в связи с этим расходы, то они также признаются судебными издержками8 3 .
Как следует из рассматриваемых положений, на «проигравшую» сторону возлагается риск несения расходов, которые возникли не только в судебном процессе, но и в ранее возникшем правоотношении. Тем самым высшая судебная инстанция, подобно учению М.А. Гурвича о движении процессуального правоотношения, определяет, что процессуальная деятельность суда следует за возникшим процессуальным действием, а не наравне и не перед ним [34, с. 27].
В то же время Пленум не отнес расходы, обусловленные рассмотрением, разрешением и урегулированием спора во внесудебном порядке, к судебным, по причине того, что судебная деятельность в таком случае не возникла9 1 .
Это не означает, что такие расходы не являются процессуальными. Судебный орган просто указал, что расходы могут быть как судебными, так и внесудебными. На наш взгляд, отсутствуют препятствия для взыскания понесенных процессуальных издержек, не составляющих судебные, путем предъявления требования о возмещении убытков10 2 . По этой причине, судебным органом признается, что стороны спора могут осуществлять процессуальные действия вне судебного разбирательства. Таким образом, досудебный порядок урегулирования спора должен признаваться частью процессуального правоотношения.
Относительно начала процессуального правоотношения по требованиям, рассматриваемым в суде в порядке особого производства, мы кратко отметим, что целью обращения заявителя является не разрешение спора, а установление какого-либо обстоятельства. Поэтому в данном случае названное правоотношение начинается с момента направления заявления и принятие его судом.
Вместе с тем, сформированная нами попытка расширения круга процессуального правоотношения не позволяет утверждать, что совместно с указанным правоотношением возникает процессуальный риск по следующим причинам.
Течение срока исковой давности в силу гражданско-правового нарушения начинается раньше, чем возникает спор между сторонами. Ведь для первого института безразлично субъективное отношение потерпевшей стороны. Для течения исковой давности необходимо только два элемента: факт правонарушения и объективное установление лица, которое это право нарушило.
Вместе с тем, исходя из реализованных действий по признанию, срок начинает свое исчисление заново. В это же время разногласия сторон и в этом случае могут возникать не всегда.
Более того, думается, что здесь отсутствует надлежащая важность рассмотрения данного вопроса, поскольку как известно срок протекает независимо от воли сторон [35, с. 212]. Одновременно с этим спор существует и зависит как от воли его сторон, так и в силу внешних обстоятельств (например, уничтожение имущества может как породить, так и прекратить спор). В связи с этим риск пропуска срока исковой давности возникает ранее порождения процессуального правоотношения.
Доказательственный материал начинает формироваться и собираться не с момента возникновения процессуального правоотношения, а путем добро- вольного вступления во взаимоотношение. Распространенным примером подтверждения материального правоотношения является оформление договора займа. Для доказательства существования заемных отношений стороны должны письменно оформить факт передачи денежных средств. Без надлежащего оформления данного отношения займодавец возлагает на себя риск отказа в удовлетворении исковых требований.
На основании изложенного мы считаем обоснованными точки зрения И.В. Решетниковой и А.В. Юдина, которые утверждают, что риск в процессе является продолжением материального риска.
Таким образом, процессуальный риск возникает ранее процессуального правоотношения, а не вместе с ним.