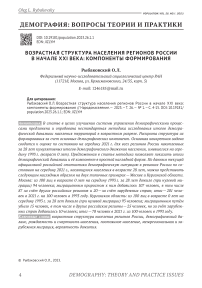Возрастная структура населения регионов России в начале XXI века: компоненты формирования
Автор: Рыбаковский Олег Леонидович
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Демография: вопросы теории и практики
Статья в выпуске: 1 т.26, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье в целях улучшения системы управления демографическими процессами предложена и опробована нестандартная методика исследования итогов демографической динамики населения территорий в возрастном разрезе. Раскрыта структура их формирования за счет основных демографических компонент. Основная конкретная задача сводится к оценке по состоянию на середину 2021 г. для всех регионов России накопленных за 28 лет кумулятивных итогов демографического движения населения, имевшегося на середину 1993 г. (возраст 0 лет). Предложенная в статье методика позволяет показать итоги демографической динамики и её компонент в простой наглядной форме. По данным текущей официальной российской статистики демографическую ситуацию в регионах России по состоянию на середину 2021 г., касающуюся населения в возрасте 28 лет, можно представить следующим наглядным образом на двух типичных примерах - Москве и Курганской области. Москва: из 100 лиц в возрасте 0 лет на середину 1993 г. за 28 лет дожило (при нулевой миграции) 94 человека; миграционным приростом к ним добавилось 107 человек, в том числе 87 за счёт других российских регионов и 20 - за счёт зарубежных стран; итог - 201 человек в 2021 г. на 100 человек в 1993 году. Курганская область: из 100 лиц в возрасте 0 лет на середину 1993 г. за 28 лет дожило (при нулевой миграции) 93 человека; миграционным путём убыло 15 человек, в том числе в другие российские регионы - 25 человек, но за счёт зарубежных стран добавилось 10 человек; итог - 78 человек в 2021 г. из 100 человек в 1993 году.
Возрастная структура населения регионов России, демографический баланс, рождаемость и смертность населения, постоянное население, межрегиональная и зарубежная миграция, вероятность дожития
Короткий адрес: https://sciup.org/143179833
IDR: 143179833 | DOI: 10.19181/population.2023.26.1.1
Текст научной статьи Возрастная структура населения регионов России в начале XXI века: компоненты формирования
В статье предложен отчасти нестандартный подход к анализу демографического баланса регионов России. Рассмотрены не общие итоги их демографического развития за определённые годы по текущим данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) 1 , как это обычно делается, а оценены кумулятивные результаты «демографического движения» [1, с. 81–88] постоянного населения регионов РФ, достигшего определённого возраста, а также компоненты этого движения. «Население, достигшее определённого возраста» взято в данной работе в качестве демонстрационного примера. В интересах планирования и прогнозирования социально-экономического развития страны и её территорий необходимо исследовать не лиц отдельного возраста, а возрастные интервалы населения, в том числе в половом разрезе. Это может касаться, к примеру, женщин наиболее активного репродуктивного возраста 25-39 лет, либо молодых мужчин мобилизационного возраста 20-34 года. Основной посыл данной статьи — предложение иного возможного пути анализа сложившейся демографической ситуации в регионах страны, выявления компонент её формирования и их пропорций. Нам важно показать принцип, как это может делаться, а расчёты по конкретным возрастным интервалам — это дело последующее.
Зачем нужен такой подход? Дело здесь не в том, что традиционный демографический баланс по текущим данным не отражает возрастную структуру населения, а при анализе генетической, или генезис-ной 2 [2, с. 58] структуры населения возрастные различия также обычно отсутствуют. Дело в том, что образующие массовые процессы отдельные демографические события (рождения, смерти, посто- янные выбытия и постоянные прибытия3 [3]) часто в пределах рассматриваемого периода, особенно, если он составляет не один год, а несколько, «накладываются» друг на друга. Так, число рождений и смертей дополнительно растёт за счёт постоянных прибытий и сокращается — за счёт постоянных выбытий. Миграционные потоки, корректно измеряемые не числом человек, а количеством постоянных перемещений, повторяются и часто «гасят» друг друга. И оценить по всем этим текущим общим потокам окончательные результаты демографической динамики определённых возрастных групп сложно. По такой текущей информации делать адекватные выводы об итогах и структуре формирования отдельных возрастных групп населения той или иной территории — проблематично. Попытке решить данную проблему и посвящена статья.
Цель работы — улучшение системы управления демографическими процессами на федеральном и региональном уровне за счёт альтернативной детальной информации об итогах демографической динамики населения территорий в возрастном либо половозрастном разрезе, о структуре их формирования за счёт основных компонент — воспроизводственной и миграционной. Объект исследования — население 844 субъектов (регионов) РФ по состоянию 1 января 2022 года. Предмет исследования — демографическая динамика населения регионов России, имевшего на середину 1993 г. возраст 0 лет, за период с 1993 по 2021 г., а также кумулятивные (итоговые) компоненты этой динамики. Основная задача статьи сводится к оценке по состоянию на середину 2021 г. для всех регионов России накопленных за 28 лет кумулятивных итогов демографи- ческого движения населения, имевшего на середину 1993 г. возраст 0 лет. Численность населения на середину года берётся для того, чтобы его можно было корректно сравнивать с демографическими процессами за год — рождаемостью, смертностью и миграцией. Исходным является 1993 г., так как Росстат в своей системе ЕМИСС5 последние, как минимум, лет пять предоставляет данные по всем регионам России касательно рождаемости и смертности с 1990 г., а по миграции — лишь с 1993 года. Вследствие чего период, по которому возможно проведение подобного исследования на основе общедоступных данных Росстата, приходится на 1993–2021 годы. В итоге получается срез динамики всех накопленных за 28 лет компонент демографического баланса выбранной для исследования возрастной когорты.
Методика исследования
Исходная когорта — численность населения в возрасте 0 лет на середину 1993 г. (S01993). За 28 лет оценивается вероятность дожития этой когорты до середины 2021 г. (P0-28). Первая величина (S01993) умножается на вторую (P0-28). Получается число доживших от 0 до 28 лет при полном отсутствии миграции, то есть по закрытому населению (S01993xP0-28). Полученное произведение сравнивается с численностью постоянного населения в возрасте 28 лет на середину 2021 г. (S282021). Различия между двумя величинами, (S01993xp0-28) и (S282021) объясняются миграцией и «накладками» четырёх компонент демографического баланса друг на друга, а также переписными поправками и регулярными улучшениями учёта постоянной миграции Росстатом и МВД РФ [4]. Оценивается роль каждой из компонент. В миграционной составляющей выделяются доли межрегионального и зарубежного миграционного приро-ста/убыли. При таком подходе все взаимные «накладки» компонент друг на друга «гасятся» окончательными результа- тами. В итоге имеем лишь действия двух основных составляющих — смертности и миграции.
Как рассчитать численность населения в возрасте 0 лет на середину 1993 г., исходя из имеющейся информации Росстата? Есть 2 варианта. Первый — по данным Росстата о численности постоянного населения на начало года для возраста 0 лет за 1993 и 1994 годы. Но тогда мы будем иметь дело уже с откорректированными Росстатом данными, то есть данными с учётом переписных поправок. Второй вариант— по данным Росстата о числе рождений по регионам России за 1992–1993 годы. Эти данные Росстат практически не трогал во время, как минимум, двух пост-перепис-ных ревизий демографической информации. Возраст 0 лет на середину 1993 г. имели все те, кто родился в первой половине этого года, а также все те, кто родился во второй половине 1992 года. Все они не достигли возраста 1 год к середине 1993 года. Миграция по данному возрастному интервалу нами не учитывается, ибо она несамостоятельная и мизерная (в возрастном разрезе). Младенческая смертность отнимается лишь частично, с учётом средней длины жизни до середины 1993 г. и различиями в младенческой смертности в 1992 и 1993 годах. При втором варианте расчёта приходится идти на допущение о равенстве пропорций полугодовых рождений в регионах и России, так как в Росстате доступны помесячные данные лишь для страны в целом.
Существует и проблема расчёта вероятности дожития от 0 до 28 лет в 1993– 2021 годах. Показатели вероятности дожития населения регионов имеются в открытом доступе лишь по годам XXI века. Вследствие чего для оценки вероятности дожития по всему периоду 1993–2021 гг. использовалась тесная статистическая взаимосвязь этих показателей с ожидаемой продолжительностью жизни при рождении, региональная информация по которой в Росстате представлена за весь рассматриваемый период. Также учитывалась общность тенденций в бесструктур- ных показателях смертности населения для подавляющего большинства регионов России за рассматриваемый период. Минимумы почти у всех были в 1994 и 2002– 2003 гг., один максимум — в 2019 году.
Следующая трудность — выделение в итоговом, внешнем для регионов миграционном приросте населения регионов России двух его составляющих—зарубежного и межрегионального сальдо миграции. Здесь мы вынуждены идти на два допущения. Первое—межрегиональный и зарубежный миграционный прирост населения регионов для рассматриваемого возраста 28 лет пропорционален общему межрегиональному и зарубежному миграционному приросту. Тем более, что основную массу мигрантов составляют молодые люди в возрасте от 16 до 40 лет. Второе допущение — для расчёта вклада двух составляющих миграционного прироста населения регионов (межрегионального и зарубежного) используются текущие данные из отчетов Росстата о миграции населения, а не расчётные величины, включающие учёт переписных поправок. Делается это вследствие того, что и сам Росстат разнести эти поправки на межрегиональный и зарубежный для регионов миграционный прирост или не может, или не решается. Да и как показывает наша многолетняя практика, индикаторы текущего учёта адекватно отражают миграционную ситуацию в регионах, даже при их основном недостатке — сопоставимости во времени. Основной фактор возникновения этого недостатка — регулярные изменения порядка учёта постоянной миграции в России Росстатом и МВД (ранее Федеральной миграционной службой) РФ [5, с. 189–194]. Более того, исходя из переписных добавок, оценить то, что с их учётом происходило в межрегиональной и зарубежной миграции по тому или иному региону в большинстве случаев вообще не представляется возможным.
Результаты
Переходя к интерпретации результатов миграции, далее будут раскрыты про- порции рассматриваемого возраста 28 лет. Но так как эти пропорции отчасти оценены по общим объёмам информации о текущей миграции, то, соответственно, все эти умозаключения будут в равной степени касаться и миграционных процессов в целом по рассматриваемым территориям. Произведённые описанным выше образом расчёты и оценки позволили выделить среди всех регионов России четыре группы по итогам демографической динамики возрастной группы 28 лет по состоянию на середину 2021 года.
Первая группа по итогам демографической динамики — это те регионы, в которых на середину 2021 г. численность постоянного населения в возрасте 28 лет ощутимо превышала численность тех, кто выжил к середине 2021 г. из числа лиц, кому было 0 лет на данной территории 28 лет назад без учёта миграции (табл. 1). Прежде всего, это основные и локальные миграционные реципиенты России: S0 1993 — численность населения в возрасте 0 лет на середину 1993 г.; P0–28 — вероятность дожития до середины 2021 г. когорты, чей возраст был 0 лет на середину 1993 г.; S 0 1993 xP 0-28 — число доживших от 0 до 28 лет с середины 1993 г. при нулевой миграции; S28 2021 — численность постоянного населения в возрасте 28 лет на середину 2021 года.
Практически все регионы из табл. 1 (кроме Республики Адыгея) — крупные по численности населения и высокоразвитые в экономическом плане территории страны. За исключение сибирских регионов и ХМАО вероятность умереть от 0 до 28 лет в этих регионах за 1993–2021 гг. составляла 5,5–6,5%, что чуть ниже, чем в среднем по России (6,5%). Эти регионы практически весь постсоветский период (за исключением Севастополя, в котором не было положительного миграционного прироста по доступной ранее информации лишь в 1994-1999 гг. 6 ) имели не только значительный миграционный прирост населения из зарубежья, но и выигрыва-
Таблица 1
Отдельные демографические показатели некоторых регионов России
Table 1
Selected demographic indicators of Russian regions
|
Регион |
S 1993 , тыс . ч0еловек |
р 0–28 , в долях 1 |
S0 1993 × P0–28, тыс . человек |
S2 8 2021 , тыс . человек |
S 28 2021 /( S 0 1993 × P 0–28 ),% |
|
г . Санкт-Петербур г |
34 , 6 |
0 , 943 |
32 , 6 |
65 , 6 |
201 , 2 |
|
г . Москва |
64 , 6 |
0 , 938 |
60 , 6 |
121 , 9 |
201 , 1 |
|
Московская обл. |
48 , 3 |
0 , 937 |
45 , 2 |
88 , 3 |
195 , 3 |
|
Ленинградская обл. |
13 , 0 |
0 , 938 |
12 , 2 |
23 , 0 |
188 , 8 |
|
г . Севастополь |
3 , 7 |
0 , 935 |
3 , 5 |
6 , 4 |
184 , 5 |
|
Томская обл. |
9 , 3 |
0 , 900 |
8 , 4 |
14 , 0 |
166 , 5 |
|
Калининградская обл. |
8 , 6 |
0 , 937 |
8 , 1 |
12 , 9 |
160 , 2 |
|
Юг Тюменской обл. |
14 , 0 |
0 , 966 |
13 , 6 |
20 , 1 |
148 , 4 |
|
Новосибирская обл. |
26 , 0 |
0 , 918 |
23 , 9 |
34 , 5 |
144 , 6 |
|
Ставропольский край |
30 , 5 |
0 , 944 |
28 , 8 |
41 , 3 |
143 , 5 |
|
Воронежская обл. |
22 , 1 |
0 , 942 |
20 , 8 |
29 , 3 |
141 , 1 |
|
ХМАО |
15 , 0 |
0 , 920 |
13 , 8 |
19 , 5 |
141 , 0 |
|
Белгородская обл. |
14 , 1 |
0 , 948 |
13 , 4 |
18 , 8 |
140 , 5 |
|
Краснодарский край |
52 , 2 |
0 , 938 |
48 , 9 |
68 , 2 |
139 , 5 |
|
Ростовская обл. |
43 , 7 |
0 , 939 |
41 , 0 |
53 , 8 |
131 , 0 |
|
Калужская обл. |
9 , 2 |
0 , 940 |
8 , 7 |
11 , 3 |
130 , 8 |
|
Самарская обл. |
30 , 6 |
0 , 935 |
28 , 6 |
37 , 3 |
130 , 3 |
|
Республика Адыгея |
5 , 0 |
0 , 941 |
4 , 7 |
6 , 1 |
130 , 3 |
|
Республика Татарстан |
42 , 5 |
0 , 937 |
39 , 9 |
50 , 1 |
125 , 7 |
|
Нижегородская обл. |
31 , 3 |
0 , 941 |
29 , 4 |
36 , 7 |
124 , 9 |
Источник: рассчитано на основе данных Росстата.— URL: ;
ли от внутрироссийской межрегиональной миграции. Здесь выделяются три основных миграционных магнита России. Это единые миграционные пространства–макрорегионы: Московский (Москва и Московская область), Ленинградский (Санкт-Петербург и Ленинградская область), а также Краснодарский (Краснодарский край и Республика Адыгея). Доля межрегионального миграционного прироста во всём миграционном приросте составляла для Москвы и Санкт-Петербурга — 85% и 82% соответственно, для Московской и Ленинградской областей — 73% и 74% соответственно, для Краснодарского края и республики Адыгея — 64% и 46% соответственно.
В других регионах из табл. 1 доля межрегионального миграционного прироста во всём миграционном приросте со- ставляла 33–39%, в Самарской области — 23%, а в Севастополе по данным за 2015– 2021 гг.— 44%. Лишь Томская, Ростовская и Калужская области, а также ХМАО, имели отрицательное сальдо межрегиональной миграции. Но миграционный прирост из–за рубежа эту миграционную убыль многократно превышал (в 4, 17, 8 и 5 раз соответственно).
Также в первой группе по итогам демографической динамики за регионами из табл. 1 идут крупные промышленные территории страны, отдельные области окружения Московского макрорегиона, а также Республика Крым и Республика Мордовия (табл. 2). Вероятность умереть от 0 до 28 лет в этих регионах в среднем за 1993– 2021 гг. составляла 5,7–7,4%. Лишь в Пензенской, Ярославской областях и Рес4пуб-лике Мордовии — немного ниже (5,0–5,4%).
Таблица 2
Отдельные демографические показатели некоторых регионов России
Table 2
Selected demographic indicators of Russian regions
|
Регион |
S 1993 , тыс. ч 0 еловек |
р 0–28 , в долях 1 |
S0 1993 × P0–28, тыс. человек |
S28 2021 , тыс. человек |
S 28 2021 /(S 0 1993 × P 0–28 ),% |
|
Волгоградская обл. |
26,6 |
0,940 |
25,0 |
30,9 |
123,6 |
|
Челябинская обл. |
35,0 |
0,938 |
32,8 |
40,3 |
122,8 |
|
Свердловская обл. |
41,8 |
0,936 |
39,1 |
47,8 |
122,1 |
|
Красноярский край |
32,1 |
0,935 |
30,0 |
35,8 |
119,5 |
|
Тульская обл. |
14,4 |
0,933 |
13,4 |
15,9 |
118,3 |
|
Рязанская обл. |
11,3 |
0,939 |
10,6 |
12,5 |
118,2 |
|
Астраханская обл. |
11,1 |
0,934 |
10,4 |
12,2 |
118,1 |
|
Республика Крым |
19,4 |
0,932 |
18,1 |
21,3 |
118,0 |
|
Ивановская обл. |
10,8 |
0,943 |
10,2 |
12,0 |
117,3 |
|
Ярославская обл. |
11,2 |
0,950 |
10,7 |
12,5 |
117,2 |
|
Хабаровский край |
16,3 |
0,936 |
15,3 |
17,9 |
116,7 |
|
Саратовская обл. |
26,3 |
0,935 |
24,6 |
28,7 |
116,6 |
|
Липецкая обл. |
11,3 |
0,940 |
10,6 |
12,1 |
114,7 |
|
ЯНАО |
5,8 |
0,926 |
5,4 |
6,2 |
113,7 |
|
Пензенская обл. |
14,2 |
0,946 |
13,4 |
15,1 |
112,7 |
|
Республика Мордовия |
9,6 |
0,946 |
9,1 |
10,1 |
111,2 |
|
Владимирская обл. |
13,8 |
0,939 |
13,0 |
14,4 |
111,0 |
|
Смоленская обл. |
10,0 |
0,937 |
9,4 |
10,3 |
109,7 |
Источник: рассчитано на основе данных Росстата.— URL: ;
В Липецкой области межрегиональная миграционная убыль была незначительной. За исключением Ярославской и Свердловской областей, Республики Крым (по данным за 2015–2021 гг.), остальные регионы из таблицы 2 за рассматриваемые 28 лет имели межрегиональную миграционную убыль населения, которая различно компенсировалась миграционным приростом населения из зарубежья. Так в Хабаровском крае эта компенсация составляла всего 23%, в Республике Мордовия — 62%, в Красноярском крае — 97%, в ЯНАО — 100%. В других регионах эта компенсация в разы превосходила межрегиональную миграционную убыль: в Астраханской области — в 1,3 раза, Пензенской — в 1,4 раза, Вологодской в 1,8 раз, Смоленской — в 2,0 раза, Ивановской — в 2,6 раза, Тульской — в 2,8 раза, Владимирской — в 3,8 раза, Челябинской — в 4,2
раза, Рязанской области — в 6,5 раз.
Вторая группа по итогам демографической динамики — это регионы, в которых на середину 2021 г. численность постоянного населения в возрасте 28 лет была заметно ниже численности тех, кто выжил к середине 2021 г. из числа лиц, кому было 0 лет на данной территории 28 лет назад (без учёта миграции). Это значительная часть основных миграционных доноров страны (табл. 3). За исключением Республики Калмыкия, все эти регионы находятся либо в азиатской части России, либо на Европейском Севере (Кировская область примыкает к нему). Вероятность умереть от 0 до 28 лет в части этих регионов в среднем за 1993–2021 гг. была самой высокой по стране: 16,6% в Республике Тыва, 12,6% в Чукотском АО, 9,7% в Еврейской АО, 9,2% в Республике Алтай, 8,9% в Республике Саха (Якутия).
Таблица 3
Отдельные демографические показатели некоторых регионов России
Table 3
Selected demographic indicators of Russian regions
|
Регион |
S0 1993 , тыс. человек |
р 0–28 , в долях 1 |
S0 1993 × P0–28, тыс. человек |
S28 2021 , тыс. человек |
S 28 2021 /(S 0 1993 × P 0–28 ),% |
|
Чукотский АО |
1,4 |
0,874 |
1,2 |
0,5 |
42,8 |
|
Магаданская обл. |
3,1 |
0,926 |
2,9 |
1,5 |
53,2 |
|
Республика Калмыкия |
5,4 |
0,934 |
5,0 |
3,1 |
62,5 |
|
Республика Коми |
12,8 |
0,938 |
12,0 |
8,3 |
68,8 |
|
Еврейская АО |
2,8 |
0,903 |
2,5 |
1,8 |
73,1 |
|
Курганская обл. |
11,8 |
0,930 |
11,0 |
8,5 |
77,7 |
|
Республика Тыва |
6,3 |
0,834 |
5,2 |
4,2 |
80,7 |
|
Сахалинская обл. |
6,8 |
0,927 |
6,3 |
5,1 |
80,8 |
|
Архангельская обл. |
14,8 |
0,943 |
13,9 |
11,3 |
81,1 |
|
Республика Алтай |
3,0 |
0,908 |
2,8 |
2,3 |
83,1 |
|
Забайкальский край |
17,0 |
0,936 |
15,9 |
13,4 |
83,8 |
|
Амурская обл. |
11,7 |
0,928 |
10,9 |
9,2 |
84,1 |
|
Республика Карелия |
7,4 |
0,945 |
7,0 |
6,0 |
86,1 |
|
Кировская обл. |
15,3 |
0,948 |
14,5 |
12,5 |
86,4 |
|
Республика Саха (Якутия) |
17,1 |
0,911 |
15,6 |
14,1 |
90,7 |
Источник: рассчитано на основе данных Росстата.— URL: ;
Все регионы второй группы за рассматриваемые 28 лет имели межрегиональную миграционную убыль населения, которая слабо компенсировалась миграционным приростом населения из зарубежья. Более того, Чукотский АО и Еврейская АО имели миграционную убыль населения за рубеж. Около нуля она была в Республике Калмыкия. В Республике Карелия межрегиональная миграционная убыль населения компенсировалась миграционным приростом из зарубежья на 109%, в Курганской области — на 40%, Кировской области — на 33%. В Республике Саха (Якутия), Амурской области и Забайкальском крае — компенсация составляла 10%, в Архангельской области и Сахалинской области — 7–8%. В республиках Тыва и Коми, а также Магаданской области компенсация была незначительной. Республика Алтай имела близкую к нулю миграционную убыль от межрегионального обмена населением.
Третья группа по итогам демографической динамики — остальные регионы России. В них на середину 2021 г. численность постоянного населения в возрасте 28 лет мало отличалась от численности тех, кто бы выжил (без учёта миграции) к середине 2021 г. из числа лиц, кому было 0 лет 28 лет назад на данной территории (табл. 4). Возглавляют эту группу приволжские и сибирские регионы со средним по России уровнем социально–экономического развития, отдельные области Центрального Черноземья, а также Приморский край, являющийся локальным миграционным реципиентом Дальневосточного федерального округа. Вероятность умереть от 0 до 28 лет только у 3 регионов из табл. 4 (Алтайский край, Орловская и Тамбовская области) в среднем за 1993–2021 гг. была чуть ниже средней по стране. У остальных она достигала 7,5% (Кемеровская область — Кузбасс и Республика Хакасия) и даже 9,4% (Омская область).
Республика Хакасия — единственный регион в этой группе, у которой был за 28 лет положительным межрегиональный миграционный прирост. Его доля во всём миграционном приросте региона составляла 28%. Остальные регионы имели отрицательное сальдо межрегиональной
Таблица 4
Отдельные демографические показатели некоторых регионов России
Table 4
Selected demographic indicators of Russian regions
|
Регион |
S0 1993 , тыс. человек |
р 0–28 , в долях 1 |
S0 1993 × P0–28, тыс. человек |
S28 2021 , тыс. человек |
S 28 2021 /(S 0 1993 × P 0–28 ),% |
|
Орловская обл. |
8,5 |
0,941 |
8,0 |
8,7 |
109,0 |
|
Республика Башкортостан |
49,4 |
0,933 |
46,0 |
50,0 |
108,7 |
|
Приморский край |
23,3 |
0,929 |
21,6 |
23,5 |
108,6 |
|
Курская обл. |
12,3 |
0,940 |
11,6 |
12,6 |
108,3 |
|
Кемеровская обл.— Кузбасс |
29,6 |
0,926 |
27,4 |
29,7 |
108,1 |
|
Тверская обл. |
13,4 |
0,932 |
12,5 |
13,2 |
105,2 |
|
Алтайский край |
25,8 |
0,946 |
24,4 |
25,5 |
104,7 |
|
Омская обл. |
24,6 |
0,906 |
22,3 |
23,3 |
104,7 |
|
Псковская обл. |
7,2 |
0,932 |
6,7 |
6,9 |
102,3 |
|
Республика Хакасия |
6,4 |
0,925 |
6,0 |
6,1 |
101,6 |
|
Пермский край |
31,1 |
0,934 |
29,1 |
29,5 |
101,4 |
|
Ульяновская обл. |
14,8 |
0,937 |
13,9 |
14,0 |
101,1 |
|
Тамбовская обл. |
11,9 |
0,941 |
11,2 |
11,1 |
99,2 |
Источник: рассчитано на основе данных Росстата.— URL: ;
миграции, которое различно компенсировалось приростом населения из–за рубежа. Уровень этой компенсации составил: 28% в Приморском крае, 37% в Омской области, 73% в Алтайском крае, 80% в Пермском крае. Во всех остальных регионах из табл. 5 компенсация превышала 100% и доходила до 269% в Республике Башкортостан и 623% в Псковской области.
Таблица 5
Отдельные демографические показатели некоторых регионов России
В третью группу также входят приморские регионы Европейского Севера и Дальнего Востока (Мурманская область, Камчатский край), слабо контактные в миграционном плане регионы Приволжья и Сибири со значительной долей сельского населения, а также области Костромская Вологодская и Брянская (табл. 5).
Table 5
Selected demographic indicators of Russian regions
|
Регион |
S0 1993 , тыс. человек |
р 0–28 , в долях 1 |
S0 1993 × P0–28, тыс. человек |
S28 2021 , тыс. человек |
S 28 2021 /(S 0 1993 × P 0–28 ),% |
|
Новгородская обл. |
6,4 |
0,932 |
6,0 |
5,9 |
98,7 |
|
Камчатский край |
4,2 |
0,923 |
3,9 |
3,9 |
98,4 |
|
Вологодская обл. |
12,9 |
0,945 |
12,2 |
11,9 |
97,7 |
|
Республика Бурятия |
12,8 |
0,920 |
11,8 |
11,5 |
97,6 |
|
Мурманская обл. |
8,7 |
0,953 |
8,3 |
8,1 |
97,5 |
|
Чувашская Республика |
15,3 |
0,941 |
14,4 |
13,9 |
96,2 |
|
Удмуртская Республика |
18,3 |
0,937 |
17,2 |
16,5 |
96,0 |
|
Брянская обл. |
15,5 |
0,938 |
14,5 |
13,9 |
96,0 |
|
Костромская обл. |
6,9 |
0,940 |
6,5 |
6,3 |
95,9 |
|
Оренбургская обл. |
25,5 |
0,930 |
23,7 |
22,7 |
95,8 |
|
Республика Марий Эл |
8,5 |
0,930 |
7,9 |
7,5 |
94,6 |
|
Иркутская обл. |
32,6 |
0,937 |
30,5 |
28,7 |
93,9 |
Источник: рассчитано на основе данных Росстата.— URL: ;
Камчатский край и Мурманская область активно развиваются в последнее время, в том числе благодаря развитию Северного морского пути, и требуют притока молодого населения. И те негативные процессы, которые наблюдались в них после развала СССР, постепенно меняются. Также растёт поток трудовой миграции в данные территории, а трудовая миграция является основным потенциалом для роста постоянной миграции населения в настоящее время [6], как фактически, так и отчасти юридически (по новому с 2011 г. порядку учёта мигрантов). Вероятность умереть от 0 до 28 лет в среднем за 1993– 2021 гг. у населения регионов из табл. 5 средняя по стране. Самая высокая вероятность умереть была в Республике Бурятия (8,0%) и Камчатском крае (7,7%), самая низкая — в областях Мурманской (4,7%) и Вологодской (5,5%). В межрегиональном обмене населением все эти регионы были в минусе, лишь в Новгородской области эти потери были незначительными. Уровень компенсации межрегиональной убыли миграционным приростом из–за рубе- жа заметно отличался по данным территориям. Минимальным он был в Мурманской области (8%) и Республике Бурятия (13%), максимальным — в областях Вологодской (277%), Костромской (208%) и граничащей с Украиной Брянской (150%).
Отдельной четвертой группой являются республики Северного Кавказа (табл. 6). Миграционные процессы в них длительный период постсоветского времени, особенно в период Чеченских войн и Осетино–Ингушского конфликта, носили иной характер, чем в остальных регионах России. Касательно миграции это были потоки вынужденных переселенцев и беженцев. Как известно, основные массы вынужденных переселенцев и/или беженцев устремляются в соседние территории [7, с. 179]. Так что одни из республик Северного Кавказа добавляли население за счёт таких потоков, другие его теряли. Этим, в частности, объясняется высокая доля миграционного прироста по рассматриваемому возрасту в Республике Ингушетия.
Таблица 6
Отдельные демографические показатели некоторых регионов России
Table 6
Selected demographic indicators of Russian regions
|
Республика |
S 0 1993, тыс. человек |
р 0–28 , в долях 1 |
S0 1993 × P0–28, тыс. человек |
S28 2021 , тыс. человек |
S28 2021 /(S0 1993 × P0–28),% |
|
Ингушетия |
6,3 |
0,916 |
5,8 |
8,2 |
142,3 |
|
Дагестан |
42,9 |
0,933 |
40,0 |
50,5 |
126,1 |
|
Северная Осетия-Алания |
9,0 |
0,941 |
8,5 |
9,3 |
109,2 |
|
Кабардино-Балкарская |
12,6 |
0,943 |
11,9 |
12,1 |
102,2 |
|
Карачаево-Черкесская |
6,1 |
0,951 |
5,8 |
5,9 |
101,3 |
|
Чеченская |
23,8 |
0,938 |
22,3 |
21,4 |
96,1 |
Источник: рассчитано на основе данных Росстата.— URL: ;
Положительные результаты по табл. 6 Республики Дагестан и Чеченской Республики объясняются поправками на естественный прирост по результатам переписей населения 2002 и 2010 гг., добавивших к их населению 562 и 425 тысяч человек соответственно [5, с. 189–194]. Вероятность дожития до 28 лет в указанных регионах была не самая высокая по стране, хотя по показателю ожидаемой продолжительности жизни при рождении некоторые из них являются лидерами в России. Связано это, в том числе с тем, что в данных регионах высока ожидаемая продолжительность жизни не с рождения, а со старших возрастов, что и формирует высокий уровень долголетия их населения.
Выводы
Предложенный анализ позволяет показать итоги демографической динамики населения регионов в возрастном разрезе и её компонент в простой наглядной форме. Если конкретно, то демографическую ситуацию в регионах России по состоянию на середину 2021 г., касающуюся возрастной группы населения в возрасте 28 лет, можно представить следующим образом (несколько типичных примеров).
-
1. Москва. Из 100 лиц в возрасте 0 лет на середину 1993 года за 28 лет дожило (при нулевой миграции) 94 человека. Миграционным приростом к ним добавилось 107 человек, в том числе 87 за счёт других российских регионов и 20 — за счёт зарубежья. Итог: 201 человек на 100.
-
2. Новосибирская область. Из 100 лиц в возрасте 0 лет на середину 1993 года — за 28 лет дожило (при нулевой миграции) 92 человека. Миграционным приростом к ним добавилось 53 человека, в том числе 19 за счёт других российских регионов и 34 — за счёт зарубежья. Итог: 145 человек на 100.
-
3. Еврейская автономная область. Из 100 лиц в возрасте 0 лет на середину 1993 года за 28 лет дожило (при нулевой миграции) 90 человек. Миграционным путём убыло ещё 17 человек, в том числе 5 в другие российские регионы и 12 — за рубеж. Итог: 73 человека из 100.
-
4. Республика Коми. Из 100 лиц в возрасте 0 лет на середину 1993 года за 28 лет дожило (при нулевой миграции) 94 человек. Миграционным путём в другие российские регионы убыло ещё 25 человек. Миграционного прироста из-за рубежа практически не было. Итог: 69 человек из 100.
-
5. Курганская область. Из 100 лиц в возрасте 0 лет на середину 1993 года за 28 лет дожило (при нулевой миграции) 93 человека. Миграционным путём убыло ещё 15 чело-
- век, в том числе в другие российские регионы 25 человек. Но за счёт зарубежья добавилось 10 человек. Итог: 78 человек из 100.
Одна из проблем, снижающих адекватность результатов проведённого исследования, как, впрочем, и любого другого демографического анализа современной России, к сожалению, заключается в том, что её постоянное население имеет некоторую «шапку», наслоение из «квази-постоянных мигрантов». Это те, кто, начиная с 2011 г., входят в состав постоянного населения России, но де–факто являются долговременными мигрантами, прежде всего, трудовыми. Они вынуждены регистрироваться по месту пребывания хотя бы для получения патента. А по истечении девяти месяцев регистрации эти лица автоматически переходят в разряд постоянного населения России, хотя реально лишь пребывают в ней. Росстат и МВД РФ регулярно улучшают учёт миграции населения России [8, с. 8-10]. Но эти улучшения ухудшают сопоставимость статистики постоянного населения и постоянной миграции в динамике. Они также затрудняют ответить на элементарный вопрос — сколько в России живёт граждан РФ [9], сколько лиц имеют промежуточный статус (вид на жительство, статус переселенца и подобное), а сколько лишь долговременно пребывают в России?
Надеемся, что использование предложенной методики даст возможность более точно оценить кумулятивные итоги и компоненты демографического развития регионов России в половозрастном разрезе, позволит более успешно решать задачи демографического развития страны и её территорий. Адекватному решению данных задач будет также способствовать разработка стратегии демографического развития России с учётом новых реалий.