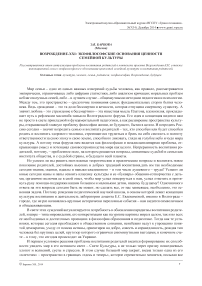Возрождение-XXI: экофилософские основания ценности семейной культуры
Автор: Баркова Элеонора Владиленовна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Непрерывное образование родителей как фактор сохранения и развития семейной культуры
Статья в выпуске: 7 (34), 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются опыт актуализации проблемы воспитания родителей в контексте проекта Возрождения-XXI, а также инновационный смысл экофилософского обоснования ценностей семейной культуры и воспитания родителей.
Культура, человек, семья, родители, экофилософия, возрождение, будущее
Короткий адрес: https://sciup.org/14822189
IDR: 14822189
Текст научной статьи Возрождение-XXI: экофилософские основания ценности семейной культуры
Мир семьи – одно из самых важных измерений судьбы человека, как правило, рассматривается эмпирически, ограничиваясь либо цифрами статистики, либо анализом кричащих моральных проблем неблагополучных семей, либо – в лучшем случае – общенаучными методами педагогики и психологии. Между тем, это пространство – средоточие понимания самых фундаментальных сторон бытия человека. Ведь «рождение – это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу. А значит любовь – это стремление к бессмертию» – эта известная мысль Платона, вдохновляя, прокладывает путь к рефлексии масштаба замысла Волгоградского форума. Его идея и концепция видятся нам не просто в свете прикладной и фундаментальной педагогики, а как расширение пространства культуры, открывающей главную проблему философии жизни, ее будущего, бытия в целом. И возродить Россию сегодня – значит возродить семью и воспитать родителей – тех, кто способен или будет способен родить и воспитать здорового человека, стремящегося трудиться и брать на себя смелость и полноту ответственности за свою эпоху и свою землю, способного ликовать, глядя на голубое небо и чудо мира культуры. А потому тема форума нам видится как философская и междисциплинарная проблема, открывающая смысл и потенциал самовоспроизводства мира как целого. Непрерывность воспитания родителей, поэтому, – проблемное поле, на котором решаются вопросы, связанныес судьбой и семьи как института общества, и с судьбой страны, и будущего всей планеты.
Но успеем ли мы решить неотложные теоретические и практические вопросы и воспитать новое поколение родителей, достойных высоких и добрых традиций воспитания,дать им так необходимые сегодня знания, оценки, идеалы и навыки ежедневного – в том числе душевного – труда? Успеют ли юные сегодня мамы и папы освоить классику культуры и ее «букварь» общения-сотворчества с детьми, органично включив ее в свой опыт, чтобы мир успел повернуться к нам, успел ответить и протянуть руку помощи-поддержки нашим большим и маленьким детям, нашему будущему? Однозначного ответа на эти вопросы сегодня быть не может, но сделать все, от нас зависящее, необходимо, это основная задача. Поэтому рождение педагогической научной школы, в основе которой лежит концепция культуры воспитания и деятельность лаборатории доцента Е.С. Евдокимовой, именно в Волгограде – городе, где не раз начинались крупные исторически переломные события – нам видится символичным и обнадеживающим.
В свете этих суждений актуализируется потребность в обновлении парадигмы воспитания родителей, и шире – типа мировидения, его конкретизации как на уровне картины мира в целом, так и во всех ее необходимых и достаточных проекциях в философии образования и педагогике. Тогда как те установки, которые сегодня преобладают в общественном сознании, неизбежно ведут к упрощенно понятой демократии, уходу от поиска истины, ориентиров на добро, совесть и справедливость, рождая тип человека без крупных целей, кругозор которого ограничен сиюминутными выгодами, в конечном счете – к тому, что сегодня происходит на Украине.
И первым условием решения проблемы воспитания родителей видится формирование их способности увидеть мир в его истинном свете – Свете Культуры, а не только через призму повседневных хлопот и волнений, суеты и стрессов. В этом случае большой мир закрыт, видна только одна из его «клеточек» – пространство в границах «здесь и теперь», которое стремительно меняется, посылая все новые проблемы и вызовы, к которым постоянно нужно адаптироваться. Но семья как основа Дара и способности творить новую жизнь, выходит в принципе за границы такой частичности. Истинная, подлинная семья в своей основе дает возможность ее членам быть счастливыми, а потому – видеть мир в свете гармонии, красоты, устойчивости и надежности. Именно поэтому, вероятно, для воспитания родителей важным является формирование такого мировидения, при котором они осознают себя как органичную частьмира, как микрокосм. И это, думается, должно стать и фундаментальной установкой, проекцией бытия в современной философии образования.
В целом выход современного мира, частью которого является мир семьи, из системного кризиса – прежде всего, эколого-человеческого и культурно-социального – невозможен вне формирования философского мировоззрения, отвечающего на гуманитарные вызовы нашей эпохи. Такое обновление, как представляется в первую очередь должно быть направлено на сохранение и возвышение человека, бесконечного богатства его Природы-Культуры, а процессы воспитания, включая воспитание родителей, – на совершенствование отношений и способностей видеть мир в контексте приоритетов развития бытия и культуры.
Однако содержание реальных процессов, характеризующих в последние десятилетия изменения в общественном сознании, сужение границ чувственного мира, заметное снижение глубины мировосприятия человека – все это уже пришло в противоречие с потребностью нашей эпохи в людях, семьях, династиях крупного масштаба и наращивании потенциала главной «мягкой силы» современности – влияния культуры, ставшей одним из главных инструментов влияния в международных отношениях. Между тем, и это следует особо подчеркнуть – человеческий и духовно-культурный капитал – традиционно главный капитал России. И отставание не только в области развертывания масштабных гуманитарных проектов, но и в разработке целостных моделей семьи и родительства, требует рефлексии этой ситуации и их развитияв новых измерениях, включая проявившиеся в самое последнее время тенденции.
Эта работа тем более безотлагательна, что стремительные изменения в жизни, отрыв инноваций от их содержательности, человеческого смысла, их самоценность, доминирующая в общественном сознании, возвращение казалось бы навсегда ушедших форм нетерпимости и форм агрессии – все это свидетельство не просто разбалансированности пространства нашей жизни, но и реально нависшая угроза для бытия человека, эволюции культуры и сохранения норм жизни Вселенной.
Перспективы развития нового мировоззрения нам видятся в развитиипроекта Возрождения-XXI – концепции, не ограниченной восстановлением нормативности в представлении о семье и воспитании родителей. Думаю, сегодня, когда в центр внимания выдвигаются проблемы выживания и возрождения культуры в условиях современного мира [8, с. 6], модель Возрождения-XXI плодотворна как открытие пути к освоению новой философии культуры и образования. В ней вызревают живые ростки будущего, которые сегодня появляются в разных, часто неузнаваемых формах, но изолированы друг от друга, «рассыпаны» в пространстве культуры, хотя именно в них прорастает надеждапланеты и Вселенной.
Кроме того, – и это подчеркнем особо – Возрождение-XXI – это научный проект, обобщающий реальные, существующие тенденции. Его смысл – в открытии и обобщении действительных фактов, опыта, тенденций, а не сочинительстве, не продвижении текста ради текста. Дарио Салас Соммэр – автор замечательной и в большой мере опирающейся на традиции русской философии космизма и науки концепции практической философии и морали совершенно прав: «нет ничего хуже «подслащенной» или корыстной морали, теоретизирующей вокруг идеальных ситуаций, никак не связанных с реальностью» [9, с. 11]. Это действительно важно сегодня для обоснования перспективы – возможности поворота к новому типу глобализации, понятой как универсализация и единение народов и культур в контексте гуманитарных ценностей.
В чем же цель и смысл феномена Возрождения? Не является ли оно – пусть и непроизвольно – случайным, придуманным или периферийным проектом? Нет. Вспомним, закономерностью и устой- чивым алгоритмом во всей истории, включая историю мировой культуры, является периодическая переоценка ценностей – обновление оснований мироотношения и норм культуры, всегда выступавшее условием и ресурсом социального и культурного развития. В общем виде этот универсальный процесс выражается в особой ритмо-волновой организации исторических модификаций социокультурных систем, в которых каждый раз на новой основе возрождаются жизненно важные для перспектив развития человека и мира культурные традиции. Ясно, что в пространство-время этих перемен всегда вовлечены не только предметно очерченные, рационально организованные формы и отношения, но и ценности, идеалы, моральные нормы, символы, тексты и контексты культуры.
Общим результатом в соответствии с этой логикой должен быть всегда качественно новый синтез прошлого и настоящего, на основе которого обогащаются и переосмысливаются уже существующие направления человеческой деятельности, институты, культурные нормы и другие проявления общественного бытия. Однако то, что справедливо в общем, абстрактном виде, требует конкретизации не только формальной, схематической, но содержательного анализа. Инновации – далеко не всегда ведут к формам реального развития, плодотворным решениям, соответствующим расцвету человека культуры, совершенствованию институтов, включая семью, раскрытию потенциала человеческих отношений и форм общения, как и не все волны возрождения, как показывает практика, возрождали лучшее.
Какими же могут стать формы синтеза прошлого и современности, инновации в семье и отношениях родителей и детей в логике Возрождения-XXI? Возможно ли сегодня соединить добрые и красивые традиции с лучшими современными формами – искреннюю дружбу и любовь, ласку и заботу, эмоциональность и ответственность с новыми технологиями, включая сетикетные, т.е. возможностями сетевого общения? Но вместе с тем, зададим и другой вопрос – возможно ли еще дистанцироваться от синтеза иного рода –соединения с патологическими формами культуры современной семьи, разного рода деструкциями, извращенно представляющими человеческие взаимоотношения?
Восхищаясь – и, бесспорно, не без основания, многими достижениями современной западной культуры, нужно знать и то, что на Западе новый этап в развитии семьи и отношений родителей связан с феноменом неонарциссизма. Новый нарциссизм – это продукт родителей, которые не могут или не хотят обнаруживать власть, базирующуюся на реальном, а не авторитарно-господствующем авторитете. Ослабление родительской авторитетно-ценностной власти, в свою очередь, объясняется вмешательством экспертов социальных агентов и инструктивной литературы в процессе принятия индивидуальных решений [4, с. 19]. Иначе говоря, неонарциссизм – тип семейных отношений, при котором дети Западе, как и у нас, все больше выходят из под ценностного контроля родителей. В такой семье родители не озадачены проблемами детей, они просто не обращают на них внимания. Кроме того, либерализация сексуальных норм в таких семьях снимает традиционные запреты и, по мнению Р. Якоби, теряет свое взрывное и индивидуальное измерение. Она не может быть более отделенной от папирос, пива, шампанского [Там же, с. 20].
Интересно, что в современной американской науке, отразившей озадаченность общественного мнения, растет понимание недопустимости такого положения, поскольку отчужденная сексуальность и мировоззрение, в свою очередь, способствуют формированию нарциссических характеров, которые пассивно адаптируются к потребительскому образу жизни. Не подпадая под родительский авторитет в семье, человек с нарциссическим характером вто же время находится в полной зависимости от государства, его политики и идеологии.
Как отмечает киевский философ образования В.В. Зинченко, человек из такой неонарциссической семьи не находит возможностей творческой самореализации и в сфере культуры, поскольку она приобрела форму коммерческого предприятия, в понимании которого человеческая жизнь и потребности личности должны фабриковаться наподобие товаров для прибыльной распродажи. Отдавая энергию и большую часть своего времени деятельности отчужденных от человека учреждений, современная личность утрачивает семью, из которой выхолащивается ее настоящее назначение» [Там же].
Так же как на Востоке, где, подобно Возрождению-XXI, получает развитие исключительно интересный перспективный проект Лю Пэна «XXI века – золотого века китайской цивилизации» [7], возрождающий традиции связи поколений, родителей и детей, уважения к старшим в медиапространстве современного Китая, появились и новые формы деструкций в отношениях родителей и детей. Правда, не в Китае, а в высокоразвитой и технологичной Японии, получило широкое распространение такое опасное явление, как хикикомори.
Дословно хикикомори в переводе с японского языка означает нахождение в уединении или устраняться, отрываться или быть заключенным. Речь идет о детях, начиная с 8-10-летнего возраста, подростках и молодых людях, испытывающих острую потребность в полной самоизоляции от родителей, ровесников, от общества, вообще от всех людей, причем, речь идет именно о полной социальной самоизоляции. По некоторым данным, в современной Японии насчитывается до миллиона хикикомори – не работающих людей, живущих на полном иждивении родителей – представителей, как правило, среднего класса, которые могут материально содержать детей в течение многих лет. В общении с людьми – даже самыми близкими – они испытывают не просто дискомфорт, страх, внутреннюю панику, но серьезные соматические симптомы – учащенное сердцебиение, потоотделение, боли, пищеварительные расстройства и даже обмороки. Обычно они спят днем, а просыпаясь под вечер либо сидят в закрытой комнате в полном безделье, либо общаются в соцсетях и чатах с такими же хикикомори, либо слушают музыку. Родители, как отмечают некоторые исследователи, стесняясь соседей и родных, говорят им, что сын или дочь в отъезде или на учебе в другом городе [11].
Нередко хикикомори злятся на себя за свою неполноценность и неспособность преодолеть свою проблему, но не предпринимают усилий для практического выхода из своего затворничества, зато предпринимают аутоагрессивные действия – наносят себе раны, а некоторые даже пытаются покончить с собой. Живущие за счет родителей, они проявляют к ним жестокое отношение, испытывают гнев, вплоть до насильственных действий, особенно когда те требуют от них выйти из своих комнат и чем-нибудь заняться. Причем, в последние годы, по мнению японских специалистов, проявляется обострение проблемы насилия со стороны хикикомори. Между тем, никто из них не родился с этими формами патологии: все начиналось постепенно и нередко с давления именно со стороны родителей, которые жаждали внешних успехов своего ребенка, требуя выполнения сложных заданий, высоких результатов, которые доставались ценой перенапряжения нервной системы. Так они действительно понимали свою любовь к ребенку.
Поэтому Д.С. Соммэр прав, когда рассуждает о том, что «образование ребенка начинается с родителей, и, естественно, они не могут научить тому или передать то, чего сами лишены. Безумный отец передаст сыну такое же безумие, создавая порочный круг, который очень трудно разорвать, поскольку все повторится в последующих поколениях» [9, с. 44]. Слишком часто, продолжает мысль автор, родители являются «плохими родителями» совсем не потому, что не любят своих детей, а потому, что не знают, как их надо воспитывать. Они склоняются либо к излишней авторитарности, либо к излишней мягкости, но в большинстве случаев родители чувствуют, что они подчиняются детям. Известно, что дом и семья представляют для ребенка модель всего мира. То, как дети их воспринимают, станет для них общим восприятием жизни [Там же]
Вот почему в проекте Возрождения-XXI так важно преодолеть установку на идеализацию инноваций вообще, как и формального синтеза с такими ценностными ориентациями в отношениях родителей и детей в силу престижности их западного или восточного первоисточника. Главное здесь - понять ценность собственных высоких и добрых традиций и инноваций на основе приоритета содержания ценностей с точки зрения возможностей сохранения и развития Природы-Культуры Человека, а во-вторых, безусловноиспользовать возможности зарубежного опыта и оценить, используя его во взаимо-уважительных иравноправных диалогах культур, включая освоение важных культурно-воспитательных моделей и опыта.
Сегодня в такой синтез ценностей прошлого и настоящего в проекте Возрождения-XXI, как общей культурной формы современной России попадают все, что соответствует критериям подлинности мира во всем богатстве и противоречиях его определений, осмысленных в контексте Истины, Добра, Красоты. Это – условие и возрождения многомерной философии образования и онтологии семьи.
В.И. Пантин, бесспорно, прав, последовательно подчеркивая ценность сохранения и переживания подлинности жизни. В самом деле, «культура <…> рождается из глубин самой жизни в ситуации, когда человек вынужден совершать невероятные усилия для своего духовного и физического спасения и тем самым выходить за свои пределы. Потеря ощущения подлинности жизни с ее океанами человеческого горя – вот главная беда современной культуры» [8, с. 26]. А потому, справедливо считает автор, настала пора «привлечь классиков к суду потерпевших крушение» – это значит: нужно по-новому осмыслить и понять классиков, не упрощая и не подгоняя их под вкусы толпы, а выявляя то трагическое ощущение бездны и то ощущение необходимости бороться за спасение от кораблекрушения, которое присуще классическим произведениям и которое способен ощутить во все эпохи не «массовый», а состоявшийся как личность человек» [Там же, с. 27].
Но для «переформативания» мировидения многих молодых людей – завтрашних родителей – для того, чтобы они и их дети могли смотреть на мир глазами духовно-культурно-здорового человека, сегодня нужна большая просветительская работа по изгнанию, если воспользоваться известным образом Е. Шварца, «дракона» из своего собственного мира, полного у многих иллюзий, деструктивных ценностей и игровых моделей. Сама по себе, без наших усилий гармония внешнего мира и внутреннего не проявится. Вспомним, к чему ведет конформизм и отказ от истины: «Я ведь не обыватель какой-нибудь, а бургомистр. Я сам себе не говорю правды уже столько лет, что и забыл, какая она, правда-то. Меня от нее воротит, отшвыривает. Правда, она знаешь чем пахнет, проклятая? Довольно, сын. Слава дракону! Слава дракону! Слава дракону!» [12, с. 145].
Методологической основой концепции Возрождения-XXI, включая ее философско-образовательные проекции, по моему убеждению, поэтому является экофилософия – получающее в последнее время развитие направление философского знания, ориентированное на восстановление статуса нормативности и исследование истинных фундаментальных связей Человека, Культуры, Природы и Вселенной. В экофилософии осуществляется анализ универсального отношения «человек – мир» на основе эколого-культурного императива, и в этом смысле она конституируется как всеобщая форма самоопределения и самоидентификации современного человечества. В соответствии с ее логикой, ценностно-гуманитарное освоение современного мира может осуществляться таким образом, чтобы статус человека, святости родителей и ценности семьи сохраняли в сознании и бытии свою нормативную сущность. В определенной мере сама экофилософия, возрождая основы классическо-философского мышления с его ориентацией на открытие истинного смысла бытия, является результатом синтеза прошлого и современности, переосмысляя философию русского космизма в координатах современного мира.
Для темы воспитания родителей экофилософская методология выявляет свой потенциал уже в этимологии, ибо исходное значение «ойкос» – значит дом. По определению, поэтому, экофилософия связана с очеловеченным пространством, домом, сойкосом как обитаемой Вселенной.
Задачами универсальной экофилософии сегодня, прежде всего, являются во-первых, преодоление фрагментарности ее внутреннего пространства-времени и связанного с этим отрыва концептуального аппарата от уровня развития науки в ее высших достижениях и, во-вторых, задачи ориентации мысли на поиск таких идеалов и целеполагающих стратегий, которые в перспективе позволят на основе бытие утверждающих принципов решить проблему человека в органической связи с миром на основе категорий истины, целостности, гармонии, сознания и материи, добра и красоты, на новом уровне возвращающих нас к высоким традициям философской, научной и художественной классикиТакие изменения мировидения и методологии - условие разрешения кризиса и в самой философии и восстановления способности самостоятельного аргументированного мышления, ибо А. Швейцер был прав: современный человек постоянно испытывает влияние сил, стремящихся отнять у него веру в самостоятельность своей мысли. «Сковывающая человека духовная несамостоятельность царит во всем, что он слышит и читает, она – в людях, которые его окружают, она – в партиях и союзах, к которым он принадлежит. Она – в тех отношениях, в рамках которых протекает его жизнь. Со всех сторон и разнообразнейшими способами его побуждают брать истины и убеждения, необходимые для жизни, у организаций, которые предъявляют на него права». [13, с. 7–8].
На преодоление агрессивного действия этих сил и направлена экофилософия, представляющая собой, на наш взгляд, такой тип мировоззрения и культуры, который открывает возможности оздоровления человека и всего многообразия его связей – культурных, социальных, связей с природой, со свой собственной душой, а значит возрождает его связи с объективной реальностью и формами ее проявления. [1]. Как направление философского знания, она открывает мир бытия в контексте жизнеут-верждения и определения оптимальных условий жизни человека, гармонизируя в нем, в формах его мышления и деятельности, космо-био- и культуросферы. Экофилософия, вследствие этого, выявляет философский потенциал форм и направлений человеческой деятельности, необходимых для оздоровления и развития личности и поиск эколого-ориентированных форм мироотношения, в которых конкретизируется содержание ее категорий. Уже эти общие контуры – свидетельство неразрывной связи экофилософии в ее смысло-жизненном и гуманистическом назначении с начинающими свое становление в отечественной наукеэкоэтикой, экоэстетикой и эколингвистикой, в которых восстанавливаются нормативные принципы и основания должного в современном мировидении [10]
Истоки экофилософии непосредственно восходят к традициям философии русского космизма рубежа XIX–ХХ вв., этапу выхода культуры и мышления на общепланетарный уровень. Однако уже тогда физик и ученый-космист Н.А. Умов, исследуя достигнутое в процессе эволюции человечеством, пришел к выводу о необходимости укрепления и роста нравственной культуры человечества и его ответственности перед чудом разума и жизни, чтобы Вселенная во всей ее целостности и беспредельности исключительно разумно «работала» на создание столь уникального и одновременно сложного существа, каким является человек. В философских трудах философов-космистов, которые можно считать «предпосылками» экофилософии, была осуществлена попытка значительно расширить меру человека и человеческого начала в мире, соотнести ее с разумом и проявлениями Вселенной, что было научным и философским ответом на вызовы эпохи становления космизма и космизации человеческой деятельности.
Так, философия и Живая Этика Н.К. и Е.И. Рерихов, философия всеединства В.С. Соловьева, идея «общего дела» Н.Ф. Федорова, концепция влияния Солнца и протекающих на нем процессов на человека и историю А.Л.Чижевского, смысл идеи ноосферы как разумной оболочки земли в наследии В.И. Вернадского и П.Т. де Шардена – все эти исследования в своих философскихидеях, образах и исследовательских программах показали, что человек как Человек сохраняется лишь в форме культуры, адекватной его природе , его родовой сущности. Возвысив человека - расширив масштаб его духовнонравственного присутствия в мире, идеи космизма, заложив основания экосознания,они обогнали тогда – на рубеже XIX – ХХ вв. - реальные процессы и открыли новые горизонты, расширившие культурночеловеческие границы.
Эти вопросы сегодня вновь должны стать предметом обсуждения потому, что под реальной угрозой оказывается сама возможность сохранения Природы и Культуры Человека в контексте риска продвижения концепции НБИКС-революции и технологических амбиций ее сторонников [5]. В их миро-воззрениии технологиях сделан реальный шаг выхода за границы природы человека к техночеловеку, т.е. нарушены никогда не снимавшиеся прежде нормы, предписанные культурой и традициями гуманизма.
Как методология философии образования и теории воспитания родителей экофилософия, ее содержание и функции, направленане только на оздоровление человека и его мироотношения, но ина развитие самосознания в контексте защиты сохранения целостности культуры-природы. А потому концепция проекта Возрождения-ХХ1 позволяет философии образования и педагогике расширить свой предмет. Речь идет об отходе философии образования от ориентации на структурно-функциональные или на исключительно прикладные подходы в теории воспитания человека и освоениинового масштаба его культуры на базе онтологически-космопланетарного формирования и развития. На этой основе и педагогика, и педагогическая практика возрождает освоение целостности бытия человека, выраженного в единстве категориальной связи «космос-гармония-совершенство-человек-микрокосм».
Фундаментальным проявлением этой целостности бытия человека является антропный принцип: преодолевая субъективизм, который «развел» человека и природу, этот принцип выявляет основания органического единства и укорененности человека в мире: высшей мерой такой укорененности является сама жизнь, реальное, имеющее свои границы во времени-пространстве, существование человека. И семья глубже, чем какой-то другой культурный или социальный институт, регулирует и формирует жизнь, сознание, личность родившегося Человека. Отсюда, думается, вытекает мысль обограничен-ности психолого-функционального подхода , который в полной мере не открывает мир для ребенка, его природу, культуру, выявляя в качестве наиболее важных и очевидных его искусственные конструкты, специализированные превращенные формы или рекомендации на уровне здравого смысла, обыденного сознания. «В идеале не должно быть большого разрыва между профессиональной и частной жизнью – обе сферы нашей деятельности должны дополнять друг друга. Порой бывает нелегко привести эти сферы жизни в гармоничное соответствие. Но и кризис можно расценивать как шанс изменить себя или ситуацию» [2, с. 11].
Современная педагогика семьи, как правило, не рассматривает семью как особую целостность, как микрокосм, в котором складываются первичные структуры, а потому самые глубоко усвоенные, межличностных отношений, формируются моральные чувства и обязательства, формируется начальный опыт и процесс социализации.
В этом контексте одной из первых задач экофилософского подхода к педагогической теории и воспитанию родителей является пересмотр существующей стратегии, которая, главным образом, адаптирует ребенка к современности без одновременного систематического формирования у него социальных идеалов – его ориентиров в будущее. Ориентация на будущее, масштаб целей – исключительно важный аспект воспитания не только личности, но и семьи, и родителей, поскольку, выводя представление о мире человека из границ и рутинных процессов настоящего, формирует истинную установку субъекта и на его отношение к настоящему на основеценностей свободы, творчества, развития способностей к фантазии, воображению, удивлению. Экофилософское понимание связи человека и мира формируется в логике пространства воспитания, в котором находят место такие важные для бытия человека категории, как «мечта», «надежда», «идеал», определяющие человека в измерении проекций его будущего.
Счастье и любовь как категории экофилософии, выражают высший и не снимаемый уровень мотивации всех членов семьи – как взрослых, так и детей. Если они как цели включены в содержание реальных отношений между родителями и детьми, между всеми членами семьи, то это делает отношения не только радостными и устойчивыми, но и возрождает высокие исторические традиции бытия семьи, где отсутствует какая-то посторонняя цель. Смысл этих отношений – в них самих.
И если семья – микрокосм, органическая, а не технологическая, как в неонарциссизме, целостность, то в ней проявляются ценностно-смысловые позиции и отношения детей и родителей, как основания возможности защитить мир детства, возрождая каждый раз атмосферу сказки, волшебства, добра и заботы. Гуманизация бытия семьи оказывается здесь связанной с выявлением такой ее особой «ниши» в пространстве культуры, в которой она снова становится«партнером» общества и, что особенно важно, другом большой Культуры, возрождающей способность жить по-человечески. «Только воскреснув, возродившись, Человек начинает заниматься сотворением мира. Начинает творить <…> И большая жизнь Человека, человечества состоит из подвига возрождения, из подвига со-творения. Возрождение как возвращение на духовную родину, одухотворение инстинкта жить – жить по-человечески» [6].
Если исходя из этого попытаться при первом приближении очертить контуры рождающегося концептуального пространства и его общие экофилософские принципы, методологически востребованные в теории воспитания родителей, то, прежде всего, по-видимому, можно назвать принципы:
-
– целостности, ориентирующий на понимание единства и сложноорганизованной гармонии макро- и микрокосма, человека, родителей, семьи и общества, своей страны, ее Культуры, планетарного сообщества, непрерывность связей и переходов между всеми этими субъектами;
-
– межпредметных связей, на основе которого экофилософия исследует специфику своих творческих контактов с фундаментальной и прикладной педагогикой и психологией;
-
– ответственности родителей за будущее ребенка, понятой не только в плане его личного благополучия и карьеры, но ответственности за его Бытие как субъекта планетарной Культуры;
-
– со-творчества и сотрудничества – развитие таланта понимания ценности других людей, включая сотрудничество с институтами общества и культуры;
-
– оптимизации моделирования в педагогической теории и практике наиболее важных, востребованных связей родителей и детей в той или иной локальной ситуации;
-
– конструктивной критики, предполагающей адекватнуюпринципиальную критическую реакцию, в которой проявляется заинтересованность родителей дать оценку – похвалить ребенка, а если необходимо, во-время реагировать на отклонения и возникающие формы патологий.
Эти исходные, хотя, безусловно, недостаточные принципы, думается, определяют стратегии сохранения связей родителей и детей, экофилософским образом защищая сохранение особого внутреннего пространства-времени бытия семьи. Ясно, что методологический потенциал экофилософии не ограничен набором простых советов и рекомендаций, хотя они, вероятно, тоже важны. В творческом союзе с культурой, педагогической теорией и практикой, она открывает для родителей ценность рождения как важнейшую ценность жизни. Эта ценность – не только уход за ребенком и общение с ним: это рождение и нового содержания жизни самих родителей, открытие новых горизонтов в их мироощущении и сознании, в развитии их чувственного мира, благодаря которому они приобретают и новые формы своей свободы и ответственности, радости и творчества, а вместе с этим – ценностно-экзистенциальное пространство Жизни.
Возрождение-XXI возможно только при условии нашей любви к природе, заботе обо всем живом, умении ценить красоту родной земли как условие любви к нашей планете. С этим в перспективе может быть связано развитие большого направления в рамках концепции воспитания родителей и миссииФо-рума на Волге. Речь о такой инновационной линии в логике и методологии экофилософии как «зеленая педагогика», цель которой - формирование ориентаций на природу как благо и культурную ценность человека, семьи, региона, страны и планеты. В этой логике происходит формирование экологического сознания ребенка и его родителей, открытие ими природы как ценности духовной жизни, условия истинной нравственной и эстетической культуры семьи.
Экофилософия, конечно, ни в какой степени не заменяет и не подменяет педагогику и ее миссию в воспитании родителей, как и в сохранении ценностей рождения и детства. Но формируя философскую и философско-культурологическую картину мира с ее категориями «целостность», «гармония», «совершенство человека», «истина», «добро», «красота», «норма», «мечта», она ориентирует мышление на крупные цели, человеко- и культуро-сохраняющие ценности и задает стратегические направления гуманизации мира и планетарного бытия в целом. Однако как верно заметил Д.С. Соммэр, «духовное возрождение не упадет с неба, как солнечный свет или дождь. Оно требует упорной и постоянной работы. Но сначала человек должен осознать свою незначительность, и это трудно сделать людям, опьяненным ощущением собственной важности» [9].
Таким образом, в проекте Возрождения-XXI, осмысленном как всеобщая форма самосознания культуры и ее будущего, педагогическая теорияи практика обнаруживает новые пространства связи с экофилософией, уточняя и конкретизируя при этом свои принципы и методы. В этом пространстве связи в процессе восхождения к вечным ценностям могут быть открыты исключительно плодо- творные пути развития картины мира, сохраняющей мир, культуру и человека. И эти трудные пути – пути,несмотря ни на что, вверх и к вечным ценностям бытия. Как завещание потомкам звучат сегодня слова Януша Корчака: «Сами избирайте свой путь». Какой путь выберет каждый из нас: вверх или вниз? Путь восхождение к истине, добру и красоте, осознания своей педагогической миссии, созидания духовной общности с учениками невероятно труден. Но чем больше мы преодолеваем препятствий на пути восхождения к духовности и духовной общности с учениками, тем больше у нас появляется возможностей поддержать своих коллег и родителей своих учеников; растет мощь нашего сердца, в спасительной энергии которого так нуждаются дети. [3, с. 62]. Добавим – и также, надеясь на нас, нуждается мир как органическое целое, сохраняющий нас, наше будущее, нашу Землю и ее природу и культуру.
Список литературы Возрождение-XXI: экофилософские основания ценности семейной культуры
- Баркова Э.В. Онтология понимания и общения в экофилософской перспективе//Философия коммуникации: интеллектуальные сети и современные информационно-коммуникативные технологии в образовании/под ред. д.ф.н., проф. С.В. Клягина, д.ф.н., проф. О.Д. Шипуновой. СПб.: Изд-во Политехн.ун-та, 2013. С.110-118.
- Баркова Э.В. Восхождение к природно-культурному наследию -экофилософский путь в геокультуру будущего: к рефлексии методологических оснований//Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие: коллективная монограф. СПб, РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. 23-25 окт. С. 138-149.
- Баркова Е.В. Экологическая эстетика и флористический дизайн: от экологии пространства к экологии души//Studiaculturae.Вып. 15. Научный альманах. СПб: Изд-во СПбГУ, 2013. С. 51-57.
- Добротворский И.Л. Золотая книга руководителя. М.: Феникс, 2011.
- Евдокимова Е.С. Беседы об учителе. М.: Планета, 2013.
- Зинченко В.В. Ценностные принципы гуманизации общественного развития в современной западной социальной философии образования и воспитания//Almamater. Вестник высшей школы. 2013. №12.
- Иванова Е.В. Эколингвистика и роль метафоры в описании экологических проблем//Вестник Челябинского ун-та. Сер.: Филология. Искусствоведение. 2007. № 13(91). С. 32-37.
- Ковальчук М.В., Нарайкин О.С., Яцишина Е.Б. Конвергенция наук и технологий -новый этап научно-технического развития//Вопросы философии. 2013. №3. С. 3-12.
- Кульчицкая Н.Н. Мир художественного текста как пространство возрождения Человека//Текст, контекст, интертекст: сб. науч. Статей. М.: МГПУ, 2012. С.54-61.
- Лю Пэн. Управление формированием ценностных приоритетов молодежи в медиапространстве Китая: автореф. дис. … канд. социолог. наук. М., 2013.
- Пантин В.И., Столярова Т.Ф. Вырождение или возрождение? М.: Культурная революция, 2006.
- Соммэр Д.С. Мораль XXI века. М.: Кодекс, 2013.
- Фалько В.И., Кирилина Т.Ю. Экологическая культура и нравственные ценности студенческой молодежи (опыт социологического анализа)//Лесной вестник: Вестник Московского гос. ун-та леса: научно-информационный журнал. Мытищи: ГОУ ВПО «МГУЛ», 2002.
- Шварц Е.Л. Обыкновенное чудо. Сказки и стихи. М.: Текст, 1990.
- Швейцер А.Я родился в период духовного упадка человечества//Кризис сознания: сборник работ по «Философии кризиса». М.: Алгоритм, 2009.
- Haugen E. The Ecology of language. Essays by Einar Haugen. Standford: Standford University Press 1972 P. 325.