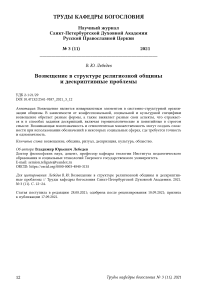Возвещение в структуре религиозной общины и дескриптивные проблемы
Автор: Лебедев Владимир Юрьевич
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 3 (11), 2021 года.
Бесплатный доступ
Возвещение является инвариантным элементом в системно-структурной организации общины. В зависимости от конфессиональной, социальной и культурной специфики возвещение обретает разные формы, а также выявляет разные свои аспекты, что отражается и в способах задания дескрипций, включая терминологические и понятийные в строгом смысле. Возникающая многозначность и семиотическая множественность могут создать сложности при использовании обозначений в некоторых социальных сферах, где требуется точность и однозначность.
Возвещение, община, ритуал, дескрипция, культура, общество
Короткий адрес: https://sciup.org/140294892
IDR: 140294892 | УДК: 2-1:21/29 | DOI: 10.47132/2541-9587_2021_3_12
Текст научной статьи Возвещение в структуре религиозной общины и дескриптивные проблемы
About the author: Vladimir Yurievich Lebedev
Doctor of Philosophy, Associate Professor, Professor of the Theology Department, Institute of Pedagogical Education and Social Technologies, Tver State University.
The article was submitted 28.08.2021; approved after reviewing 10.09.2021; ac-cepted for publication 17.09.2021.
Деятельность религиозного сообщества подвергается разнообразной оценке со стороны, начиная с эмоциональной и кончая формальноофициальной. Эта оценка формирует и отношение. Степень понимания, близости и родственности оценивающего может быть весьма разной, от членов той же конфессии до людей сугубо внешних и скептически ориентированных. Цели такой оценки также весьма вариабельны — от эстетической до юридической экспертной оценки. Отдельно необходимо оговорить цели воспитания правовой культуры, включающей компетентность в вынесении целой системы оценок (по разным оценочным шкалам). Мы хотели бы рассмотреть некоторые феномены и соотносимые с ними понятия, используемые в речевом узусе, как источник дивергентных интерпретаций и даже возможных коллизий при оценке, дающейся с разными целями и в разных системах понятий, включая административную и правовую оценку определенных действий и ознакомление с этой оценкой в ходе учебно-воспитательного процесса. В эпоху широкого распространения специалистов по каноническому и светскому праву (когда особенно ценились специалисты по обоим, эксперты utriusque juris , если приводить в пример реалии культуры классической Европы) некоторые проблемы, связанные с оценкой, могли решаться быстро и даже непринужденно благодаря наличию стандартной и устойчивой понятийно-терминологической системы. По мере отделения религиоведения и превращения его в отдельную научную дисциплину, обособления религиоведческого дискурса, медленно выраставшего из дискурса теологии1, а также с параллельным нарастанием секуляризационных тенденций, когда религиозные организации становились субъектами, полностью или частично утратившими особый социальный статус, значимой все чаще становилась внешняя экспертная оценка. Сейчас актуален вопрос о расширении практики именно религиоведческой экспертизы, что сопряжено с серьезным рефлектированием ряда понятий, входящих в религиоведческий дискурс. Например, вопрос о миссионерстве, его сущности, формах и допустимых границах является лишь наиболее ярким для настоящей социальной ситуации, к тому же в настоящий момент он часто вовлечен в круг именно юридических оценок, что придает ему особую злободневность, однако именно им возможный список проблем никак не исчерпывается, что говорит о более общих, принципиальных корнях самого этого вопроса как научного, религиоведческого.
В современных религиоведческих изданиях целый ряд определений представлен неединообразно. Для дискурса науки это вполне нормально и привычно, но при транспонировании этих понятий в юридический дискурс возможны коллизии не только семантические, но и прагматические. Важный для науки сущностный характер определения не подразумевает подробного перечня конкретных форм того или иного явления, что как раз необходимо для практической деятельности, где типичное научное определение может породить интерпретационные различия, нежелательные в прагматическом отношении. Когда речь заходит об актах деятельности религиозного сообщества, очень часто речь заходит и о миссионерстве и миссионерской деятельности. Реалии современного общества, действительно, делают именно этот аспект бытования религиозной общины особенно привлекающим внимание и требующим оценки и сопряженной с нею квалификацией. Жизненная реальность, как часто бывает, сопрягает достаточно абстрактную науку и область практической деятельности и наук более практически ориентированных.
Нередко при попытках анализа актов деятельности религиозной общины используется семантический компонент, «относящийся к богослужению» / «не относящийся к таковому». Этот семантический множитель может вноситься и в уже имеющиеся определения соответствующих форм деятельности, как обстоит дело и с уже упомянутым миссионерством. Помимо квалификации каких-то действий как богослужебных или не являющихся таковыми, возникает самостоятельная оппозиция: действия, адресованные «внешним» или не имеющие такой адресации (по крайней мере, в специальном порядке). Сюда же добавляется и более частная оппозиция: «происходящее в богослужебном здании (или помещении, функционально его замещающем)» / «происходящее вне такового» (вопрос о случайности, причинах вынесения действа за пределы здания может находить крайне разнообразные ответы, что часто зависело от исторической ситуации; так, целые группы, сецессионно отделившиеся от других и лишенные права пользования богослужебными зданиями, подчас собирались под открытым небом).
Однако, помимо этих дескриптивных признаков, имеются и онтологические характеристики религиозного действа, относящиеся к его направленности именно как к характеристике онтологической, фундаментальной. Здесь и приходится задуматься о возвещении, или, в более привычной терминологической традиции, керигме и керигматичности не только богослужебных актов, но и самого бытия общины в целом, так что сам этот термин, привычно связываемый прежде всего с герменевтикой Р. Бультмана и постбультманов-ской теологической традицией, обретает более широкие границы, в том числе и возможность применения к деятельности общин, не относящихся к христианству. Насколько у него есть шансы войти в семантическое ядро религиоведческого тезауруса, покажет время.
Для юридического дискурса важна семантическая ясность определений и удобство их употребления, поэтому остается возможность совершенствования и модификации указанного дискурса, в том числе и в силу связи с дискурсом религиоведения как самостоятельной и серьезной науки. Мы уже отмечали, что крайне разнообразные ритуальные формы, умножающиеся к тому же за счет различия религий и конфессий, могут быть обобщены в сравнительно небольшой перечень базовых ритуалогем2. Однако такой подход, интересный семиотике религии, фундаментальному религиоведению, для юридического дискурса оказался бы расплывчатым и требующим дополнительной интерпретации. Здесь нужны определения, четко представляющие те аспекты и свойства ритуала или деятельности в целом, которые являются тематичными для той ситуации, анализу которой юридический дискурс прежде всего и служит. Религиоведение привычно описывает сущность, конкретные эмпирические границы этой сущности отнесены на периферию интересов. С другой стороны, возможные действия столь разнообразны, что перечни могли бы стать как минимум очень большими, а некоторые внесенные в них элементы — неоднозначными. Это ставит перед религиоведом серьезный вопрос о самой сути форм религиозной деятельности, включая и те, которые нуждаются в адекватном перевыражении иными дискурсами. Если обращаться к уже приведенному примеру с «миссионерской деятельностью», то нам кажется правомерным рассматривать в рамках религиоведческого анализа «миссионерство» и «миссионерскую деятельность» как не вполне эквивалентные понятия, так как первое характеризует особенности ориентации общины на внешнюю среду безотносительно к специально оговоренным условиям, а второе принадлежит юридическому дискурсу и добавляет такой существенный момент, как наличие определенных социальных условий для миссионерства, сопряженных с целым рядом ситуативно определенных черт и особенностей. Семантические особенности здесь являются следствием особенностей онтологических. Помимо несовпадения частотных терминов, наличествует их семиопрагма-тическая причина — «миссия» и «миссионерская деятельность» соотносятся как абстрактная, но реальная единица языка и воспроизводимая единица речи. Если же добавить сюда понятие «миссия», то мы получаем уже более сложную разноуровневую оппозиторную структуру, реферирующую к реалиям с нарастанием и убыванием определенных признаков.
Наряду с «керигмой» нередко используется и термин «иерофания», так что порой они становятся семантическими эквивалентами, что зависит и от особенностей научных школ, однако же увеличивает терминологическую пестроту. Но «иерофания» (популярностью термина мы обязаны в значительной степени М. Элиаде и представленным им вариантом феноменологической дескрипции религии) и «керигма» все же не являются совпадающими понятиями, но из-за отсутствия четкой терминологической конвенции порой используются для обозначения тождественных или достаточно близких вещей. Керигма подразумевает семантические компоненты «кому» и «о ком / чем», иерофания более самодостаточна, но оба эти явления могут быть поняты достаточно разнообразно и творчески.
Спорные и неоднозначные понятия (т.е. не совсем понятия) требуют максимального прояснения. Приходится обратиться к глубинной сущности «ке-ригмы» и не тождественной ей «керигматичности», а также «возвещению» как возвещению о принципиально новом. Из-за споров, возникших вокруг бультмановской и постбультмановской геременевтики, теология до сих пор с осторожностью пользуется этим термином, не обладающим той определенностью значению, что нужна для богословского термина. А. П. Забияко определяет керигму в первую очередь феноменологически как то, что провозглашено, тут же добавляя уточнения о ее понимании в христианской традиции интерпретации термина3. Достаточно большой нейтральный обзор разнообразных пониманий керигмы представлен, напр., Д. Фергюсоном4. Эта ситуация делает возможным его более активное религиоведческое использование. При этом, действуя в рамках религиоведения, разумно распространить это понятие и на нехристианские религии, иначе нам пришлось бы придумывать для каждой из них эквивалентный термин. Также неслучайно, что теория керигмы складывалась во многом под влиянием философии экзистенциализма, да и влияние иных авторитетных философских направлений тут тоже несомненно.
Многообразные понимания керигмы в целом можно свести к трем основным:
-
- Возвещение как таковое;
-
- Определенные формы этого возвещения, среди которых особое место занимают формы богослужебные;
-
- Расширенное понимание — как распространение неких новых сведениях и пробуждения интереса к религии, формы чего могут быть предельно разнообразны.
Нетрудно заметить, что говоря о керигме, в первую очередь артикулируют ее формы и широту распространения, что имплицирует и вопрос о возможности «вторичной керигмы», продолженной, растянувшейся во времени, а не связанной только с моментом провозглашения Откровения и ближайшим к нему временем. О связи самого бытия и керигмы задумывались многие авторы, включая о. П. Флоренского, который видел выражение общины к внешнему в Литургии и в литургичности вообще; для него керигма представала прежде всего именно в литургическом действе, понятом в специфической для о. Павла парадигме философии символа — керигма символична. Фома Аквинат неслучайно считал культ единым явлением, имеющим две стороны — внутреннюю и внешнюю. Культ в любом случае структурирован как направленный к Богу и одновременно исходящий от Него. Восходящее выходит из пространства в семиотику, уходя в чистую апофатику, нисходящее обретает «семиотическую плоть» и входит в пространство синергии. Само это нисхождение можно считать керигмой как таковой, переходящей в семиотизированную кериг-му, которая потом может «расходиться» в социальном пространстве. Культ (по о. П. Флоренскому) как совокупность более частных священных реалий и действий обеспечивает связь с иным миром5.
В терминах иерофании это можно обозначить как иеротопию, зарождение и разворачивание священного пространства (см., в частности: Иеротопия6). Отсюда уже легко выводится литургичность культа, но не так очевидна его сопутствующая керигматичность. Это порой порождало юридические проблемы в случаях действия законов, ограничивавших, например, смену конфессии. В этих случаях неизбежно возникали вопросы о мотивах стремления к такой смене. Например, обсуждения этих проблем стали частыми в Российской империи после изменений законодательства, связанных с завершением «эпохи Победоносцева». В числе частых причин указывалось и привлекательность богослужебного культа самого по себе, т. е. речь шла о керигматическом эффекте богослужения и эстетики ритуала как его аспекта. В любом случае, ке-ригматичность оказывалась выраженной.
Нам известны из истории многочисленные способы ограничить кериг-му запретительно-ограничительными мерами, начиная с таких банальных вещей, как ограничение возможностей заводить культовые здания или ограничения на оформление соответствующего экстерьера: не придавать молитвенным зданиям особых архитектурных форм, не украшать их никакими отличительными знаками, не появляться вне здания в особой одежде, ну и, конечно, не совершать ритуальных действий вне здания. Так, старообрядцы Российской империи получили в качестве компромиссного разрешения позволение на пение «Святый Боже» при переносе тела умершего на кладбище. В жалобах отчетливо фигурировало указание на то, что даже иудеи имеют право отмечать свои молитвенные здания «шестилучной звездой», а старообрядцам (исключая, разумеется, единоверцев), отказано и в этом. Известна и попытка запретить старообрядческим епископам останавливаться в столичных городах, что привело к юридическому и богословскому парадоксу: поскольку синодальная позиция заключалась в отрицании наличия у старообрядцев священства вообще, запрет распространялся, скорее, на тех, кто считается, а не является старообрядческим епископам. Но из-за особенностей юридической формулировки это вызвало целую богословскую полемику о благодатности старообрядческой иерархии (в ней активно участвовал и известный старообрядческий автор Ф. Мельников), ее косвенном признании и о том, что при прямом понимании запрета из, например, Москвы мог быть выслан любой самозванец, назвавшийся старообрядческим епископом, а тот, кто нигде таким образом не отрекомендовался, под действие ограничительной нормы не подпадает. Так неоперативность надзирательных органов послужила не только активизации споров о старообрядческом священстве, но и обнажению реально существующего религиозного вопроса. Можно вспомнить и эпизод, имеющий отчасти легендарный компонент, о запрещении иудейской общине Москвы открыть уже построенную синагогу из-за того, что Великий князь принял ее купол за купол православного храма. Вообще аскетичная архитектура синагог нередко объяснялась именно желанием уменьшить керигматический потенциал. Интересно, как повлияла бы на судьбы иудаизма еще более сдержанная архитектура? Сюда же может быть отнесен отказ, например, со стороны некоторых известных канторов напевать пластинки, пользовавшиеся такой популярностью, что их цифровые копии и сейчас являются востребованной вещью. Интересующиеся даже посещали синагогальные службы, но само пение, не будучи зафиксированным, как таковое не существует. Иудаизм здесь служит удобным примером — это религия без прозелитического компонента, однако уличные действа, действа вне молитвенного здания, там совершаются нередко, хотя без них можно и обойтись, они не самые принципиальные. Это не только, например, благословения Луны, для которых молящиеся часто собирались на берегу реки, праздничные костры, а также пляски хасидов (некоторые как раз в момент переноса свитка Торы, в том числе и когда его несут в синагогу, т. е. происходит это формально вне стен молитвенного здания). Керигма (керигматичность) и миссионерство оказываются понятиями связанными, но разноуровневыми, если тезаурус понятий понимать, так сказать, трехмерно7.
Само существование общины керигматично. Даже если она существует в деревянном частном доме обычного типа, ничего не совершает на улице и не распространяет листовок и буклетов, факт ее существования может привести туда интересующегося, дальнейшие же последствия могут быть различными, анализировать их мы в пределах этой статьи не будем. Керигма относится к онтологии бытия общины, а, например, миссионерство является праксеологической экспликацией онтологии. В свою очередь, юридическое осмысление является уже элементом социального бытования и первого и, особенно, второго. Образуется парадокс: полностью ликвидировать керигму можно только полностью ликвидировав общину. Кстати, и тогда миссионерство может сохраняться, благодаря отдельным людям, сохраняющимся какое-то время традициям общины и т. п. Керигматичность самого существования общины особенно ярко являет себя в сложных и нетипичных ситуациях, например, в случае существования православных общин в Европе (включая и такой достаточно сложный случай, как православные общины западных обрядов (ряд частных деталей см., напр.: Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни8), общин высокоцерковных протестантов — лютеран и англи-кан — в окружении более традиционного протестантизма). Высокоцерковные англикане свидетельствуют о себе уже не за счет знаменитых «трактатов» и не из-за обретающих известность конфликтов на почве обсуждений женского священства и однополых «браков», а именно самим существованием и ритуальной практикой своих общин. Подобные явления можно наблюдать в постсоборном католицизме, где традиционалистское миссионерство было уже сплошь и рядом лишено храмов, утвари, достаточных материальных средств и т. п. Но оно питалось самой сохранившейся традицией и некоторым числом ее носителей, включая и тех, кто принял решение в храмы, отошедшие модернистам и подвергшихся стилистическим изменениям в духе постсоборной литургической концепции, не ходить, т. е. вышел из числа членов конкретной общины по юридическим, да и по ряду церковно-канонических представлений. Известны эпизоды с удержанием за собой «лефевристами» некоторых храмов — не просто «акций», а скорее стихийного перерастания самой онтологии религиозной традиции в социальный праксис. Не повлияло ли это на решения светских инстанций? В результате появились уникальные культурные памятники, сохранившие дореформенный уклад даже во многих мелочах; в этом смысле они древнее музеефицированного Собора Нотр-Дам.
Поведение масс «тихоновцев» также недостаточно объяснять, как это делалось, малообразованностью, агитацией со стороны консервативного духовенства и иррациональной неприязнью к сторонникам курса реформ. Сама керигматичность традиции диктовала определенный праксис, включая и негативные формы — непосещение определенных храмов. Здесь мы наблюдаем ту же ситуацию, но в зеркальном отображении: есть храмы, есть богослужение, есть священники, но нет желания присоединяться. Однако приводить к правовому нигилизму и парализовывать юридическую практику такие случаи и сложность в их интерпретации не должны. Юридическая практика опирается на наиболее показательные элементы деятельности общины, чтобы наполнить содержанием вербальный концеп. «миссионерская деятельность» (раз уж мы именно его выбрали в качестве примера). С другой стороны, это дает лазейку и тем, кто такую деятельность откровенно проводит — например, объявлением ее частью богослужебного ритуала, что переводит вопрос в несколько иной регистр. Известный эпизод «афонской смуты», помимо прочего, частично фрагментировавший конфессиональное сообщество, также может быть осмыслен в духе вышесказанного.
Богослужение способствует обретение идентичности, в том числе и самой общиной, например, возрождающейся в ситуации утраты традиции из-за длительного перерыва, повлекшего уход из жизни более старого поколения, оказывающегося обычно наиболее прочным носителем традиции и связанной с нею самоидентичности. Обретение идентичности выступает еще одной стороной керигматичности. На это указывают, например, исследования, посвященные идентичности современного англиканства (а эта проблема стала остро ощущаться по меньшей мере со времен Оксфордского движения)9. Также именно традиция и базовые особенности богослужения и организации (епископат, наделенный реальными правами и понимаемый в духе апостольской сукцессии) стала основой для обретения идентичности епископальными церквами, в результате чего они заметно выделились из пестрой массы протестантских конфессий и деноминаций англоязычного мира10 — акт, несомненно связанный с керигматичностью. Старообрядческий феномен иллюстрирует то же самое, лишь с иной стороны. Понятно, почему была так важна единоверческая модель, включая и желательность ее внедрения даже ранее 1800 г.11
Керигма оформляется семиотически, а значит, может быть осмыслена в семиотических и информационных терминах, следовательно, и на факте многообразных путей организации информации. Обычно внимание фиксируется именно на словесной информации или на явных, понятных большинству невербальных аллегориях12, но информация может распространяться и иными способами, не уменьшая при этом керигматичности. При этом керигма не тождественна научению и обучению. Научение не только обладает процес-суальностью, оно немыслимо вне постоянных и единообразных дискурсных и семиотизированных форм. Отсюда становится ясной актуальность осмысления керигматичности в понятиях семиотики религии. Одна из таких проблем, на наш взгляд, делает продуктивным использование термина «псевдоморфоза»13, введенного в широкий обиход прот. Г. Флоровским.
Основными моделями псевдоморфоз нам видятся изменения морфологических границ между:
-
- Культурным и богослужебный (частные случаи — декорирование богослужебных действий под «культурно-просветительское мероприятие или как раз напротив, превращение богослужения в культурное, очень часто этнокультурное мероприятие»;
-
- Богослужебным и миссионерским;
-
- И, в результате контаминации упомянутых случаев, культурным, богослужебным и миссионерским.
Развитый выше тезис о керигматичности самого бытия общины не снимает вопроса о реальности таких псевдоморфоз и их сознательного и целенаправленного использования.
Типичным примером керигматически насыщенных ритуальных форм являются все процессии, кстати, весьма популярная ритуальная форма в разных религиях. Например, в практике Римско-Католической Церкви, где вообще распространены не принятые Православием теофорические профессии с выносом Святых Даров, Крестный ход на Торжество Тела Божьего (по дореформенной номенклатуре круга годовых праздников) изначально предполагал именно свидетельство миру, а потому его совершение внутри храма, если возникали препятствия к обычному совершению, был в какой-то мере бессмысленным. Для поклонения верующих можно было бы и просто выставить Святые Дары в дароносице, как нередко в римском обряде и делается. Не случайно, что в разное время власти, не симпатизировавшие Церкви, в числе первых мероприятий налагали запреты именно на крестные ходы как на яркое свидетельство миру (попутно под ограничения попадали и подобные действия, например, погребальные ритуалы на кладбище, видимые, опять же всем, рядом оказавшимся). Постоянные попытки южно-французских протестантов препятствовать таким крестным ходам и высмеивать Евхаристию во многом подготовили стихийные взрывы недовольства14. О погребальных процессиях на примере старообрядцев уже было сказано, ограничения на похоронные процессии с участием духовенства со стороны светской власти хорошо известны из истории.
Конечно, нужно согласиться, что цель культовых действий лежит, прежде всего, в области достижения единения небесного и земного, т. е., чисто теоретически, может совершаться целиком за храмовыми дверями, но это не отменяет эффект ознакомления с элементами вероучения сторонних наблюдателей. Часто проблемными в плане интерпретации становились действия на грани двух пространств: священного и профанного или разных зон священного пространства, примером чего являются процессии, особенно выходящие из священного пространства или устремленные к нему, уже рассмотренные нами выше. Упомянутые выше ограничения, достаточно многочисленные в истории всех достаточно известных религий и конфессий, были направлены на миссионерский компонент ритуальной, культовой части религии (т. е. практически самого центра керигмы), воздействия на эмоции и интеллект, когда керигматическим действием, порождающим внимательную заинтересованность, могут выступать не только обряды и богослужения, но и просто религиозная символика, вообще все, что так или иначе выделяет жизнь общины из потока обыденной жизни. При этом характеристика «намеренность» / «ненамеренность» задает ряд серьезных признаков, кстати, существенных для юридического дискурса, но самой сути керигматичности практически не касается. Видимо, для адекватности юридической оценки такая степень религиоведческого анализа и не обязательна, однако несомненно, что открывается религиоведческая проблема, интересная для исследования сама по себе.
В свете анализа керигматичности становится понятной необходимость взвешенности религиоведческой оценки ряда действий религиозных общин, поскольку именно керигматичность и может оказаться в центре правовых коллизий, а ее семиотическое оформление, в первую очередь отражаемое, например, в некоторых правовых документах, на самом деле является онтологически вторичным. Керигматична и сама эстетика богослужения. В этих случаях богослужебный ритуал как таковой не суммируется с эстетическим эффектом, на самом деле эстетическое — аспект ритуала, а не привносимый онтологический эпифеноменальный компонент, о чем применительно к искусству писал М. Мерло- Понти15. Но если искусство метафизично, то любое искусство, вошедшее в поле религии, религиозной деятельности, становится теологичным (псевдотеологичным. Ср.: Флоренский П. А., свящ. Исследования по теории искусства16). Эстетика богослужебного действа не сводится лишь к воспитанию эстетического вкуса верующих (каковую точку зрения можно найти, например, у прот. Г. Шавельского, впрочем, в данном случае не ставившего целью подробный анализ эстетических феноменов17), только педагогикой и даже только и исключительно аскетикой дело не ограничивается. Эстетика становится инобытием керигматичности.
Ввиду такой керигматичности воздейственность не только богослужений, но и ряда других актов, связанных с бытием и деятельностью религиозного сообщества, может быть вполне выраженной безотносительно к наличию или отсутствия намерения. Подобный эффект трудно просчитать и строго единообразно фиксировать. Порой это может быть результатом случайных единичных действий. Например, чтение соответствующих молитв одним человеком в трамвае, что пришлось наблюдать автору, вполне может формировать заинтересованность. Равным образом, ориентация действий преимущественно внутрь храмового здания или вовне, вплоть до возможности обходиться без него, могут как усиливать керигматический эффект за счет атмосферы закрытости, так и полностью разочаровать за счет преувеличенных или вовсе инадекватных ожиданий, оказавшихся обманутыми. В первой половине 1990-х гг. в условиях быстро меняющегося культурного поля поиски храмов и общин были подчас сверхактивными, но результаты этих поисков были весьма различными. Керигматичность трудно обеспечить только приемами религиозного маркетинга, иначе появится очередная псевдоморфоза.
Анализ приведенных выше псевдоморфоз не только углубил бы религиоведческое понимание онтологии религиозной деятельности, но и мог бы помочь конструированию иных дискурсов, включая юридический, исключая намеренные использование именно действий псевдоморфического характера с прагматической целью выдать одно за другое, создать заведомую имплицитность действия, мимикрирование, благодаря которому, например, запланированное привлечение внимание можно было бы выдать за полностью и совершенно случайное. Современное религиоведение, являясь активно развивающейся наукой, внося серьезные теоретические разделения, казалось бы, тождественных понятий, также должно быть учтено, даже если предлагает более трудоемкое осмысление определенных вещей. Это повлекло бы и более упорядоченное и рационально отобранное перечисление определенных актов религиозной деятельности, интересных уже не столько фундаментальному религиоведению, сколько иным областям функционирования общества и соответствующим дискурсам.
Учитывая вышеизложенное, полагаем, что в рамках, например, юридического дискурса необходимо расширенное и более подробное описание тех действий, их омонимических вариантов и вариантов одной и той же ритуало-гемы, которые могут относиться к сфере интересов социальных институтов, которые используют этот дискурс, где может фиксироваться, например, «миссионерская деятельность». Это будет способствовать сочетанию принимаемых мер с современным уровнем развития религиоведения, уже очень сильно не похожего, например, на образцы ну хотя бы двадцатилетней давности. Построение стройной терминосистемы, тезауруса понятий — одна из задач современной религиоведческой науки; в отличие от теологии такой тезаурус пока не сложился. Это безусловно будет иметь и важное прикладное социальное значение, включая педагогическое — формирование правовой культуры не должно запаздывать.
Список литературы Возвещение в структуре религиозной общины и дескриптивные проблемы
- Десимон Р. Варфоломеевская ночь и парижская «ритуальная революция» // Варфоломеевская ночь: событие и споры. М., 2001. С. 138-189.
- Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни: Воспоминания. М.: Моск. Рабочий; ВПМД, 1994. 621 с.
- Забияко А.П. Керигма // Религиоведение: Энциклопедический словарь. М.: Академический словарь, 2006 С. 518.
- Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М.: Индрик, 2006. 764 с.
- Лебедев В. Ю., Прилуцкий А. М. Семиозис и семиодинамика теологических и мифологических знаковых систем. Тверь: ГЕРС, 2010. 399 с.
- Мерло-Понти М. Око и дух // Эстетика и теория искусства ХХ века. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 111-121.
- Подмор К. Повесть о двух церквях: сопоставительный анализ экклезиологии епископальной церкви и Церкви Англии // Подмор К., Прайс К. М., Фадеев И. А. MAGNUM IGNOTUM. Т. 6. Англиканство. М.: Филин, 2018. С. 104-164.
- Прилуцкий А. М. Семиотика религии: Философско-религиоведческие исследования. СПб.: Издательский дом «Инкери», 2007. 220 с.
- Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 336 с.
- Фадеев И.А. «What's in a name»: понятия ANGLICAN и ANGLICANISM в контексте проблемы конфессиональной самоидентификации Церкви Англии и церквей англиканского сообщества // Подмор К., Прайс К. М., Фадеев И. А. MAGNUM IGNOTUM. Т. 6. Англиканство. М.: Филин, 2018. С. 7-67.
- Фергюсон Д. Керигма // Теологический энциклопедический словарь / Под ред. У. Элвелла. М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2003. С. 574-575.
- Флоренский П.А., свящ. Собрание сочинений. История и философия искусства / Сост., общ. ред. игум. Андроника (А. С. Трубачева). М.: Издательство «Мысль», 2000. 447 с.
- Флоренский П.А., свящ. Собрание сочинений: Философия культа / Сост., общ. ред. игум. Андроника (А. С. Трубачева). М.: Издательство «Мысль», 2004. 686 с.
- Шавельский Г. И., прот. Русская Церковь пред революцией. М.: «Артос-медиа», 2005. 510 с.