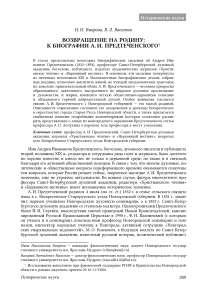Возвращение на родину: к биографии А. И. Предтеченского
Автор: Вихрова Нина Николаевна, Васильев Валерий Леонидович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Статья в выпуске: 5 (76), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены некоторые биографические сведения об Андрее Ива- новиче Предтеченском (1832-1893), профессоре Санкт-Петербургской духовной академии, богослове, публицисте, издателе академических журналов «Христианское чтение» и «Церковный вестник». В основном, эти сведения почерпнуты из печатных источников XIX в. Малоизвестные биографические детали, собранные воедино, позволяют высветить живой, не чуждый неоднозначных трактовок, но довольно привлекательный облик А. И. Предтеченского - человека прекрасно образованного, деятельного, настроенного на широкое духовное просвещение и духовенства, и мирян, имевшего четкую общественно-церковную позицию и обладавшего горячей добродетельной душой. Особое внимание уделяется связям А. И. Предтеченского с Новгородской губернией - его малой родиной. Описывается современное состояние его захоронения в урочище Воскресенское в окрестностях города Старая Русса Новгородской области, а также прилагается снабженная нашими подробными комментариями (которые позволяют расширить представление о лицах из новгородского окружения Предтеченского) статья профессора А. П. Лопухина о перевозе тела профессора к месту упокоения.
Профессор а. и. предтеченский, санкт-петербургская духовная академия, журналы "христианское чтение" и "церковный вестник", некролог, село воскресенское старорусского уезда новгородской губернии
Короткий адрес: https://sciup.org/140223465
IDR: 140223465
Текст научной статьи Возвращение на родину: к биографии А. И. Предтеченского
Имя Андрея Ивановича Предтеченского, богослова, духовного писателя и публициста второй половины XIX в., редактора и сотрудника ряда газет и журналов, было достаточно хорошо известно и имело вес не только в церковной среде, но также и в светской, благодаря его активной общественной позиции. В связи с тем, что многие духовные, политические и общественные вопросы пореформенного времени оказываются созвучны тем вопросам, которые Россия решает сейчас, творческое наследие А. И. Предтеченского, возможно, еще не утратило актуальности. Во всяком случае, фигура многолетнего профессора Санкт-Петербургской духовной академии, редактора «Христианского чтения» и «Церковного вестника» имеет несомненное историческое значение.
А. И. Предтеченский родился 4 июля (по ст. ст.) 1832 г. в семье сельского священника в с. Воскресенское Старорусского уезда Новгородской губернии. В 1851 г. закончил первым учеником Новгородскую духовную семинарию, а в 1855 г. Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью магистра. Однокурсниками Предтеченского были И. И. Сергиев, впоследствии святой праведный Иоанн Кронштадтский, канонизированный Русской Православной Церковью в 1990 г., Ф. Н. Павлинский (с которым он учился и в семинарии), впоследствии профессор Новгородской семинарии и гимназии, инспектор народных училищ в Новгороде, активный сотрудник «Новгородских епархиальных ведомостей», М. О. Коялович, в будущем коллега по Санкт-Петербургской духовной академии, известный русский историк, политический публицист
славянофильского толка, активно отстаивавший права православного населения в Западнорусском крае и др. После окончания Академии Предтеченский остался преподавателем в alma mater. Молодого, энергичного преподавателя сразу стали привлекать к административной и академической научной деятельности. Так, с 1856 по 1860 г. он уже исполнял должность помощника секретаря Академии, заведовавшего делами внутреннего правления, а с 1857 г. он входил в редакционный комитет по переводу и изданию византийских историков, был назначен казначеем редакции2. В 1859 г. А. И. Предтеченский был командирован в Новгород для приема книг и рукописей Софийской библиотеки с последующей доставкой в библиотеку Академии. «А. И. Пред-теченский донес потом, что им приняты все рукописи Софийской библиотеки, 485 старопечатных книг, несколько раскольнических и 22 книги на иностранных язы-ках»3. А. Л. Катанский, учившийся в СПбДА в 1859–1863 гг., будущий профессор Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, вспоминал, что «бакалавр А. И. Предтеченский, очень живой, красноречивый, хотя читал по составленным им лекциям, прекрасный знаток новейших языков, в особенности английского. Пользуясь преимущественно английской литературой по истории древнего мира, Ассирии, Египта, он в особенности долго останавливался на истории древней Греции и, в частности, на веке Перикла. Его лекции были обильны картинными описаниями и хорошо знакомили нас с античным миром. Вообще, он был очарован этим миром, что сказывалось даже в домашней его жизни, в квартире, обставленной статуями и картинами. Недаром впоследствии, когда он был редактором „Церковного вестника“ (1875–1880), он энергически отстаивал классицизм графа Д. А. Толстого против ожесточенных на него нападок со стороны печати и общества. По истории средних веков и по истории Нового времени чтений было мало, по крайней мере, не припоминается. <…> Относились мы к этому даровитому бакалавру не без симпатии и не без уважения, хотя подчас и подсмеивались над некоторыми его слабостями. А. И. Пр<едтеченский> был человек богато одаренный, широкой русской, увлекающейся, страстной натуры. Он держал себя очень близко к студентам; многие из товарищей, в особенности его земляки-новгородцы, ходили к нему в его бакалаврскую квартиру, находившуюся в академическом здании. <…> Наши отношения к нему были вообще корректные. На младшем курсе был даже один случай, весьма характерный в этом отношении. Приходит Пр<едтеченск>ий раз к нам на лекцию, вероятно после „всенощного бдения“ за картежной игрой (он любил ее и подобные удовольствия и предавался им со всем пылом своей страстной, широкой натуры) и начинает читать по своим запискам, но через несколько времени слышим что-то, совсем не относящееся к данной лекции, как говорится — совсем из другой оперы. Оказалось, что он не пересмотрел своих листков, перемешал их с другими, к этой лекции не относящимися. Мы сделали вид, что не заметили этого скандала и ни одним движением не дали ему понять, что нам ясна причина внезапного его перехода к другой теме. На следующий класс он сам заговорил об этом случае и горячо благодарил нас за нашу к нему деликатность и вы-держанность»4. Однако именно этот преподаватель оказался в центре скандала о студенческих волнениях в Академии, происходивших в 1861 г. Эту историю подробно осветил в своих воспоминаниях тот же А. Л. Катанский, бывший непосредственным участником событий. Чтобы быть объективным, он сначала привел свидетельство об этой истории из воспоминаний митрополита Московского Леонтия (Лебединского): «За отсутствием преподавателя греческого языка, поручено было преподавание его бакалавру по истории Предтеченскому. Он (кстати сказать, держал себя со студентами, особенно с некоторыми, по-товарищески, курил и играл с ними в карты), пришедши в класс, сказал: „Господа, я сам плохо знаю греческий язык, будем заниматься кой-чем“. Студенты вскоре перестали посещать класс in corpore, а затем почти все. Вот начало события, которое наделало шума в Петербурге. Предтеченский нажаловался ректору в преувеличенных выражениях. И вот явился в глазах начальства бунт студентов. Ректор доносит митрополиту формально о бунте, — и что же вышло? Экстренным протоколом Св<ященного> Синода исключены из академии до 30 человек (25?). Какой пожар от ничтожной искры! Ректор, между прочим, в своем донесении уверял, что он сам в классе убеждал студентов ходить на греческий язык — и его не послушались. Через несколько времени, когда по Петербургу разнеслась история студенческая, и высшее начальство пожалело о поспешности своей, мне поручено было сделать дознание (это после синодского решения?), — и я открыл, что дело зашло из-за пустяков, что ректор не обращался к студентам с увещанием в классе, и вообще вся история наполовину сочинена под диктовку Предтеченского. Я высказал все это митрополиту, и состоялось определение Синода — принимать исключенных, если подадут прошения. Почти все, за исключением первых, лучших, трех-четырех человек, подали и приняты обратно»5. Детали этой истории далее уточняет А. Л. Катанский: «Мы были крайне удивлены, когда бакалавр А. И. Предтеченский записал в классном журнале, что на лекции 4 октября было у него всего несколько человек, помнится — около десяти-двенадцати, которые и поименованы. Сначала мы даже не обратили на это особенного внимания, только энергически выбранили Пр<едтеченско>го. Помнится, что, идя в столовую к обеду, говорили между собой: „Что это штуку выкинул Андрей (так мы называли его часто, а тут в сердцах, даже ругательным полуименем)? Неужели ему не довольно, что было у него столько студентов. Василий Николаевич Карпов, не ему чета, постарше его и попочтеннее, да не записывает же в журнал не бывших у него на лекциях, а ведь даже у Карпова бывает нередко не больше слушателей, чем у Пр<редтеченско>го, к тому же временного преподавателя греческого языка. Да что, братцы, в следующий раз не пойдем к нему совсем. Вот он и увидит, как записывать нас в журнал“. Перед наступлением следующего класса по греческому языку это и приведено было в исполнение, без всяких дебатов и нарочитых обсуждений этого шага; состоялось это как-то просто, само собою. Наступил следующий класс греческого языка. Не пошел никто, кроме трех студентов… <…> Сначала мы считали это дело не более, как личным делом бакалавра А. И. Пр<едтеченско>го, очень чувствительного к популярности между студентами и потому обиженного нашим недостаточно внимательным, по его мнению, к нему отношением. Мы считали его человеком довольно легкомысленным и по свойству его характера способным к различным выходкам. Нам и в голову не приходило, на первых порах, что завязывается серьезное дело, в котором главную действующую роль играет не молодой бакалавр, а лицо гораздо его повыше»6. Дело закончилось тем, что после исключения почти всего курса в духовных кругах Петербурга пошел шум, дошло до Синода, который не одобрил «крутых мер» ректора. Решено было дать день, чтобы исключенные написали прошение о принятии их снова на курс, в результате из 25 человек вернулось 19. Между прочим, «не вернувшимися» были впоследствии весьма известные личности: М. И. Владиславлев, сотрудник изданий Ф. и М. Достоевских, ректор Санкт-Петербургского университета, И. Я Спрогис, историк, этнограф, публицист, сотрудник Публичной библиотеки, директор Виленского центрального архива древних актов, Ф. И. Абрамович, кандидат С.-Петербургского университета, преподаватель Новгородской гимназии, и др. Следует добавить, что «случай в греческом классе» попал и на страницы герценовского «Колокола»7.
Сам А. И. Предтеченский через год после этой истории стал экстраординарным профессором Академии и довольно активно начал заниматься научной и общественно-публицистической деятельностью: читал публичные лекции, писал статьи в журнал «Христианское чтение», редактором которого он впоследствии стал (1874), издавал брошюры, видимо, с середины 1860-х гг. до 1870 г. был привлечен К. В. Трубниковым в качестве одного из главных сотрудников санкт-петербургской ежедневной газеты «Биржевые ведомости»8. Работы его носили в основном апологетический характер: «О необходимости священства, против беспоповцев» (1861), «Место и значение чудес в системе христианства»9 (1863) и др. В 1864 г. вышла книга «Что разумнее: вера или неверие?», в которой собраны публичные лекции А. Предтеченского. В них он выступал против увлечения западными рационалистическими теориями, солидаризировался с идеологическими установками московских славянофилов (часто ссылаясь на газету «День» И. С. Аксакова (1861–1865)10) на существо текущего момента, ка- сающегося крестьянского и польского вопроса, народного образования и улучшения быта сельского духовенства и даже в целом на ход послепетровского исторического процесса. Так, он позволил себе высказать крамольно-славянофильскую мысль (которая прошла мимо цензуры) о том, что народ и государство не едины: «В внешней и внутренней жизни — т. е. в своих высших стремлениях и чаяниях — русский народ XIX столетия таков же, каков он был в первые годы царствования Петра Великого; вместе с духовенством он постоянно оставался при своих православных воззрениях в ту самую пору, когда в образованном классе все преемственно изменялось и заменялось одно другим. Народ с духовенством во главе стоял — безмолвным тори среди господства и шума наших вигов и радикалов. Вот почему духовенство, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, не разорвало связи с народом, как разорвали связь с ним другие образованные сословия: народ и духовенство соединены между собою верованиями своими, и эта связь — вместе с распространением образования в народе — еще более укрепится»11.
Православный богословско-просветительский журнал «Христианское чтение», издававшийся с 1821 г. при Санкт-Петербургской духовной академии, традиционно редактировался ректорами Академии. Но с 1871 г. совет Академии предоставил возможность избрания редактора и цензора общему собранию наставников. Историк академии И. Чистович писал: «В 1874 году 13 мая редактором „Христианского чтения“ избран был профессор А. И. Предтеченский с поручением рассмотрения и цензурного одобрения статей, печатаемых в журнале, а в 1875 году 3 апреля определен помощником редактора доцент Н. П. Рождественский, с предоставлением ему, в случае болезни или увольнения в отпуск редактора, всех прав и обязанностей редактора». Через год А. И. Предтеченский становится одновременно и редактором «Церковного вестника», первый номер которого вышел 4 января 1875 г.12 Об истории возникновения этого издания писал А. Л. Катанский, сменивший Предтеченского на посту редактора в 1881 году: «Почин в этом литературном предприятии принадлежал ректору И. Л. Янышеву, но устроилось это дело не совсем так, как он предполагал. Задумав оживить редактируемое им „Христианское чтение“ известиями из текущей церковной жизни и в этом направлении введя в него отделы „Обозрение внутренней жизни“, „Летопись заграничной жизни“, „Вести с Востока“, он предложил еще в 1871 г. основать особое издание — „Церковный вестник“ в качестве еженедельного приложения к „Христианскому чтению“, как орган, между прочим, официальных сведений из церковного управления и жизни. Преднаметил и редактора для этого нового издания в лице лектора французского языка в академии А. И. Поповицкого. В квартире ректора состоялось собрание всех академических наставников, и, хотя заметно было несочувствие академической корпорации к делу нового издания, а отчасти и преднамеченному редактору, но в конце концов дело это, с грехом пополам, уладилось. Получено было согласие Св<ященного> Синода на это издание, объявлена даже на него подписка, и, тем не менее, все это дело прекратилось из-за несочувствия корпорации академических преподавателей к этой, по их мнению, не сродной им затее. „Какие мы публицисты, — говорили старые и молодые профессоры и доценты, — мы кабинетные люди, далекие от жизни“. То же говорили они потом в 1874 г., когда за ту же мысль об издании академической газеты — „Церковного вестника“ — ухватился профессор А. И. Предтеченский, опытный публицист, много перед тем работавший в „Биржевых ведомостях“, изд. Трубникова. А. И. Пр<едтеченск>ий в это время редактировал „Христианское чтение“. Собрались на сей раз в квартире профессора А. И. Пр<едтечен>ско- го для обсуждения новых предположений относительно старого дела. Но и на этот раз дело это висело, можно сказать, на волоске. Кроме вышеприведенных речей сильно раздавались голоса, выражавшие сомнение относительно материального успеха издания, предрекающие неминуемый его крах. Складывалось отрицательное решение по возбужденному вопросу. И был момент, когда казалось, что дело нового издания окончательно провалилось. Но в этот момент А. И. Пр<едтеченск>ий вдруг заявляет, что весь риск издания и все материальные убытки, если они будут, он берет всецело на себя, а успех и выгоды пусть будут общие — всего собрания наставников, соиздателей. Такое заявление поколебало решимость собрания, и постановлено было, приняв весь риск издания на себя, приступить к изданию нового академического органа под названием „Церковный вестник“, причем „Христианское чтение“ превращалось в ежемесячное приложение к этой еженедельной газете»13. Окончательно официальным органом Священного Синода журнал «Церковный вестник» стал с 1876 г. (по указу Св. Синода от 10 декабря 1875 г. за № 5414). Перед новым 1876 г. все региональные «Епархиальные ведомости» напечатали следующее объявление, составленное А. И. Предтеченским и представляющее собой программу, которой он будет руководствоваться во все время его редакторства:
«О продолжении издания при С.-Петербургской духовной академии в будущем 1876 году: I. „Церковного вестника“ (еженедельного издания). Каждую неделю по субботам, за исключением Страстной недели, будет выходить номер „Церковного вестника" (не менее как в два обыкновенных листа, напечатанных убористым шрифтом в два столбца на странице) с официальною и неофициальною частями. Часть официальная: Согласно указам Святейшего Правительствующего Синода от 27 ноября 1874 г., от 22 января и от 4 апреля сего 1875 года „Церковный вестник“, как „журнал, издаваемый духовно-учебною корпорациею, а не частным лицом“, с будущего 1876 года будет официальным органом Святейшего Синода и состоящих при нем центральных учреждений и „все законоположения и правительственные распоряжения, постановляемые по духовному ведомству или непосредственно к сему ведомству относящиеся", будут печататься в первой официальной его части. В состав ее, согласно утвержденной Св. Синодом программе, войдут: 1) Указы и постановления Св. Синода; присылаемые для опубликования сообщения и распоряжения состоящих при Св. Синоде центральных учреждений: Духовно-учебного комитета, Канцелярии Г. Синодального Обер-прокурора и Хозяйственного управления; определения Совета академии, требующие скорейшего опубликования. 2) Особенно замечательные распоряжения епархиальных преосвященных, заимствуемые из местных епархиальных ведомостей. 3) Новые государственные постановления и распоряжения гражданского правительства, имеющие особенную важность или же прямое отношение к православной русской церкви и к православному духовенству. Неофициальная часть: в ее состав войдут: 1) Обозрение современного состояния отечественной церкви. 2) Обозрение современного состояния восточных православных церквей. 3) Обозрение современного состояния западного христианского мира. 4) Летопись, в которой редакция будет знакомить читателей с наиболее интересными проявлениями религиозно-нравственной деятельности мира, с событиями церковной жизни и с научными открытиями, имеющими отношение к религии вообще и к христианской в особенности, преимущественно же с явлениями в отечественной истории, причем сведения будет она заимствовать из епархиальных ведомостей, из наших русских светских и духовных периодических изданий и из заграничных газет, не делая к этим извлечениям никаких или делая самые короткие замечания с своей стороны. 5) Частные объявления, преимущественно о вновь выходящих книгах. II. „Христианского чтения“ (ежемесячных прибавлений). Независимо от еженедельного издания „Церковного вестника“ к 1-му числу каждого месяца будут выходить книжки прибавлений от 8 до 10 печатных листов, под названием „Христианское чтение“»15.
Помимо редакторской деятельности А. И. Предтеченский продолжал преподавать в Академии, заниматься научной и общественной деятельностью16. Возможно, эта напряженная деятельность сказалась на его здоровье, у него обнаружили чахотку. Бывший в Петербурге в начале 1880 г. архимандрит Николай Японский (в миру И. Д. Касаткин) застал А. И. Предтеченского уже совсем больным, о чем записал в дневнике от 13 января 1880 г.: «Вышедши от Владыки в половине одиннадцатого, отправился к обедне в Исаакиевский Собор. По дороге зашел к А. И. [Андрею Ивановичу] Предтеченскому, но совестно было попросить у него „Христианское Чтение“ за 1838 год часть 1, которую я обещался достать для М. В. [Марии Владимировны] Орловой-Давыдовой; А. И. лежит в постели уже с месяц; харкает кровью, но глаза все те же — живые, умные, блестящие. Ласково, просто и задушевно принял. Около него кипа газет. Просил писать о Миссии для „Церковного Вестника“; пенял, что не пишем»17. В 1881 г. редакторство «Церковного вестника» переходит к его бывшему ученику — А. Л. Катанскому. А в 1882 г. умирает близкий друг А. И. Пред-теченского, с которым он в течение пяти лет редактировал вышеуказанные издания — Н. П. Рождественский. В память о товарище и прекрасном педагоге и ученом Предтеченский в 1884 г. подготавливает и издает 2 тома его лекций18. И. А. Чистович так резюмирует итог многолетней деятельности Предтеченского в Академии: «В 1885 году 13 июня заслуженный экстраординарный профессор древней общей гражданской истории А. И. Предтеченский утвержден Святейшим Синодом в звании исправляющего должность ординарного профессора и в том же году по болезни оставил службу при академии. А. И. в протяжение 30 лет занимал академическую кафедру; принимал живое участие в организации „Церковного вестника“ и был его первым редактором; он же составил проект вспомогательно-пенсионной кассы для наставников академии»19. За приведение в жизнь последнего проекта, в результате которого бывшие наставники могли получать до 660 рублей пенсии в год, очень многие профессора Академии ему были весьма благодарны. Преемником А. И. Предтеченского на кафедре общей истории стал его бывший ученик, доцент Академии по кафедре сравнительного богословия, впоследствии также профессор А. П. Лопухин. Именно он проникновенно написал о скончавшемся в 1893 г. А. И. Предтеченском серию некрологов, один из которых мы републикуем ниже.
А. И. Предтеченский умер 6 мая (по ст. ст.) 1893 г., в день Вознесения Господня. Перед кончиной он выразил желание, чтобы отпевание происходило в академической церкви, что и было исполнено. Провожали его в последний путь ректор Академии архимандрит Борис, именитые земляки: председатель духовно-учебного комитета при Св. Синоде прот. А. И. Парвов, профессор Академии прот. П. Ф. Николаевский, прот. А. И. Соколов, а также множество других коллег и учеников20. По окончании отпевания гроб был вынесен из академического храма и торжественно последовал к вокзалу Николаевской железной дороги для отправления в село Воскресенское Старорусского уезда Новгородской губернии, где покойный завещал себя похоронить. В селе Воскресенском, где жила его двоюродная сестра П. А. Борковская21 (которая, когда брат заболел, переехала в Петербург ему помогать), А. И. Предтеченский не только проводил отпуск, но и состоял почетным членом Воскресенского церковно-приходского попечительства. По завещанию он оставил ему «значительный капитал, проценты с которого должны идти на воспитание детей»22. Благодаря этому в 1900 г. смогла открыться второклассная церковно-приходская школа.
В настоящее время села этого уже не существует, оно исчезло в 1960-е гг., осталось только урочище Воскресенское Старорусского р-на Новгородской области, неподалеку от д. Василёво, в 100 м от кладбища, у левого берега Порусьи, между двух небольших ручьев, впадающих в Порусью23. Церковь Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме (1822, 1900) каменная, с приделами в честь Иоанна Предтечи и Нила Столобенского, во время Великой Отечественной войны пострадала: в нее попал снаряд. После войны сохранялись сильно разрушенные остатки стен (1,5–2 м высотой), которые местные жители растаскивали на кирпичи. В начале 1980-х гг. при производстве мелиорации развалины храма столкнули трактором ближе к руслу ручья, на старое церковное кладбище, бывшее близ алтаря. Находили там остатки икон, крестов, в частности фрагменты огромной, почитавшейся в селе чудотворной, иконы св. Акилины. Сейчас церковище представлено возвышением из груды кирпичей, остатками фундамента, большого количества фрагментов кирпичной кладки, ржавого железа, встречаются детали пола из мраморной мозаики. Не засыпанные руинами остатки кладбища заросли деревьями. Некоторые могилы разрыты черными копателями, выворочены кирпичи их склепов. За алтарем церкви каменная плита с надписью: «Основатель и первый редактор журнала „Церковный вестник“ / 1875– 1880 / от учеников, друзей и почитателей». Сам могильник разрыт, кирпичи склепа вывернуты наружу. С точностью сказать, что именно под этой плитой покоится тело А. И. Предтеченского, невозможно.
А. П. Лопухин
По пути к месту упокоения и погребение праха покойного профессора24
Согласно воле почившего, тело его было отправлено для погребения в село Воскресенское Новгородской губернии. Из С.-Петербурга поезд с его прахом двинулся в путь в 11 часов ночи и к 2 часам прибыл на станцию Чудово, место соединения Николаевской железной дороги с Новгородской. Несмотря на позднее время, в вокзале уже ожидал драгоценный «багаж» один из учеников профессора, настоятель местной церкви, о. Забелин25 и совершил над ним панихиду, напутствуя своего учителя в дальнейший путь. К утру поезд новгородской железной дороги доставил его в родной для покойного профессора «Великий Новгород»26, и там он встречен был сонмом новгородских священнослужителей во главе с кафедральным протоиереем В. С. Орнатским27, маститым учителем покойного по местной семинарии, явившимся воздать последнюю дань чести своему даровитому ученику, который давно опередил его по наукам, а теперь обогнал и по пути к жизни вечной. Среди группы собравшихся для печальной встречи был и директор народных училищ Новгородской губернии Ф. Н. Павлинский28, товарищ по академии и друг покойного профессора, и своими горячими слезами над гробом почившего запечатлел навеки любовь к своему высокочтимому товарищу. Обогнув славное в истории нашего прошлого озеро Ильмень, так часто носившее на своих бурных волнах покойного профессора во время его переездов из Старой Руссы в Новгород и обратно, поезд прибыл в Старую Руссу, где также прах был встречен сонмом священнослужителей (оо. И. И. Румянцовым,29 А. И. Маль-цевым30 и др.) и депутацией от духовного училища во главе со смотрителем его, учеником покойного, г. Смирновым31, и гроб в торжественной процессии пронесен был через город до деревни Котовой32, откуда он двинут был дальше по направлению к селу Воскресенскому (около 20 верст от С. Руссы).
Слух о кончине покойного профессора быстро распространился по окрестным деревням, и уже на половине пути местные крестьяне начали группами собираться отовсюду, чтобы встретить своего любимца-барина, и многие неудержимо рыдали над его гробом. Они теряли в нем редкого благодетеля. Не было такого местного крестьянина, который не имел бы чем помянуть покойного. Бывало, оправляясь из столицы на летний сезон в село Воскресенское, Андрей Иванович непременно захватывал с собою целые груды платков, книжек и тому подобных предметов, которые и дарил местным крестьянам и крестьянкам. Обратно из деревни он обыкновенно привозил в столицу живой товар в виде грамотных крестьянских мальчиков, которых и определял по местам. Мало того, его квартира была постоянным центром для его земляков-крестьян, и особенно к праздникам Рождества и Пасхи, когда крестьяне привозили на продажу домашнюю птицу, дичь или рыбу с родного Ильменя, его кухня превращалась, так сказать, в постоялый двор, где эти крестьяне и кормились, и ночевали, и даже выпивали за счет своего отца-благодетеля, который к тому же не только давал им радушный приют, но с трогательною озабоченностью хлопотал даже о том, чтобы помочь им поскорее и выгоднее сбыть свой товар! В нашей печати так часто и с такою безнадежностью рассматривается крайне запутанный вопрос о нормальных отношениях между интеллигенцией и народом; но вся безнадежность его зависит от того, что он рассматривается обыкновенно публицистами, которые знают о народе только по слухам и никогда не имеют ни досуга, ни охоты действительно спуститься в эту еще неисследованную стихию, чтобы понять, какое сердце бьется под этим серым, грубым армяком. Потому-то и народ недоверчиво относится к этой фальшиво-народолюбствующей интеллигенции. Но лишь только он своим сердцем почует, что его действительно любят — не словом только, а делом, то и самый вопрос об отношении между интеллигенцией и народом перестает существовать дольше: его разрешает сам народ, выражая полную готовность раскрыть свою душу перед интеллигентом и положить за него свой живот, так что между барином и мужиком изглаживается всякая грань, как она должна изглаживаться между эллином и варваром — как едиными во Христе! Такая грань совершенно исчезла и в отношениях между высокообразованным профессором столичной духовной академии и простодушными, полуграмотными крестьянами села Воскресенского и окрестных деревень, и потому сердце последних было всегда открыто пред покойным и в радости и в горе. Вот почему местные крестьяне и собрались толпами встретить гроб почившего профессора, и на полпути к селу сняли его с колесницы и на руках с плачем и причитаньями понесли его к месту упокоения.
При самом входе в село печальная процессия была встречена местным причтом во главе с священником И. Е. Фруктовским,33 и медленно стала двигаться далее, так как по просьбе крестьян она останавливалась перед каждым домом для совершения литии, так что в церковь гроб принесен был уже вечером. На другой день в среду совершена была соборне священниками И. Е. Фруктовским, А. И. Мальцевым и М. В. Бо-гословским34 заупокойная Литургия, а затем и последнее напутствие из живого мира людей — в темные недра матери-земли для тела и в таинственную область жизни вечной для духа. Прах покойного профессора похоронен в ограде местной церкви, перед алтарем, рядом с могилами его ближайших родственников. Над ним теперь возвышается лишь холмик сырой земли, воздвигнутый руками оплакивавших его поселян, да деревянный крест, как знамение нашего спасения. Но можно надеяться, что ученики, друзья и почитатели покойного профессора не забудут этого холмика и со временем над ним воздвигнется достойный покойного служителя науки памят-ник35, который из рода в род будет свидетельствовать о том, кто не только учил умом, но и сердцем, и кто воистину восполнил завет божественного Учителя: «Как Я возлюбил вас, и вы да любите друг друга. По тому познают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».36 А. Лопухин37
Список литературы Возвращение на родину: к биографии А. И. Предтеченского
- «Быть может, и в моем песке и соре найдется какая-нибудь крупица.». Дневник Апол-линария Николаевича Львова/подг. текста, вводн. ст. и комм. С. Л. Фирсова//Нестор. Еже-квартальный журнал истории и культуры России и Восточной Европы. 2000. № 1. С. 9-164.
- Дневники святого Николая Японского: в 5 т./сост. К. Накамура. СПб.: Гиперион, 2004.Т. I. 463 с.
- Карпук Д. А. Периодические издания Санкт-Петербургской духовной академии.К 190-летию журнала «Христианское чтение» (Окончание)//Христианское чтение. 2012.№ 4. С. 24-83.
- Катанский А. Л. Воспоминания старого профессора. С 1847 по 1863 год. Нижний Новгород, 2010. 432 с.
- Книга памяти жертв политических репрессий Новгородской области: в 9 т. Т. 5:1930-1936 гг./сост.: Н. Н. Трабер (рук. рабочей группы), Е. Н. Корякова, И. Т. Кузнецова,Н. А. Мазанкина; гл. ред. Л. П. Рычков. Новгород: Новгород. отделение Рос. ассоциациижертв полит. репрессий, 1996. 386 с.
- Колокол/ред. А. И. Герцен, Н. П. Огарев. Лондон: Вольная русская типография, 1862.№ 125. 15 март.; № 126. 22 март.7. Леонтий, митр. (Лебединский И. А.) Мои заметки и воспоминания. Автобиографиче-ские записки высокопреосвященнейшего Леонтия, митрополита Московского. СергиевПосад: Типография Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1914. 136 с.
- Лесков Н. С. Полное собрание сочинений: в 11 т. М.: Государственное издательствохудожественной литературы, 1958. Т. 10. 598 с.
- Новгородские епархиальные ведомости. Новгород, 1875-1920.
- Предтеченский А. И. Что разумнее: вера или неверие. Публичные чтения о неверии,преимущественно современном, с присовокуплением статьи «О чудесах, их месте и значе-нии в системе христианства». СПб.: Тип. Деп. уделов, 1864. 188 с.
- Формулярный список по службе чина духовного ведомства Предтеченского АндреяИвановича от 1 декабря 1882 года//РГИА. Ф. 796. Оп. 438. Д. 2130.
- Чистович И. А. С.-Петербургская духовная академия за последние30 лет(1858-1888 гг.). СПб.: Синодальная типография, 1889. с. разд. паг.
- Энциклопедический словарь: в 86 т. СПб.: Издательство Ф. А. Брокгауза и И. А. Еф-рона, 1898. Т. 49 (ХХV). 4, 478 с.
- Шереметевский В. В. Русский провинциальный некрополь. М.: типо-лит. т-ваИ. Н. Кушнерев и К°,1914. Т. 1. 10008 с