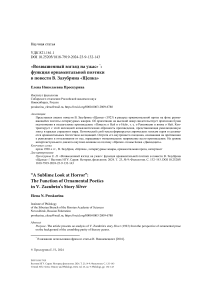"Возвышенный взгляд на ужас": функция орнаментальной поэтики в повести В. Зазубрина "Щепка"
Автор: Проскурина Е.Н.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Представлен анализ повести В. Зазубрина «Щепка» (1923) в ракурсе орнаментальной прозы на фоне размывающейся чистоты литературных жанров. Об ориентации на высокий жанр свидетельствует прописная буква местоимения в подзаголовке произведения: «Повесть о Ней и о Ней», т. е. о Революции и вновь о Ней. Контрастирует с этой интенцией апокалиптическая образность произведения, представляющая революционную эпоху в красках страшного мира. Поэтический слой текста формируется лирическим голосом героя и усиливается орнаментальным богатством ассоциаций. Острота его внутреннего поединка, основанная на притяжении к революции и отталкивании от нее, наращивает эмоциональное напряжение всего произведения. На уровне интертекстуального диалога ощутимо влияние на поэтику «Щепки» поэмы Блока «Двенадцать».
Проза 1920-х гг, в. зазубрин, «щепка», литературные жанры, орнаментальная проза, интертекст
Короткий адрес: https://sciup.org/147245837
IDR: 147245837 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-9-132-143
Текст научной статьи "Возвышенный взгляд на ужас": функция орнаментальной поэтики в повести В. Зазубрина "Щепка"
,
,
Переходные эпохи истории – благоприятное время для экспериментирования в разных сферах культуры. Это время, когда «рушатся скрепы традиционных представлений и мысль не может оставаться в положенных границах дисциплин… жестко определенных форм выражения» [Бальбуров, 2009, с. 19]. Общепризнан тот факт, что художественные поиски литературы 1920-х гг. формировались как классической традицией, так и открытиями Серебряного века, накладывающимися на революционную реальность. На пересечении этих тенденций оформлялся во многом экспериментальный, эклектичный стиль ранней советской прозы, шли поиски новых жанровых форм. Разрушение сформировавшейся жанровой системы как тенденция современной литературы было замечено еще на заре ушедшего столетия, став предметом теоретического осмысления в работах представителей формальной школы: Ю. Тынянова, В. Шкловского, Б. Эйхенбаума (см., например: [Тынянов, 1977; Шкловский, 1983]). Размышления о жанре в отечественном литературоведении шли на всем протяжении ХХ в., продолжаются и в современности. Так, в книге «Теория жанра» один из видных исследователей этой проблемы Н. Л. Лейдерман пишет: «В постнормативные эпохи каждый художник не столько следует за каноном <…>, сколько отталкивается от канона и каждый раз… ищет свою, неповторимо-единственную жанровую форму, в которой… скажет своё новое слово о человеке и мире» [2010, с. 175–176].
Для литературы постреволюционных лет наиболее востребованным оказался жанр героической эпопеи, по-новому воспроизведенный в ряде прозаических произведений, отмеченных борьбой двух миров с высоким градусом эмоционального напряжения, кипения человеческих страстей. В их ряду «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Падение Даира» А. Малышкина, «Железный поток» А. Серафимовича, «Ватага» В. Шишкова, «Ветер» Б. Лавренева и др. На жанровую гетерогенность этих произведений обратила внимание Н. В. Драгомирец-кая: «Это эпопеи, но они же и лирические поэмы в прозе, эпопеи, пронизанные лиризмом и романтикой. Эпическое содержание эпопей-поэм не может развернуться в полную меру, лирическое начало в них выступает в известном отношении как средство восполнить недостаток предметной конкретности, широкого и вольного изображения характеров» [1965, с. 129] 1. Развивая мысль исследователя, Н. Л. Лейдерман выделяет следующие параметры поэм в прозе: архитектонические сцепления контрастных по эмоциональной окрашенности эпизодов, экспрессивная перенасыщенность словесной фактуры, «густота тропов, яркость красок, неистовость гипербол – то, что в принципе характерно для поэтической речи» [Лей-дерман, 2008, с. 245]. Показательно, что в качестве главных характеристик поэмы в прозе исследователи выдвигают в основном особенности стилистической поэтики, значимость интонации как основной прием в оформлении произведения в единое целое, а не традиционные для жанра поэмы структурные элементы сюжета: «Здесь дивятся взрывам массовых эмоций, упиваются разгулом стихии, восторгаются вспышкам яркой личности, ужасаются “гремучей смесью” высокого и низкого в человеке…» [Там же, с. 266]. Можно заметить, что в приведенных характеристиках отражены те признаки, которые свойственны поэтике орнаментальной прозы, составившей одно из ведущих направлений литературного процесса первых десятилетий ХХ в.
Результаты исследования
Особое место в этом «жанрово-стилевом потоке» принадлежит повести В. Зазубрина «Щепка» (1923). В ней обращение к орнаментальному стилю с характерным для него богатством ассоциаций связано с попыткой поэтического отражения авторского субъективного вчувствования в революционную эпоху через близкого ему героя, для которого внешние события становятся «частью души». В таком построении сюжета видно существенное отличие данного произведения от приведенного выше литературного ряда повестей о революции и Гражданской войне, где в центре сюжета – образ народа как единого целого: «По дорогам, по балкам, по косогорам тьмы тем шли, шли, шли...»; «Это было становье орд, идущих завоевывать прекрасные века» (Малышкин). В «Щепке» сюжет организован вокруг драматической истории главного персонажа, встроенной в картину распавшегося мира, в результате чего возникает та самая «“гремучая смесь” высокого и низкого в человеке» [Лейдерман, 2008, с. 266], влияющая на жанровую природу произведения, ее гибридность.
Если Блоку в поэме удалось воспроизвести «музыку революции», то Зазубрину в «Щепке» оказалось по силам воссоздать словесно-интонационную «музыку» красного террора, потребовавшую соответствующих способов выразительности, – экспрессивную, диссонансную, агрессивную, звучащую в самом пронзительном регистре, воспроизводящем остроту убийственного противостояния двух миров. Ситуация поединка реализована через основной художественный прием повести, прием контрапункта, выполняющего важную архитектоническую функцию. Распространяясь извне вовнутрь, в сознание главного героя, он сцепляет разрозненные, мозаичные фрагменты текста, создавая в нем общую «максимально напряженную эмоциональную атмосферу». При этом революционные потрясения передаются в форме сокровенного, интимного переживания Срубова, с одной стороны, готового служить революции даже самыми кровавыми методами, с другой – испытывающего ужас перед ними и внутреннее отторжение их.
Внешние события имеют в «Щепке» двойное значение: отображения реальных исторических явлений и того наружного фона, на котором происходит душевная борьба героя. В начальных главах он выписан по «плакатной» модели «железного рыцаря революции»: «Твердо, с поднятой головой стоит Срубов в громе землетрясения, жадно вглядываясь в даль. В голове только одна мысль – о Ней» (с. 48); «Когда он, входя в белый подъезд, топает тяжелыми стальными ногами, белый каменный трехэтажный дом дрожит» (с. 52–53) и др. Гиперболизация образа Срубова соответствует основным типологическим чертам революционной героики, варьируя мотив богатырства главного персонажа в ряде поэм в прозе (например, Никита Вершинин из повести Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69», Степан Зыков из «Ватаги» Вяч. Шишкова, Командарм из «Падения Даира» А. Малышкина и мн. др.). Однако к концу повести измученный внутренней борьбой герой предстает уже жалким душевнобольным человеком.
Прием контрапункта распространяется и на фоновый образный ряд произведения, демонстрируя анормативный характер постреволюционной повседневности «Щепки». В повести практически отсутствуют нейтральные описания. Раскачивающаяся между «верхом» и «низом» стилистика настроена на векторную устремленность вниз. В качестве одной из эмблем разрушенного уклада жизни изображен в повести дом купца Пшеницына, на вывеске которого ранее, золотом по черному, было написано: «Вино. Гастрономия. Бакалея», теперь же пятнами краснеет новая надпись: «Губернская Чрезвычайная Комиссия». Там, где ранее в подвалах купца «хранились головы сыру, головы сахара, колбасы, вино, консервы» (с. 52), теперь сквозь тусклый свет виднеются «головы арестованных», «колбасы рук и ног». Эмбле-матична и фамилия купца, в которой закодирован достаток, благополучие, «срубленные» разорением и смертью.
Окказиональный ряд натуралистических метафор, созданных по принципу столкновения живого и мертвого: «стальные ноги грузовиков», «каменная пустобрюхая глыба потолка», «бледная лихорадка» луны, «хруст снежных костей», «огненные волдыри ламп», «спины сгорбившихся сугробов», «фыркающая одышка мотора» и др. – вызывает отчетливый эффект адского пространства, в которое всё глубже погружается сдвинувшийся с основ мир. Рельефности художественной картине светопреставления добавляют наделенные экспрессивной энергией мотивы дрожащей земли, извергающегося вулкана, огненной лавы, красной кровавой реки, рождающиеся в воспаленном сознании Срубова под воздействием жутких расстрельных сценариев, организатором которых он оказывается в силу своей должности:
В темном конце подвала трупы друг на друга лезли к потолку. Кровь от них в светлый конец ручейками. Уставший Срубов видел целую красную реку. В дурманящем тумане всё покраснело. <…> Красная кровь вспыхнула сверкающей огненной лавой. И не пол трясся в лихорадке – земля колебалась. Извергаясь, грохотал вулкан (с. 47–48).
Главный герой «Щепки» принадлежит к категории персонажей романтического типа, героев-мечтателей. Именно романтическим мировосприятием, томлением по прекрасному формируется представление Срубова о революции, олицетворенной в его сознании в образе единственно желанной возлюбленной, которой он готов рыцарски-самоотверженно служить. Но из того же истока проистекает болезненность его внутренних pro et contra в отношении к революции – «любовнице жестокой» и одновременно «прекрасной». В облике двух аур – красоты и безобразия – предстает она в видениях героя, прошивающих весь текст, формируя его лирический слой. Причем, несмотря на все сомнения, размышления Срубова о революции передаются в неизменной стилистике воспевания, внося поэтическое начало в прозаический текст повести.
Контраст идеального образа революции и реальных способов его воплощения достигается в произведении разными поэтическими приемами. Элементы орнаментальной прозы, синтезирующие абстракцию с бытом, миф с действительностью, встраиваются в стилевой поток произведения и как фрагменты видений героя, что усиливает поэтическую модальность «Щепки». Один из таких примеров – образное олицетворение классового поединка с использованием характерной цветовой символики 3:
Срубов видел диво – Белый и Красный ткали серую паутину будней.
Его, Срубова, будней. <…> Белый плел паутину ночами, по темным задворкам, по глухим переулкам, прятался от Красного, думал, что Красный не видит, не знает.
Красный вил паутинную сетку параллельно сетке Белого – нить в нить, узел в узел, петлю в петлю… вил днем и ночью, не прерывал работу ни на минуту. Прятался от Белого, был уверен, что Белый не видит, не знает. <…> Вообще же служба в Чека красно-серое, серо-красное. Красный и Белый, Белый и Красный. И бесконечная путаница паутины… (с. 77).
В этой картине революционного противоборства любопытно преображение белого и красного цветов в серый, символизирующий как серые будни чекистской повседневности, так и утрату героем чистоты души. Мотивы сети, узлов, паутины создают метафорический образ запутанной судьбы не только Срубова, но и самой революции.
На поэтическом уровне эпизод вызывает отчетливые аллюзии на символическую картину «смертельной схватки» в «Падении Даира», одном из ярких образцов орнаментальной прозы: «И как призраки – в серых ветрах дня Красный и Черный всадники сшиблись в вышине грудями огненноглазых, бешено вздыбленных коней» (Малышкин). Различие, однако, в том, что сходными поэтическими приемами два автора реализуют противоположные творческие задания: Малышкин создает экспрессивную панораму революционного противоборства как яркое событие, тогда как Зазубрин – повторяемую изо дня в день жуткую чекистскую повседневность, что лишает ее свойства событийности. Единственное исключение – сцена оправдания приговоренных к расстрелу участников восстания против советской власти, вызвавшая как в Срубове, так и в его команде расстрельщиков, живую, неподдельную радость. Событийный характер этой сцены отмечен определением «невиданное»:
И в ту же ночь невиданное увидел белый трехэтажный каменный дом с красным флагом… Вышли за ворота с хохотом, с громкими криками сотрудники Губчека. Предгубчека мальчишкой забежал вперед, схватил горсть снегу, смыл и Ваньке Мудыне в рожу. Ванька захлебнулся смехом, взвизгнул. <…> и чекисты, как школьники, выскочившие на большую перемену на улицу, с визгом принялись лупиться снегом… (с. 72).
Антитеза идеального и реального, верха и низа – тот главный «нерв», за счет которого возникает энергийное «натяжение» всего текста «Щепки», достигая к финалу степени «пере-натяжения» и разрешаясь в итоге распадом сознания героя. Однако движение к этому траги- ческому пуанту носит нелинейный характер, усложняя как линию сюжета, так и стратегию судьбы Срубова. Ретардация сюжетного развития возникает через эпизоды, относящиеся к разным стадиям и формам внутреннего поединка героя. Пластичность его натуры не раз помогает ему абстрагироваться от адской реальности, встроить ее в границы привычных образов и понятий, что выражено в тексте способом отстранения. Так, во время жуткой расправы с приговоренными Срубов прибегает к подсказанному комендантом аллегорическому образу автоматического завода:
- Машина, товарищ Срубов. Завод механический.
Срубов кивнул головой и вспомнил снопоогненный зал двора. Вертится зал, перекидывает людей из подвала в подвал. А во всем доме огни, машины стучат. Сотни людей заняты круглые сутки. И тут ррр-ах-рр-ррр-ах. <...> Смазочная мазь летит кровяными сгустками мозга. (Бурят или буравят ведь не только землю, когда хотят рыть артезианский колодец или найти нефть. Иногда ведь приходится проходить целые толщи камня, жилы руд, чтобы добуриться или добуравиться до чистой земли, необходимо пройти стальными сверлами костяные пласты черепов, кашеобразные трясины мозгов, отвести в сточные трубы и ямы гейзеры крови.) <_> Воздух отяжелел от свинца. Трудно дышать. Завод (c. 44).
Символичен образ «чистой земли» в этом видении, протягивающий нить ассоциаций к Новой Земле - центральному образу «Откровения Иоанна Богослова», чем акцентируется апокалиптическая реальность «Щепки» в ее преобразующей модальности. В этом контексте метафора завода выполняет оправдательную функцию по отношению к действиям героев -расстрельщиков, в числе которых и сам Срубов, придавая государственную значимость возглавляемому им учреждению и возвеличивая его в собственных глазах как «ассенизатора революции», наделенного высокой миссией очищения становящегося нового мира от остатков старой жизни: «он с людьми дела не имел, только с отбросами. <_> Его обязанность вылавливать в кроваво-мутной реке революции самую дрянь, сор, отбросы, предупреждать загрязнение, отравление Ее чистых подпочвенных родников» (c. 58). Символичен также образ самого здания Чека, белого трехэтажного каменного дома с часовыми, с красным флагом и красной вывеской. Показательна чистота белого и красного цветов в этом фрагменте, отсутствие серого цвета будней. Таким образом, само здание, вернее, его надземная часть, не зная горя «ни тех, кто работает в нем, ни тех, кого приводят в него, ни тех, кто приходит к нему» (с. 82), стоит неколебимо, словно «столп и утверждение» новой истины: «_не-умолим, тверд, жесток, строго справедлив, как часовой механизм и его стрелки» (с. 82). Эта цепочка «высоких» проекций, возникающая в сознании Срубова, объясняет отсутствие в его душе сочувствия к расстреливаемым - как белогвардейцам, так и городским обывателям. Все они предстают эмблемой ветхости отжившего свой срок мира: жалкими, дрожащими, стонущими, ползающими, смердящими - отходами, предназначенными к утилизации. Сру-бову претит не само их уничтожение: «Для Нее и в Ее интересах Срубов готов на всё. Для Нее и убийство - радость. И если нужно будет, то он, не колеблясь, сам станет лепить пули в затылки приговоренных» (с. 45), - а обстановка и способ ликвидации: грязный подвал, срывание одежды, голые тела, брызжущая кровь. Высокая цель никак не уживается в сознании героя с низкой будничностью ее осуществления.
Бесконечная душевная борьба Срубова в попытках самооправдания - род своеобразной психологической казни, которой он подвергается в своих многочисленных видениях и снах, что влияет на символику революции, ощущаемую им как некое постоянное Присутствие: «Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. <…> Но Та, которую любил Срубов^ была здесь же» (с. 47). В этом качестве проводника по адскому миру материализованный образ революции вызывает ассоциации с образом Беатриче из «Божественной комедии» Данте. В процессе развертывания сюжета он обрастает всё большими семантическими коннотациями. Помимо отблесков Вечной Женственности символистов, плененной Мировой Души гностиков, в нем мерцает и поруганная святость Достоевского. Но в первую очередь виденческие проекции революции ассоциируются с апокрифическим образом Богородицы (см. апокриф «Хождение Богородицы по мукам»), предстающей в народном сознании не только в иконном своем облике, но и в образе простой женщины, «старухой седатой».
Например, в одном из сибирских сказаний «на ней сарафан черной, рубаха белая без [з]бору» [Ромодановская, 1996, с. 149]. Ее образ в восприятии Срубова таков:
…для воспитанных на римских тогах и православных рясах Она, конечно, бесплотная, бесплодная богиня с мертвыми античными или библейскими чертами лица в античной или библейской хламиде. <…> Но для меня Она – баба беременная, русская, широкозадая, в рваной, заплатанной, грязной, вшивой холщовой рубахе. И я люблю Ее такую, как Она есть, подлинную, живую, не выдуманную. <…> Она думает великую думу матери о зачатом, но еще не рожденном ребенке. И вот Она трясет свою рубашку, соскребает с нее и с тела вшей, червей и других паразитов – много их присосалось – в подвалы, в подвалы. И вот мы должны, и вот я должен, должен, должен их давить, давить, давить (c. 51–52).
Характерно обилие повторов в этой внутренней речи героя, показывающих нарастание напряжения между внешней и сокровенной частью его Я , попытку преодоления своего «внутреннего человека». Величие русской «нищей» революции, ее обновляющая функция особенно отчетливо предстает в сознании героя по контрасту с карнавальным образом Великой французской революции:
Ведь одни из них – поумереннее и полиберальнее – хотели сделать Ей аборт, другие – пореакционнее и порешительнее – кесарево сечение. И самые активные, самые черные пытались убить Ее и ребенка. И разве не сделали так во Франции, где Ее, бабу, великую, здоровую, плодовитую, обесплодили, вырядили в бархат, в бриллианты, в золото, обратили в ничтожную, безвольную содержанку 4 (c. 50).
В итоге даже на грани безумия у Срубова находятся аргументы для оправдания жестокости красного террора, разрушившего его собственную жизнь:
Перед ним встала Она – любовница великая и жадная. Ей отдал лучшие годы жизни. Больше – жизнь целиком. Всё взяла – душу, кровь, силы. И нищего, обобранного, отшвырнула. <…> Сколько позади Ее на пройденном пути валяется таких, выпитых, обессилевших, никому не нужных. Видит Срубов ясно Ее, жестокую и светлую. Проклятия, горечь разочарования комком жгучим в лицо Ей хочет бросить. Но руки опускаются. Бессилен язык. Видит Срубов, что Она сама – нищая, в крови и лохмотьях. Она бедна, потому и жестокая (c. 87–88).
Эпизод построен на контрастных характеристиках, в основе которых присущий поэмному жанру поединок света и тьмы, происходящий в душе героя, но приводящий его в итоге не к разочарованию и проклятию, а к пониманию и оправданию кровожадности революции, в чем ощутима его готовность принять на себя роль жертвы.
На формальном уровне двойственность позиции в отношении к революции в лирических откровениях Срубова выражена использованием формы третьего лица: Она , – что становится маркером внутреннего дистанцирования от объекта рефлексии, в отличие от формы Ты , обозначающей обращение к объекту, характерное как для светской поэзии (ср. «Я помню чудное мгновенье: / Передо мной явилась ты…» у Пушкина (1977, с. 238); «Ты ли, подруга желанная, / Всходишь ко мне на крыльцо?» у Блока (1980, с. 128) и др.), так и для молитвенных и литургических текстов, в том числе богородичных: «К Тебе, Пречистей Божией Матери…» (Молитва Богородице Петра Студийского); «Ты, Мати Божия, сохрани и соблюди мя под кровом Твоим» (Молитва Александра Свирского) и др. Во всех этих случаях «обращенная речь как бы вызывает, призывает того, к кому она обращена… чтобы тот, кому она посвящена, услышал нас» [Седакова, 2021, с. 107]. В центре события оказывается не поющий / говорящий, не его чувства и мысли, как это происходит в повести Зазубрина, а «тот, к кому эти чувства и мысли обращены» (курсив автора. – Е. П. ) [Там же]. Иначе говоря, ощущение постоянного присутствия революции-«возлюбленной» конфликтует в сознании Срубова с попытками отдаления от нее. Неслучайно все его внутренние монологи, включая и аллегорические картины расстрелов, и цветовые видения классового поединка, построены в форме самоубеждения.
В резонансное поле архетипических проекций революции вписывается блоковский образ Христа-Нищего, «в цепях и розах», диалогизирующий с образом «нищей» Революции-Богородицы, «в крови и лохмотьях» (с. 88). Поверженный лик Спасителя в стихотворении вступает в межтекстовую перекличку с трагической судьбой Срубова:
Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
Обо всeм не забудешь и всего не разлюбишь,
И не поблекнешь, как мeртвый злак
(Блок, 1980, с. 370).
Особенно отчетлива эта интертекстуальность в развенчанном образе героя, где он предстает уже не «рыцарем революции», а изможденным душевнобольным человеком: «худой, желтый, под глазами синие круги. Кожаный костюм надет прямо на кости. Тела, мускулов нет. Дыхание прерывистое, хриплое» (с. 87). В таком ракурсе судьба Срубова вырисовывает собственный страстной сюжет.
На уровне горизонтальных проекций образ «нищей» революции символизирует нищету народных толп, оказавшихся вершителями грандиозного события, что выдвигает лирическое пространство героя за его пределы, расширяя сюжетные рамки повести до эпических масштабов. Всё более развертывающиеся вертикальные проекции образа революции придают ей вселенское измерение, что вписывает «Щепку» в культурный контекст эпохи с характерным восприятием революции как космического, мистериального явления. В финальной части «Щепки» прорисовывается образ мировой гармонии, словно прорастая изнутри апокалиптической картины мира, сформированной смятенным сознанием героя:
Оркестр поравнялся с пролеткой Срубова. Загремел. Срубов схватился руками за голову. Для него не стук ног, не бой барабанов, не рев труб – земля затряслась, загрохотал, низвергаясь, вулкан, ослепила огненная кровавая лава, посыпался на голову, на мозг черный горячий пепел. И вот, сгибаясь под тяжестью жгучей черной массы, наваливающейся на спину, на плечи, на голову, закрывая руками мозг от черных ожогов, Срубов всё же видит, что вытекающая из огнедышащего кратера узкая кроваво-мутная у истоков река к середине делается всё шире, светлей, чище и в устье разливается сверкающим простором, разливается в безбрежный солнечный океан (с. 90).
В этой символической картине мирового преображения знаковым элементом становится образ оркестра, отсылающий к «мировому оркестру» Блока, заряженному вселенским «духом музыки». В проекции революционного времени он проявлен дисгармоничностью звучания, грохотом и громом перевернутого мира, космическая упорядоченность которого брезжит лишь в дальней перспективе. Одной из ярких иллюстраций «духа музыки», отражающего тембристику красного террора, служит пасхальный эпизод «Щепки», предшествующий сумасшествию и аресту героя. На фоне иллюминированных церквей, праздничного пасхального звона, христосованья разворачивается руководимая Срубовым облава:
…ночь, день, улицы, улицы, цепочки, цепи патрулей, ветер в ушах, запах бензина, дрожь сиденья автомобиля, хлопанье дверцы, слабость в ногах, шум, тяжесть в голове, резь в глазах, квартиры, комнаты, углы, кровати, люди – бодрствующие, со следами бессонницы на серых лицах, заспанные, удивленные, спящие, испуганные, чекисты, красноармейцы, винтовки, гранаты, револьверы, табак, махорка и серо-красное, красно-серое, и Белый, Красный, и Красный, Белый… (с. 81).
Звуковая палитра эпизода представляет собой агрессивный шумовой фон, аккомпанирующий атмосфере чекистского разгула. Мотивы ночи, улицы, ветра, мозаичность образов, прерывистость ритма повествования демонстрируют намеренный авторский диалог с поэмой Блока «Двенадцать».
Характерной особенностью сюжета значительной части поэм в прозе 1920-х гг. является финальное поражение героя-революционера в его столкновении с бушующей толпой. Среди них «Партизаны» Вс. Иванова, «Ноев ковчег» и «Перегной» Л. Сейфуллиной и др. Близка этому ряду и зазубринская «Щепка», хотя в ней поражение героя представлено в варианте проигранного поединка с самим собой, вылившегося в противостояние тому миру, частью которого он являлся. Несмотря на открытость финала, судьба Срубова остается неутеши- тельной: либо героя постигла участь его жертв, либо его последний путь стал дорогой в сумасшедший дом. Но и в том, и в другом случае это своего рода бег от реальности – черта, присущая герою романтической поэмы. Показательна в этом контексте сцена побега Срубова из Чека, где он предстает в роли подсудимого. Эпизод перенасыщен деталями, сигнализирующими внутренний отказ героя от своего давящего черной тяжестью кровавого прошлого:
Срубов собирает последние силы, стряхивает с плеч черную тяжесть… соскочил с пролетки, упал на мостовой, машет руками, хочет плыть, хочет кричать и только хрипит:
– Я… я… я…
А на спине, на плечах, на голове, на мозгу черный пепел жгучей черной горой давит, жжет, жжет, давит (с. 90–91).
Невозможность для героя высказать свою последнюю мысль, передать ее через слово свидетельствует о недовоплощенности его духовного высвобождения, что выражено также использованием романтических мотивов пловца и плавания в варианте несостоявшегося отплытия. Не случайно в этой характеристике Срубова возникает метафора «черного пепла»: она становится отсылкой к еще одному персонажу «Щепки» – Яну Пепелу, «железному человеку», придерживающемуся максимы «революция – никаких филозофий». Его портрет представлен с акцентированной выраженностью черного цвета: «Пепел в черной кожаной тужурке, в черных кожаных брюках, в черном широком обруче ремня, в черных высоких начищенных сапогах» (с. 58–59). Таким образом, мотив «черного пепла» становится реализацией метафоры, отождествляющей Срубова с Яном Пепелом на уровне его подсознательного самовосприятия. К тому же из отрицания собственного прошлого не вытекает отказ героя от революции в ее идеалистическом ореоле. Во всяком случае, об этом нет в финале ни слова. Но здесь в полные права вступает авторское слово, будто подхватывающее внутреннюю интенцию героя, компенсируя его бессловесность собственным лирическим голосом:
А Ее с битого стекла заговоров, со стрихнина саботажа рвало кровью, и пухло ее брюхо (по-библейски – чрево) от материнства, от голода. И, израненная, окровавленная своей и вражьей кровью… оборванная, в серо-красных лохмотьях, во вшивой грубой рубахе, крепко стояла Она босыми ногами на великой равнине, смотрела на мир зоркими гневными глазами (с. 90).
Такое завершение повести сродни явлению deus ex machina, характерному для многих революционных поэм в прозе, где ситуация противостояния враждующих сил разрешается авторским риторическим пассажем о приходе Красной армии и установлении революционного порядка (см.: [Лейдерман, 2008, с. 263]).
Интонационно финал «Щепки» звучит своеобразным гимном революции, исполняемым автором в унисон с внутренним голосом героя. Близость автора к герою ощутима на всем протяжении сюжета: не случайно Зазубрин наделил Срубова своими портретными чертами (высокий рост, борода, непослушная грива волос), а также собственным горячим темпераментом. Но неприкрыто его лирический голос появляется только в финале. Однако этот фрагмент служит свидетельством о «прямом подобии душевных переживаний автора и героя», что, как пишет Ю. Манн, является «конструктивным принципом романтической поэмы» [Манн, 1995, с. 152]. В итоге, несмотря на собственные сомнения и противоречия, Зазубрин утверждает святость революции, возвеличивая ее связью с образом Богородицы. Здесь вновь высвечивается параллель с поэмой Блока, где в заключительных строках возникает образ Христа. «Если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь “Исуса Христа”», – писал в своем дневнике Блок (1963, с. 330). Автор «Щепки» увидел на том же пути благословляющий образ Богоматери. Таким образом, революционный пафос зазубринской повести, как и пафос блоковской поэмы, безусловно, усилен гимнической интонацией финала. В итоге окончание «Щепки», корреспондируя с ее подзаголовком, формирует семантическую ось всей художественной структуры произведения, активизируя его настроенность на «высокий» жанр.
Заключение
Проведенный анализ поэтики «Щепки» дает основание к предположению, что в первоначальном замысле Зазубрин ориентировался на жанр поэмы, однако в процессе работы, всё глубже погружаясь в чекистские материалы, осознал невыполнимость этого намерения. В итоге обращение к орнаментальному стилю как особому типу художественного мышления дало ему возможность предельно рельефно выразить собственное противоречивое отношение к революции. Несмотря на поставленную самому себе задачу создать «вещь революционную», из-под пера писателя вышло произведение, воспроизводящее переломную эпоху в красках страшного мира, в котором высокие проекции образа революции, пронзающие сознание героя, создают эффект голоса, звучащего из ада. Такая корректировка творческой задачи потребовала от автора соответствующих приемов реализации сюжета, расширения границ эстетики, куда вошли те элементы поэтики, которые в литературе ХIХ в. находились за гранью эстетического, «музыкального». Зазубрин оказался одним из тех авторов, которого отличает художественное бесстрашие перед натуралистическими образами и деталями, жесткими отталкивающими метафорами, не только колоритно воссоздающими панораму взвихренного мира, но и поэтически воспроизводящими «фонограмму» красного террора.
Список литературы "Возвышенный взгляд на ужас": функция орнаментальной поэтики в повести В. Зазубрина "Щепка"
- Бальбуров Э. А. Философская проза Николая Бердяева (проблемы поэтики) // Нарративные традиции славянских литератур. Повествовательные формы Средневековья и Нового времени. Новосибирск: НГУ, 2009. С. 15–29.
- Вишневецкий И. Между поэзией и прозой // НЛО. 2016. № 139. C. 297–308.
- Воронский А. Искусство видеть мир (Портреты. Статьи). М.: Сов. писатель, 1987. 702 с.
- Драгомирецкая Н. В. Стилевые искания в ранней советской прозе // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М.: Наука, 1965. Кн. 3. С. 125–173.
- Дудкин В. В. Символика поэмы А. Блока «Двенадцать» (на материале зарубежных исследований) // Проблемы исторической поэтики. 1990. Т. 1. С. 115–127.
- Лейдерман Н. Л. Кровавый карнавал. «Поэмы в прозе» 1920-х годов: поэтика и семантика // Вопросы литературы. 2008. Сентябрь – октябрь. С. 241–267.
- Лейдерман Н. Л. Теория жанра. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2010. 904 с.
- ЛНС – Литературное наследство Сибири: В 8 т. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1972. Т. 2. 444 с.
- Манн Ю. Динамика русского романтизма. М.: Аспект Пресс, 1995. 384 с.
- Проскурина Е. Н. Поэтика Владимира Зазубрина. Жанровые, сюжетные проекции. М.: Новый Хронограф, 2020. 208 с.
- Ромодановская Е. К. Рассказы сибирских крестьян о видениях (К вопросу о специфике жанра видений) // ТОДРЛ. 1996. Т. 49. С. 141–156.
- Седакова О. Мариины слезы. К поэтике литургических песнопений. М.: Практика, 2021. 168 с.
- Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. 574 с.
- Хасанов О. А. Символика цвета в повести В. Я. Зазубрина «Щепка» // Вестник Краснояр. гос. пед. ун-та. 2017. № 1 (39). С. 227–231.
- Шкловский В. Б. Избранное: В 2 т. М.: Худож. лит., 1983. Т. 1. URL: http://philologos.narod. ru/shklovsky/prosetales.html (дата обращения 27.01.2023).
- Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1963. Т. 7. 548 с.
- Блок А. А. Собр. соч.: В 6 т. Л.: Худож. лит., 1980. Т. 1. 512 с.
- Зазубрин В. Два мира. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1988. 335 с.
- Зазубрин В. Общежитие. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1990. 414 с.
- Малышкин А. Падение Даира. URL: http://az.lib.ru/m/malyshkin_a_g/text_0010.shtml (дата обращения 09.03.2023).
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л.: Наука, 1977. Т. 2. 399 с.