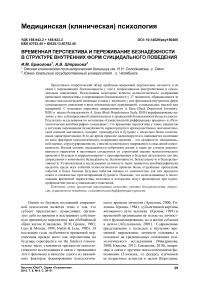Временная перспектива и переживание безнадёжности в структуре внутренних форм суицидального поведения
Автор: Ермолова Ирина Михайловна, Штрахова Анна Владимировна
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Медицинская (клиническая) психология
Статья в выпуске: 4 т.8, 2015 года.
Бесплатный доступ
Представлен теоретический обзор проблемы временной перспективы личности в её связи с переживанием беспомощности у лиц с депрессивными расстройствами и суицидальным поведением. Исследованы некоторые аспекты психологического содержания временной перспективы и переживания безнадежности у 37 пациентов, обращающихся за медико-психологической помощью в связи с наличием у них феноменов внутренних форм суицидального поведения в виде антивитальных переживаний, суицидальных мыслей или намерений. С помощью опросника депрессивности А. Бека (Beck Depression Inventory, BDI) и шкалы безнадежности А. Бека (Beck Hopelessness Scale, BHS) верифицированы наличие у них субдепрессивной симптоматики и проявлений безнадежности-безысходности. Результаты исследования по методикам «Семантический дифференциал времени» и «Психологическая автобиография» показывают, что временная перспектива у таких пациентов в ситуации переживания безнадёжности характеризуется преимущественно пессимистической оценкой настоящего, которая проецируется в будущее с несколько более позитивными характеристиками. В то же время прошлое идеализируется и оценивается позитивно по всем факторам психологического содержания времени - его активности, эмоциональной оценки, структурированности, степени психического напряжения и смысловой наполненности. Низкая степень насыщенности событиями жизни и такая же степень реализованности пациентов в настоящем согласуются со структурой оценки психологического времени в будущем и корреспондируют с проецированием в будущее актуального для них депрессивного компонента безнадёжности, беспомощности, безысходности и бесперспективности. Установленная в исследовании склонность таких пациентов автобиографически выделять среди всех событий психологического времени более отдалённые прошедшие события и более близкие будущие события связана со значимостью для них прошлого опыта и сложностью прогнозирования будущего. Показано, что использованные в исследовании временной перспективы методики и алгоритмы могут применяться при психопрофилактике риска суицидального поведения.
Временная перспектива личности, чувство безнадежности, депрессия, суицидальное поведение, семантический дифференциал времени
Короткий адрес: https://sciup.org/147159988
IDR: 147159988 | УДК: 159.942.2 | DOI: 10.14529/psy150405
Текст научной статьи Временная перспектива и переживание безнадёжности в структуре внутренних форм суицидального поведения
Одним из базовых положений современной психологии является тезис о том, что субъект представляет, осмысливает, организует себя во времени и выстраивает собственную временную перспективу как обобщённый образ жизни (Савлакова, 2010; Gjesme, 1983; Lens & Moreas, 1994; Nuttin & Lens, 1985). В последние годы особенности временной перспективы прежде всего как перспективы на будущее («perspective on the future») относительно часто становятся предметом психологического исследования в связи с признанием этого феномена в качестве одного из важнейших факторов формирования психологиче- ского времени личности (Арестова, 2000; Головаха, Кроник, 1984), субъективной картины жизненного пути человека (Кроник, 1994) и временнόй организации не только ее личностного функционирования, но и жизни субъекта в целом (Абульханова, 2001). Современные представления о подходах к изучению временной перспективы личности основаны в основном на традиционных основаниях психологического исследования (Мандрикова, 2008; Квасова, 2012; Савлакова, 2010), например, в связи с другими психологическими феноменами (Головаха, эл. ресурс), изучением ее возрастных аспектов в целом (Бороздина,
1998; Сырцова, 2008) и особенностей ее проявлений у старшеклассников (Демина, 1997), подростков, включая ее роль при профессиональном самоопределении (Кузнецова, 2007), лиц юношеского (Белановская, 2008) либо пожилого возраста (Сурикова, 2012). Исследовались ситуативные аспекты временной перспективы у лиц с опытом пребывания в сложных жизненных условиях, например, у участвовавших в локальных боевых действиях и ликвидации последствий техногенных катастроф (Гурова, 2004; Миско, Тарабрина, 2004), находящихся в условиях относительной социальной изоляции (Сурикова, 2012) или пожизненного лишения свободы (Бовин, Славинская. 2011). Одной из очевидных областей изучения этого феномена является его проявление у людей, оказавшихся в различного вида сложных жизненных ситуациях: в переломные моменты жизни (Ральникова, 2012), в период экономической нестабильности (Зарубин, Сырцова, 2013), в кризисных (Павлова, Симонова, 2011) и экстремальных (Квасова, 2011; Квасова, 2013; Ермолова, 2015) ситуациях. Следует отметить, что одним из аспектов в этой области являются проблемы психологической диагностики этого явления (Кро-ник, Ахмеров, 2008; Сырцова, Соколова, Митина, 2008; Zimbardo, Boyd, 1999).
Такого рода перемены в жизни серьёзно влияют на переживание человеком времени, на его отношение к прошлому, настоящему и будущему. При этом будущее приобретает пессимистическую окраску, настоящее хаотично, а доступ к прошлому, которое может быть психологическим ресурсом, прекращается. Формирующиеся при этом нарушения различных компонентов субъективной картины будущего, её укороченность, искажён-ность, слабость и/или недоступность, негативная окраска могут приводить к формированию социогенных психических расстройств и различных форм дезадаптивного (в том числе и суицидального) поведения.
Очевидно, что комплекс проблем, связанный с суицидальностью человека, является одним из примеров такого рода кризисных и экстремальных ситуаций, напрямую влияющих на формирование временной перспективы (иногда и негативно влияющих). Необходимость комплексного, в том числе психологического, исследования, о которой длительное время ведется речь (Амбрумова, 1986), в настоящее время лишь все больше актуализируется.
Суицидальность является психологическим феноменом, который в числе немногих наиболее очевидно обнаруживает признаки кризисной ситуации (Амбрумова, Тихоненко, 1978).
К таким признакам, как правило, относятся: внезапность наступления такой ситуации (чаще импульсивно, несмотря на наличие относительно долговременного существования суицидальных мыслей и суицидальных поступков и поведения в целом), а также наличие очевидной и реальной опасности для жизнедеятельности человека. В контексте дальнейшего рассмотрения проблемы следует отметить, что при такого рода кризисной ситуации, помимо традиционно характерных для суицидальности проявлений, наблюдается непредсказуемость событий, неопределённость исхода и развития их последствий, сложность понимания и интерпретации происходящего человеком.
Всё это порождает чувство беспомощности и безнадёжности, поскольку у человека возникает ощущение невозможности повлиять каким-либо образом на ситуацию (Мидь-ко, 2012, 2013). В силу этого переживание чувства безнадежности (Hopelessness), имеющего два аспекта – пессимистические установки в отношении будущего и ощущение беспомощности перед ожидаемыми негативными событиями, – все чаще становится предметом психологического исследования.
В современных условиях перманентно развивающихся политических и экономических кризисов проблема суицида и суицидального поведения сохраняет свой статус одной из наиболее острых медико-социальных и клинико-психологических проблем. Очевидно, что те или иные трудности в решении возникающих проблем и ощущение безнадежности будущего порождают ощущение западни, что, в свою очередь, может провоцировать суицид.
Актуальность исследования этой проблемы подтверждается достаточно большим числом публикаций, в которых описываются сведения теоретического и прикладного характера, а также приводятся многочисленные статистические данные. Вместе с тем, считаем обоснованным в настоящей публикации отказаться от цитирования таких теоретических, эмпирических и статистических данных о распространенности суицидов и динамике этих показателей, поскольку в психологическом плане не менее важным является более систе- матизированное понимание структуры личности суицидентов с целью осуществления фактически индивидуальных медико-психологических мероприятий, направленных а эффективное предупреждение самоубийств.
В то же время следует отметить позицию М.В. Зотова о том, что многие индивидуальнопсихологические особенности, указываемые в научных публикациях в качестве факторов риска суицида (неустойчивость к психоэмоциональному стрессу, дефицит коммуникативных способностей, неразвитость механизмов защитно-приспособительного поведения и т. п.) наблюдаются у многих пациентов с психопатологией пограничного уровня и, в силу этого, являются общими и неспецифичными для лиц с риском суицидального поведения. Такого рода данные ставят под сомнение целесообразность использования традиционных для клинико-психологического исследования мишеней в работе по профилактике самоубийств, поскольку в случае применения описанных выше критериев слишком большое число людей с такого рода психологическими характеристиками необоснованно попадает в группу риска (Зотов, 2006).
По крайней мере, сохраняет свою актуальность предложенная А. Беком широко известная сегодня когнитивная концепция, согласно которой суицидальное поведение запускается при наличии определенной когнитивной схемы, включающей в себя так называемую негативную когнитивную триаду: негативный взгляд человека на себя, мир и собственное будущее. Как следствие, в русле когнитивного подхода в последнее время становятся популярными исследования так называемой «автобиографической памяти», с помощью которых можно выявить некоторые психологические составляющие когнитивных схем.
В развитие этих положений суицидальное поведение понимается как следствие специфических когнитивных искажений. В частности, считается, что дихотомичное мышление, склонность к глобализации и иррациональности, формирование ригидных и неадекватных реальности когнитивных схем предопределяют возникновение чувства безысходности (Соколова, Сотникова, 2006).
В определенном смысле посылкой организации описываемого исследования явились полученные на больших выборках суицидальных пациентов эмпирические данные о наличии тесной связи между негативной оценкой субъективной картины будущего и суицидальным поведением, (Мидько, 2012, 2013), а также данные о предикторной роли чувства безнадежности в отношении суицида, дифференцированно проявляющегося у лиц с разным уровнем депрессии: с наличием значительных когнитивных искажений у депрессивных пациентов и с более реалистичным характером – у недепрессивных.
При этом роль клинически верифицированной и психометрически оценённой депрессии в формировании безнадёжности различается. Так, считается, что у женщин феномен безнадёжности связан с самим фактом депрессии и ее длительностью, а не с глубиной депрессивной симптоматики, у мужчин важной является прежде всего выраженность депрессивной феноменологии, особенно – ее когнитивного компонента.
Таким образом, предполагается, что временная перспектива, выполняя интегральную функцию отражения человеком своего прошлого, настоящего и будущего в их взаимосвязи, может существенно нарушаться под влиянием различного рода негативных факторов. При этом дисфункциональный характер временной перспективы может играть важнейшую роль в возникновении депрессивных переживаний и истинных суицидальных тенденций, а негативные временные модусы когнитивного и эмоционального характера (склонность к переживанию безнадёжности, сниженная способность к прогнозированию позитивных событий) могут выступать прогностическими факторами суицидального риска. В то же время исследования различных аспектов временной перспективы как научной проблемы суицидологии практически не представлены в научной литературе.
Вышеизложенное предопределило необходимость проведения исследования особенностей временной перспективы у лиц, характеризующихся высоким риском суицидального поведения, на фоне различий в проявлении чувства безнадежности как одного из составляющих депрессивной симптоматики.
Экспериментальная база и выборка исследования. Исследование проводилось в отделении «Телефон доверия» с кабинетом медико-социально-психологической помощи (КМСПП) бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодни-кова» (БУЗОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова»).
Выборку исследования составили 37 человека (в том числе 9 мужчин и 28 женщин) в возрасте от 20 до 53 лет (средний возраст мужчин – 22,6 ± 2,2 года, женщин – 26,0 ± 8,0 лет). Все принявшие участие в исследовании обратились в кабинет МСПП в связи с наличием кризисной ситуации (смерть близкого, утрата здоровья, развод, расставание, потеря работы, утрата социального положения, физическое и сексуальное насилие и др.).
Общими критериями включения в выборку явились: наличие вербализуемых суицидальных мыслей; отсутствие в анамнезе суицидальных действий либо наличие суицидальных попыток в период, не менее чем за полгода предшествующий моменту участия в исследовании; наличие клинически значимой депрессии; наличие внутренних форм суицидального в виде антивитальных переживаний, суицидальных мыслей или суицидальных намерений, верифицированных по опроснику депрессивности Бека. Все вошедшие в выборку исследования дали информированное согласие на участие в нем.
Критерием исключения было наличие сопутствующего психического расстройства психотического уровня, отсутствие алкогольной или наркотической зависимости, а также интеллектуального снижения различного генеза.
Методы и методики исследования:
-
1. Экспериментально-психологический метод – исследование пациентов с различными вариантами проявлений суицидального поведения с помощью оригинальных, адаптированных и валидизированных психодиагностических методик:
-
• опросник депрессивности А. Бека (Beck Depression Inventory, BDI) в адаптированном Н.В. Тарабриной варианте, предназначенный для оценки наличия депрессивных симптомов, актуальных на момент обследования (Тарабрина, 2001);
-
• шкала безнадежности Бека (Beck Hopelessness Scale, BHS) в модифицикации A.-M. Aish et D. Wasserman, использующаяся для оценки выраженности негативного отношения к собственному будущему;
-
• методика «Семантический дифференциал времени» (СДВ, Л.И. Вассерман с соавт., 2009), применяющийся с целью изучения когнитивных и эмоциональных компонентов субъективного восприятия индивидуального психологического времени;
-
• проективная методика «Психологическая автобиография» в предложенной
Л.Ф. Бурлачуком и Е.Ю. Коржовой (1998) модификации, предназначенная для выявления особенностей восприятия значимых жизненных ситуаций прошлого и будущего.
-
2. Психосемантический подход – исследование особенностей когнитивного, эмоционального и поведенческого аспектов осознаваемых и малоосознаваемых отношений личности к событиям и явлениям.
-
3. Событийно-биографический подход – изучение психологических феноменов взаимодействия человека и ситуации, в основе которого лежит психология жизненного пути и подход, ориентированный на анализ событий недавнего прошлого. При этом устанавливаются как формальные характеристики восприятия жизненных ситуаций ( продуктивность воспроизведения образов прошлого и будущего; значимость для личности того или иного события по сравнению его с другими; его желательность; степень влияния события на жизнь; время антиципации или ретроспекции ), так и содержательные характеристики, например, тип и вид значимых событий, их «оригинальность – популярность» ( частота встречаемости событий различного содержания ), «сила–слабость» ( преобладающее влияние личностных либо ситуационных переменных ).
-
4. Статистический метод: подсчёт первичных статистик выборки (значений средних арифметических и стандартных отклонений).
Дизайн исследования
Обследование пациентов проводилось индивидуально в течение двух встреч.
Логика исследования включала в себя планирование и реализацию следующих этапов:
-
1) определение с помощью опросника депрессивности Бека наличия клинически значимой депрессии и/или наличия внутренних форм суицидального поведения (антиви-тальные переживания, суицидальные мысли или тенденции);
-
2) определение с помощью Beck Hopelessness Scale проявлений безнадёжности у респондентов;
-
3) после получения убедительных данных о наличии у обследуемых депрессивной симптоматики уровня не ниже субдепрессивного и наличия тестовых данных о наличии проявлений безнадежности проведение обследования с помощью методики «Семантический дифференциал времени» когнитивных и эмоциональных компонентов субъективного
восприятия респондентами индивидуального психологического времени в контексте оценки временной перспективы;
-
4) выявление в результатах методики «Психологическая автобиография» формальных характеристик восприятия жизненных ситуаций (продуктивность воспроизведения образов прошлого и будущего; значимость для личности одного события по сравнению с другими; его желательность; степень влияния события; время антиципации или ретроспекции);
-
5) статистическая обработка результатов исследования;
-
6) качественный и количественный анализ, интерпретация результатов эмпирического исследования, формулирование выводов.
Алгоритм исследования подобного рода позволяет предложить оригинальный комплексный подход к изучению:
-
– во-первых, проявления чувства безнадежности в контексте его включенности в структуру депрессивной симптоматики (опросники BDI и BHS);
-
– во-вторых, психологической феноменологии суицидального круга (методики «Психологическая автобиография», BHS и клинико-психологические методы в рамках событийно-биографического подхода);
-
– в-третьих, проблем временной перспективы (Методики СДВ и «Психологическая автобиография»).
Представляется очевидным, что наиболее ценная (в плане решения задач исследования) информация как раз и будет локализоваться «на пересечении эйлеровских кругов» результатов применения психодиагностических методов и методик.
В связи с относительно малой известностью методики СДВ считаем целесообразным кратко описать ее.
Стимульный материал методики представлен набором 50 прилагательных, сгруппированных в 25 полярно организованных шкал, метафорически характеризующих время (прошлое, настоящее и будущее, оцениваемое при трехкратной экспозиции стимульного материала). Работа с этими шкалами проводится путем выбора соответствующего полюса, его оценки с помощью трехбалльной системы субъективной выраженности того или иного полюса у испытуемого, что позволяет ему выразить свои «временные» переживания, субъективные представления о своём прошлом, настоящем и будущем. Результаты обследова- ния по каждому фактору обобщаются и представляются в системе пяти факторов:
-
• Фактор активности (АВ), отражающий степень напряженности, плотности и стремительности времени;
-
• Фактор эмоциональной окраски времени (ЭоВ), выражающий меру удовлетворенности оцениваемым временем (особенно – будущим);
-
• Фактор величины времени (ВВ), косвенно отражающий мотивационный потенциал отношения ко времени;
-
• Фактор структуры (СВ), свидетельствующий о развитии понятности, ритмичности, обратимости познавательной структуры времени для испытуемого;
-
• Фактор ощущаемости времени (ОВ), выражающий степень близости, реальности, открытости психологического времени.
Кроме того, рассчитывается интегральный показатель переживания того или иного периода времени – средняя величина оценки времени (СВОВ).
Применение методики в целях настоящего клинико-психологического исследования предполагает необходимость описания интерпретации клинически значимых результатов по методике (в контексте проблематики – описания, связанные с низкими значениями семантически отрицательных полюсов шкал).
При наличии психических изменений рассматриваемого круга у испытуемых с психической заторможенностью, апатичностью, низкой мотивацией время кажется пустым, пассивным, постоянным (низкие значения фактора АВ); печальным, тусклым, тревожным и серым (аналогичные значения по фактору ЭВ); маленьким, плоским, мелким и узким (фактор ВВ); непонятным, рвано протекающим, безвозвратным (фактор СВ); дис-танционированным, нереальным, замкнутым и закрытым (фактор ОВ).
Обследование может проводиться в динамике оказания медико-психологической помощи (например, в начале, середине и конце лечения). Динамика показателей по шкалам (факторам) прямо или косвенно может свидетельствовать об эффективности терапии, например, увеличение показателей по фактору ОВ свидетельствует о редукции симптомов деперсонализации-дереализации (одного из важнейших показателей тяжести психопатологической симптоматики депрессивного регистра), а повышение значений по фактору
СВ – об эффективности психотерапевтического процесса в целом.
По аналогичным основаниям представляется целесообразным описать содержание и технику проведения обследования по методике «Психологическая автобиография». Испытуемому предлагается перечислить на специальном бланке неограниченное число наиболее важных, с его точки зрения, событий прошедшей и будущей жизни с указанием их даты. От испытуемого требуется выразить свое отношение к каждому событию, оценивая радостные любой отметкой от +1 до +5 баллов, а грустные – от –1 до –5 баллов. Обработка данных осуществляется в соответствии со специальными таблицами. При этом таблица I служит для определения количества радостных, грустных, прошедших, будущих событий и событий в целом. С помощью таблицы II осуществляется более детальный событийный анализ, с определением суммарного «веса» радостных, грустных, прошедших, будущих событий и событий в целом. В таблицу III вносятся данные о количестве событий, различающихся по силе воздействия, а в таблицу IV заносятся сведения о среднем времени антиципации и ретроспекции, характеризующих время осуществления событий. С помощью таблицы V можно осуществить содержательный анализ событий, внеся в нее «вес» событий с учётом их содержания. Определяется «вес» радостных, грустных, прошедших, будущих событий и событий в целом по каждому виду, «вес» событий различных типов. Итоговые данные могут быть представлены в обобщенном табличном виде.
Результаты исследования и их обсуждение
Материалы клинико-психологического исследования. По материалам клинической беседы и структурированного интервью установлено, что испытуемыми очевидно предъявлялись жалобы на расстройства настроения (депрессивные и тревожные переживания, выраженные колебания эмоционального фона), раздражительность, усталость и чувство апатии, неудовлетворенность собой, своим статусом, межличностными отношениями, ощущение бессмысленности жизни, отсутствие перспектив в будущем. Последние очевидно соотносились с внутренними формами суицидального поведения (антивитальными переживаниями, суицидальными мыслями или намерениями и действиями), в отношении которых пациенты сами осознавали и декларировали их аутодеструктивную роль. У лиц с внутренними формами суицидального поведения и с опытом попыток суицидальных актов (незавершенных демонстративных либо истинных) в описаниях проявлялись признаки так называемого эффекта «обрыва» суицидальной попытки. На фоне низкого уровня импульсивности и высокой интернальности существующая у них «хаотичность» копинг-стратегий не позволяет им реализовать внутреннее напряжение в том числе в суицидальном акте. Однако длительная невозможность отреагировать накапливающийся аффект в целом приводит к снижению способности пациентов к произвольному контролю суицидальных побуждений. Последнее чаще всего и является поводом для обращения за медикопсихологической помощью. В отличие от этого реализованные попытки чаще всего происходят у суицидентов с высоким уровнем импульсивности и низкой интернальностью (у импульсивных экстерналов), у которых острая психологическая боль приводит к реализации суицидальных поведенческих актов как способу аффективного отреагирования суи-цидентом своего состояния.
В целом полученные клинико-психологические и эмпирические данные по методикам BDI и BHS позволили подтвердить исходную характеристику исследованной выборки как лиц с симптоматикой субдепрессивного круга, в структуру которой включаются феномены, относящиеся к так называемым внутренним формам суицидального поведения (анти-витальные переживания, суицидальные мысли или тенденции) и проявления безнадежности и безысходности.
Материалы исследования по методике «Семантический дифференциал времени». Анализ характеристик субъективного восприятия времени в прошлом и в будущем проводился сравнительно с показателями по шкалам оценки настоящего (табл. 1).
В целом анализ балльных оценок по шкалам СДВ (табл. 1) свидетельствует, что респонденты с внутренними формами суицидального поведения оценивают актуальную действительность преимущественно негативно, их видение настоящего окрашено пессимистично (интегральный показатель переживания настоящего СВОВ = –2,3 ± 4,9).
В переживаниях значительно выражен аффективный компонент подавленности и
Таблица 1
Средние шкальные показатели по методике «Семантический дифференциал времени», полученные при оценке настоящего, прошлого и будущего респондентами с внутренними формами суицидального поведения
|
Факторы времени (В) (по шкалам СДВ) |
Оцениваемые периоды времени |
||
|
Прошлое |
Настоящее |
Будущее |
|
|
Активность времени АВ |
5,4 ± 2,3 |
–1,5 ± 4,2 |
–1,5 ± 4,3 |
|
Эмоциональная окраска времени ЭоВ |
4,7 ± 3,7 |
–5,3 ± 6,2 |
–3,5 ± 5,7 |
|
Величина времени ВВ |
4,7 ± 5,2 |
–3,6 ± 5,8 |
–2,0 ± 4,9 |
|
Структура времени СВ |
3,6 ± 3,9 |
–3,3 ± 5,5 |
–0,7 ± 3,7 |
|
Ощущаемость времени ОВ |
3,2 ± 3,5 |
1,6 ± 6,8 |
–1,3 ± 4,1 |
|
Средняя величина оценки времени СВОВ |
4,3 ± 2,6 |
–2,3 ± 4,9 |
–1,7 ± 4,6 |
вины (ОВ = –5,3 ± 6,2), что может формировать крайне болезненные и непереносимые эмоции и чувства, чаще всего – в виде выраженной тревоги, напряжения, неопределенности и всеобъемлющего чувства беспомощности-безнадежности, связанных с ситуационным стрессом, неудовлетворенностью ситуацией и собственной неспособностью разрешить имеющиеся у них проблемы.
Низкий уровень активности актуального психологического времени (АВ = –1,5±4,2) свидетельствует, что настоящее воспринимается как «мгновенное», «маленькое» и фактически ничем не заполненное. Представление о настоящем как о «пассивном» и «пустом» отражает наличие повышенной нервно-психической истощаемости и низком уровне жизненного тонуса у испытуемых. Недостаток витального тонуса, инертность, пассивность, некоторая статичность внутренней жизни косвенно подтверждает наличие у испытуемых симптоматики астенических и депрессивных расстройств.
Кроме того, настоящее представляется как малоструктурированное, «необратимое», «неритмичное» (СВ = –3,3 ± 5,5), в силу чего собственная деятельность и общий ход жизненных событий воспринимаются испытуемыми как недостаточно прогнозируемые и недостаточно понятные. Переживание ситуации неопределенности и жизни в непредсказуемых условиях лишь потенцирует постоянный дистресс и повышает психотравматизацию.
Обращает на себя внимание единственный относительно позитивно оцениваемый испытуемыми фактор настоящего – «Ощу-щаемость времени» (ОВ = 1,6 ± 6,8), что отражает наличие у респондентов этой группы тесной психологической связи с актуальной ситуацией, проявляющейся в их всесторонней вовлеченности и погружённости в нее, интуитивном восприятии и переживании событий жизни как личностно значимых.
В отличие от этого, оценка переживания респондентами своего прошлого показывает, что оно считается наиболее хорошим (СВОВ = 4,3 ± 2,6) и наиболее активным периодом их жизни (АВ = 5,4 ± 2,3), эмоционально позитивно окрашенным (ЭоВ = = 4,7 ±3,7), наполненным смыслом и высокозначимыми событиями (ВВ = 4,7 ± 5,1). В несколько меньшей степени они считают его понятным для себя, ясным, наполненным упорядоченными, прогнозируемыми и подконтрольными им событиями (СВ = 3,6 ± 3,9). Таким образом, у лиц с суицидальным риском высокая активность (динамичность) прошлого может указывать на наличие в то время выраженной энергетической наполненности психической жизни и свою удовлетворенность ею, и наличие на этом фоне более высокой самооценки. Такая эмоциональная идеализация прошлого контрастирует с актуальным состоянием подавленности, что может отражать попытку «бегства в прошлое» этой группы пациентов в связи с ощущением неспособности преодолеть возникшие трудности. Расхождения в оценке эмоциональной окраски прошлого и настоящего психологического времени могут отражать как эмоциональный дискомфорт в связи с утратой значимых источников удовольствия и радости, так и утрату способности получать удовольствие от того, что раньше его приносило, что соответствует представлениям о содержании ангедони-стического компонента депрессии. В целом прошлое воспринимается респондентами как относительно стабильный и безопасный период их жизни. Настоящее в представлениях респондентов значительно уступает прошлому в отношении активности, степени психического напряжения и смысловой наполненности своего времени, что подтверждает факт низкой насыщенности их жизни значимыми событиями и собственной нереализованно-стью в настоящем.
В противовес этому собственное будущее у респондентов, характеризующихся наличием внутренних форм суицидального поведения, представляется в целом пессимистическим, правде не столь негативно, как оценка настоящего (СВОВ буд = –1,7 ± 4,6 против СВОВ наст = –2,3 ± 4,9). В силу этого психологическая характеристика самооценки будущего в целом напоминает таковую в отношении настоящего. Сохранение в целом отрицательной оценки будущего подкрепляет наличие субъективно ощущаемого чувства безнадёжности и дает основания для вывода о сохранении негативного прогноза в отношении суицидальной опасности.
Представляется, что больший интерес может представлять не столько собственно балльная оценка будущего по факторам методики СДВ, сколько анализ сдвига оценок будущего по сравнению с оценками настоящего.
Наибольшие изменения (p<0,005) отмечаются по фактору структурированности времени (СВ буд = –0,7 ± 3,7 против СВ наст = = –3,3 ± 5,5), что свидетельствует о желании пациентов разрабатывать детальные планы в отношении своего будущего, формировать более точные и понятные для себя представления о предстоящих событиях, определенным образом организовывать, структурировать и управлять своим временем в будущем. Кроме того, полученные данные можно рассматривать и как наличие определенного психотерапевтического потенциала.
Аналогичная, но чуть меньше по величине изменений, отмечается динамика по шкалам величины и эмоциональной окраски времени (ВВ буд = –2,0 ± 4,9 против ВВ наст = = –3,6 ± 5,8 и ЭоВ буд = –3,5 ± 5,7 против ЭоВ наст = –5,3 ± 6,2, все при p<0,05).
Как следствие, можно предполагать желание испытуемых снизить в будущем число труднопреодолимых для себя препятствий в удовлетворении своих потребностей, наполнить «пространство» будущего значимыми событиями, уменьшить чувство внутренней скованности и фрустрированность, преодолеть существующее блокирование позитивных побуждений.
Кроме того, у принявших участие в исследовании отмечается очевидная надежда на преодоление их негативных переживаний, на появление у них чувства радости и удовольствия от жизни. Вместе с тем, лица с внутренними формами суицидального поведения про- ецируют в будущее собственную беспомощность и безнадёжность в настоящем.
Важно отметить, что структура будущего видится ими достаточно нечётко, что отражает отсутствие чётких планов и собственно понимания и осознания своих потребностей, реализация которых в будущем невозможна в виду наличия безнадёжности. Будущее воспринимается как малонапряжённый и малодинамичный период. При этом испытуемые предполагают, что уровень насыщенности жизни событиями и впечатлениями в ближайшем будущем изменится в лучшую сторону, но несущественно.
Такого рода рассогласование представлений о трех точках субъективного психологического времени свидетельствует о сохраняющемся тренде проецирования в будущее ярко выраженного актуального депрессивного компонента безнадёжности, беспомощности, безысходности и бесперспективности.
Материалы исследования по методике «Психологическая автобиография»
Анализ полученных по методике «Психологическая автобиография» данных показывает (табл. 2), что респонденты выделяют в своей прошедшей жизни два периода:
-
1) отдалённый период радостных событий, связанных, как правило, с переменами в их семейной жизни;
-
2) недавний период преимущественно грустных событий, связанных в основном с ухудшением их психического здоровья, определяющий негативное восприятие жизни в целом.
Будущее испытуемыми воспринимается слабо; тесная связь его со вторым периодом прошлого обусловлена сильным беспокойством за своё эмоциональное состояние.
Общее количество названных респондентами событий (9,1 ± 0,34) несколько ниже норм методики, что в целом свидетельствует о низкой продуктивности воспроизведения ими образов своей жизни, трудностях их актуализации, определенном однообразии ответов, что проявляется при описании как прошедших, так и будущих событий. При этом число упомянутых прошедших событий превышает число будущих, а число грустных превалирует над радостными. Аналогичные закономерности наблюдаются и при оценке показателей веса этих событий.
По сравнению с приводимыми авторами методики нормативными данными обращает на себя внимание отсутствие упоминаний
Таблица 2
Обобщенные характеристики психологических событийно-автобиографических событий у респондентов с внутренними формами суицидального поведения
|
Характеристика событий |
Количество событий |
Удельный вес событий |
Среднее время |
|
|
антиципации |
ретроспекции |
|||
|
Прошедшие события |
6,5 ± 0,25 |
20,2 ± 1,8 |
Не оценивается |
Не оценивается |
|
Будущие события |
2,6 ± 0,4 |
15,7 ± 1,7 |
Не оценивается |
Не оценивается |
|
Радостные события |
5,3 ± 0,4 |
15,5 ± 1,8 |
4,6 ± 0,9 |
10,6 ± 1,8 |
|
Грустные события |
3,8 ± 0,2 |
20,4 ± 1,2 |
4,8 ± 1,8 |
4,4 ± 0,2 |
|
Общее значение |
9,1 ± 0,34 |
35,9 ± 1,8 |
4,7 ± 0,7 |
8,4 ± 1,2 |
респондентами обследованной группы упоминаний радостных событий будущего; грустные события менее всего удалены в будущее (т. е. отмечается большая потенциальность событий), у них просматривается тенденция высоко оценивать грустные события и низко – радостные.
В типологии событий первое место занимают события IV типа, связанные с изменениями социальной среды, при этом в числе преобладающих событий у многих обследованных указывается развод, затем события, связанные с работой и учебой. Второе место в этой типологии занимают события II типа (личностнопсихологические), с преобладанием событий, связанных с утратой значимого объекта, прежде всего в случае смерти близких, реже – при расставании с партнёром, и, еще реже – развод родителей. На третьем месте находятся события I типа (биологические), представленные прежде всего рождением ребёнка, а у женщин – события, связанные с абортом.
Наиболее важным диагностическим показателем является мера удалённости называемых событий в прошлое. По результатам анализа показателей среднего времени антиципации и ретроспекции событий установлено, что у респондентов обследованной группы существует склонность чаще называть более отдалённые прошедшие события и более близкие будущие события. Полученные данные свидетельствуют о большей субъективной значимости прошлого опыта и сложностях прогнозирования будущего у лиц с внутренними формами суицидального поведения, наблюдаемыми на фоне субдепрессивной симптоматики и переживания чувства безнадежности – безысходности.
Выводы
-
1. Временная перспектива у обследованных лиц с наличием внутренних форм суицидального поведения в ситуации переживания безнадёжности характеризуется рядом особенностей:
-
• проявление пессимизма при общем
негативном отношении к психологическому содержанию настоящего и будущего наблюдается на фоне ярко выраженного позитивного отношения к прошлому;
-
• пессимистическая оценка актуальной ситуации настоящего времени определяет у них аналогичность картины будущего с надеждами на некоторое смягчение такой симптоматики.
-
2. Настоящее в представлениях лиц с внутренними формами суицидального поведения значительно уступает прошлому в отношении активности, степени психического напряжения и смысловой наполненности, что свидетельствует о низкой степени насыщенности событиями их жизни и низкой степени реализованности их в настоящем.
-
3. Склонность выделять более отдалённые прошедшие события и более близкие будущие события у обследованных респондентов связана со значимостью для них прошлого опыта и сложностью прогнозирования будущего.
-
4. Использованные в исследовании временной перспективы методы, методики и исследовательский дизайн могут быть включены в рабочую психодиагностическую батарею для оценки риска суицидальной активности.
Такого рода согласованность данных свидетельствует о проецировании в будущее ярко выраженного актуального депрессивного компонента безнадёжности, беспомощности, безысходности и бесперспективности.
Список литературы Временная перспектива и переживание безнадёжности в структуре внутренних форм суицидального поведения
- Абульханова, К.А. Время личности и время жизни/К.А. Абульханова, Т.Н. Березина. -СПб., 2001. -299 с.
- Амбрумова, А.Г. Суицидальное поведение как объект комплексного изучения/А.Г. Амбрумова//Комплексные исследования в суицидологии: сборник научных трудов. -М.: Изд-во Моск. НИИ психиатрии МЗ СССР, 1986. -С. 7-25.
- Амбрумова, А.Г. Суицид как феномен социально-психологической дезадаптации личности/А.Г. Амбрумова, В.А. Тихоненко//Актуальные вопросы суицидологии. -М., 1978. -С. 6-28.
- Арестова, О.Н. Операциональные аспекты временной перспективы личности/О.Н. Арестова//Вопросы психологии. -2000. -№ 4. -С. 61-73.
- Бек, П. Психометрические шкалы оценки суицидального риска/П. Бек, Л. Ольсен, А. Нимеус//Напрасная смерть. Причина и профилактика самоубийств/ред. Д. Вассерман. -М.: Смысл, 2005. -С. 163-170.
- Белановская, О.В. Временная перспектива жизненных планов в юношестве/О.В. Белановская//Проблемы cоциальной психологии личности. Саратов: СГУ, 2008. -http://psyjournals.ru/sgu_socialpsy/issue/30275.shtml (дата обращения: 28.12.2013)
- Бовин, Б.Г. Типология временных перспектив осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы/Б.Г. Бовин, Ю.В. Славинская//Человек: преступление и наказание. -2011. -№ 4(75). -С. 110-114.
- Бороздина, Л.В. Возрастные изменения временной трансспективы субъекта/Л.В. Бороздина, И.А. Спиридонова//Психологический журнал. -1998. -Т. 19, № 3. -С. 34-47.
- Бурлачук, Л.Ф. Психология жизненных ситуаций/Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова. -М.: Российское педагогическое агентство, 1998. -263 с.
- Вассерман, Л.И. Семантический дифференциал времени: экспертная психодиагностическая система в медицинской психологии: пособие для врачей и медицинских психологов/Л.И. Вассерман, Е.А. Трифонова, К.Р. Червинская. -СПб., 2009. -44 c.
- Головаха, Е.И. Психологическое время личности/Е.И. Головаха, А.А. Кроник. -Киев, 1984. -207 с.
- Головаха, Е.И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности/Е.И. Головаха. http://bookap.info/genpsy/kulikov_psihologiya_lichnosti_v_trudah_otechestvennyh_psihologov/gl39.shtm (дата обращения: 20.11.2012)
- Гурова, О.С. Психологические особенности субъективных представлений о жизненных перспективах участников локальных войн: дис. … канд. психол. наук/О.С. Гурова. -Барнаул, 2004.
- Демина, И.А. Изучение жизненных перспектив старшеклассников в контексте субъективной картины жизненного пути: дис. … канд. психол. наук/И.А. Демина. -М., 1997.
- Ермолова, И.М. Временная перспектива у суицидентов при переживании безнадѐжности/И.М. Ермолова, О.В. Крунэ, И.А. Вишняков//Омский психиатрический журнал. -2015. -№ 3 (5). -С. 38-41.
- Зарубин, П.В. Временная перспектива и экономическая нестабильность: сравнительное исследование 2007 и 2013 гг./П.В. Зарубин, А. Сырцова//Психологические исследования: электронный научный журнал. -2013. -Т. 6, № 32. -С. 9. http://psystudy.ru index.php/num/2013v6n32/911-zarubin32
- Зотов, М.В. Суицидальное поведение: механизмы развития, диагностика, коррекция/М.В. Зотов. -СПб.: Речь, 2006. -144 с.
- Квасова, О.Г. К современному состоянию проблемы временной перспективы личности/О.Г. Квасова//Историческая и социально-образовательная мысль. -2012. -№ 5. -С. 137-141.
- Квасова, О.Г. Трансформация временной перспективы личности в экстремальной ситуации: дис.... канд. психол. наук/О.Г. Квасова. -М.: Изд-во МГУ, 2013. -С. 37-61.
- Квасова, О.Г. Трансформация временной перспективы личности в экстремальной ситуации/О.Г. Квасова//Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. -2011. -№ 4. -C. 109-117.
- Кроник, А.А. Субъективная картина жизненного пути как предмет психологического исследования, диагностики и коррекции: дис. в виде науч. докл. … д-ра психол. наук/А.А. Кроник. -М., 1994. -171 с.
- Кроник, А.А. Каузометрия: Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути/А.А. Кроник, Р.А. Ахмеров. -М., 2008. -294 с.
- Кузнецова, О.В. Роль временной перспективы в личностном и профессиональном самоопределении подростков/О.В. Кузнецова//Психологическая наука и образование. -2007. -№ 3. -С. 5-15.
- Мандрикова, Е.Ю. Современные подходы к изучению временной перспективы личности/Е.Ю. Мандрикова//Психол. журн. -2008. -Т. 29, № 4. -С. 54-65.
- Мидько, А.А. Чувство безнадёжности и личностная предиспозиция к суицидальному поведению/А.А. Мидько//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 5. -С. 30-31.
- Мидько, А.А. Суицидальное поведение мужчин: уточнение роли безнадёжности и депрессии методами структурного моделирования. Ч. I. Влияние безнадёжности на риск тяжёлых суицидальных попыток/А.А. Мидько, Б.В. Бирон, В.А. Розанов//Суицидология. -2013. -Т. 4, № 3(12). -С. 17-26.
- Миско, Е.А. Особенности жизненной перспективы у ветеранов войны в Афганистане и ликвидаторов аварии ЧАЭС/Е.А. Миско, Н.В. Тарабрина//Психологический журнал. -2004. -№ 3. -С. 44-52.
- Павлова, Е.В. Изменения временной перспективы у пациентов в кризисных состояниях/Е.В. Павлова, П.П. Симонова//Известия Урал. гос. ун-та. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. -2011. -Т.95. -№4. -С. 225-231.
- Ральникова, И.А. Перестройка системы жизненных перспектив человека на этапе переломных событий: моногр./И.А. Ральникова. -Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012.
- Савлакова, Н.М. Временная перспектива личности: теоретический анализ проблемы/Н.М. Савлакова//Философия и социальные науки. -2010. -№ 3. -С. 18-24.
- Соколова, Е.Т. Проблема суицида: клинико-психологический ракурс/Е.Т. Соколова, Ю.А. Сотникова//Вопросы психологии. -2006. -№ 4. -С. 104-115.
- Сурикова, Я.А. Особенности временной перспективы пожилых, проживающих в условиях социальной изоляции/Я.А. Сурикова//Личность в экстремальных условиях. Вып. 2: сб. науч. тр.: в 2 ч./науч. ред. А.В. Серый, М.С. Яницкий; под общ. ред. А.А. Бучек, Ю.Ю. Неяскиной, М.А. Фризена. -Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2012. -Ч. 2. -С. 90-97.
- Сырцова, А. Возрастная динамика временной перспективы личности: дис. … канд. психол. наук/А. Сырцова. -М., 2008. -317 с.
- Сырцова, А. Адаптация опросника временной перспективы личности Ф. Зимбардо А. Сырцова, Е.Т. Соколова, О.В. Митина//Психологический журнал. -2008. -Т. 29, № 3. -С. 101-109.
- Тарабрина, Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса/Н.В. Тарабрина. -СПб.: Питер, 2001. -272 с. -(Серия «Практикум по психологии»).
- Gjesme, T. The concept of future time orientation: consideration of some functions and implications/T. Gjesme//International Journal of psychology. -1983. -V. 5. -P. 443-662.
- Lens, W. Future-time perspective: an individual and a societal approach/W. Lens, M.A. Moreas//Psychology of future orientation/Ed. Zalesci Z. -Lublin, 1994. -P. 23-38.
- Nuttin, J. Future time perspective and motivation: Theory and research method/J. Nuttin, W. Lens. -Leuven & Hillsdale, NJ: Leuven University Press & Erlbaum, 1985.
- Zimbardo, P.G. Putting time in perspective: a valid, reliable individual-differences metric/P.G. Zimbardo, J.N. Boyd//Journal of personality and social psychology. -1999. -Vol. 77. -P. 1271-1288.