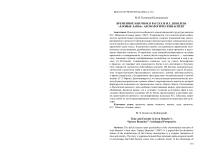Временное и вечное в рассказе И. С. Шмелева "Еловые лапы": аксиологический аспект
Автор: Коннова Мария Николаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
Исследуются особенности хронотопической структуры рассказа И. С. Шмелева «Еловые лапы» (1947). Утверждается, что отличительной особенностью архитектоники произведения является сложное взаимодействие категорий времени и вечности. Организующим началом выступают доминантные мотивы или хронотопы, представляющие собой ключевые элементы пространственновременной ткани текста. В хронотопе памяти, составляющем первооснову человеческого существования, разобщенные темпоральные планы прошлого и настоящего обретают единство. В хронотопе чуда, который развертывается на грани временного и вневременного, в земное бытие вторгается вечность - «активная сила, имеющая глубокое преображающее воздействие на человека и мир в целом» (А. И. Осипов). Совершившись однажды, чудо не уходит безвозвратно в прошлое, но освящает всю совокупность бытия в его настоящем и будущем. Оно становится «ценностно-событийным центром» (М. Бахтин) индивидуальноличностного хронотопа героя и средоточием его темпорального опыта. В хронотопе встречи-сретения преодолевается замкнутость земной действительности, и время сопрягается с безграничным пространством «всеобъемлющей и вечной жизни» (С. Л. Франк). Демонстрируется, что актуализация хронотопических ценностей рассказа происходит в рамках общего «вертикального» контекста, который формируется аллюзиями на прецедентные тексты Нового Завета. Отсылающие к Абсолютной ценности, они сообщают повествованию широту архетипического обобщения. Делается вывод, что в условиях «сужения культурных сфер и хао-тизации общественного сознания» (В. И. Тюпа), происходящих в настоящее время, ориентация на ценности, эксплицированные в рассказе И. С. Шмелева, может стать одним из путей предотвращения процесса деаксиологизации русской культуры.
Хронотоп, время, вечность, память, чудо, ценность, и. с. шмелев, «еловые лапы»
Короткий адрес: https://sciup.org/149140447
IDR: 149140447 | DOI: 10.54770/20729316-2022-2-173
Текст научной статьи Временное и вечное в рассказе И. С. Шмелева "Еловые лапы": аксиологический аспект
Темпоральное начало проявляет себя во всех сферах человеческого бытия. Все, что изменяется, живет, движется, действует и мыслит, в той или иной форме связано с временем. Любой предмет обладает своей собственной длительностью — некоей «толщиной по четвертой координате, по времени» [Флоренский 1993, 189].
В литературном произведении темпоральность находит свое выражение в конкретных, «окачествленных» временах. Переживаемая героями реальность не знает однородного математического времени, протекающего не зависимо от предметной действительности. Хронотоп как «преимущественная материализация времени в пространстве» представляет собой центр «изобразительной конкретизации» для всего произведения [Бахтин 2000, 185]. Темпоральные смыслы актуализируются при этом только в соотнесении с единым формально-содержательным и аксиологическим центром — человеком как единственной в своем индивидуальном бытии личности. «Ценностное уплотнение мира» [Бахтин 2000, 206], происходящее вокруг человека, приводит к индивидуализации времени: «...из моей единственности как бы расходятся лучи, которые <...> просквожают светом ценности все возможное время, самую временность как таковую, ибо я действительно причастен ей» [Бахтин 1996, 126].
Художественное время качественно неоднородно. Оно не сводится к историчности или к «центрированию» в настоящем, но включает и вневременность, и бесконечность, и вечность. Вечность и безграничность не имеют при этом характера нейтрально-безличной длительности, но «живы в мышлении моментами ценностного смысла, который им при- сущ», «загораясь» в соотнесении с уникальной человеческой личностью «ценностным светом» [Бахтин 1996, 126].
Разрыв между временем и вечностью, произошедший в европейской гуманитарной мысли в эпоху Просвещения, повлек за собой абсолютизацию временности в качестве единственной характеристики бытия и привел к почти полному забвению другого аксиологически-насыщенного измерения темпорального опыта — вечности. Вопросы художественного отображения времени и вечности в их ценностной взаимосвязи остаются в современной филологической науке практически неизученными [ср. За-боткина, Коннова 2021].
Всеобъемлющая экспансия цивилизации комфорта, происходящая в последние десятилетия, вытесняет на периферию картины мира такие «вневременные» понятия, как идеал и нравственность. Устранение абсолютной ценности как основания аксиосферы культуры и замена ее ценностями относительными приводит к утрате культурообразующей доминанты, результатом которой становится сужение культурных сфер и хао-тизация общественного сознания [ср. Тюпа 2018, 209]. Исследование ценностного аспекта художественного времени в произведениях русской литературы, которая всегда стремилась «созерцать вечность» [Бердяев 1969, 261], может стать одним из путей преодоления угрозы деаксиологизации национальной культуры. Этим определяется проблемное поле настоящей статьи, целью которой является рассмотрение ценностного аспекта сопряжения категорий времени и вечности в рассказе И. С. Шмелёва «Еловые лапы».
Тема нелинейности времени, его открытости иной, вечной реальности является сквозной в творчестве И. С. Шмелёва. Особенно отчетливое звучание она приобретает после чудесного исцеления писателя в мае 1934 г. (это событие с документальной точностью описано в рассказе «Милость Преподобного Серафима»), В 1939-1947 гг. он создает повесть «Куликово Поле», в которой ставит задачу «показать, что для духа нет ограничений во времени и пространстве: всё есть и всегда будет» [Шмелев 2003, 440-441]. В рассказах последних лет—«Еловые лапы» (1947), «Угодники Соловецкие» (1948) — мысль о том, что «вечное является во времени, вечное может быть во времени воплощено» [Бердяев 1990, 405], выражается в особенностях сюжетного ряда произведений и в душевном складе главных героев.
В основу рассказа «Еловые лапы» положено реальное событие — «случай в Москве», о котором писателю сообщила княгиня С. Е. Трубецкая летом 1947 г. Служащие антирелигиозного музея, в котором находились изъятые из монастыря святые мощи преподобного Серафима Саровского, стали свидетелями того, «как глубокий старец, в лаптях, 3 года приходил с мешком и выкладывал на пол у “экспоната” — ворох еловых лап и сосновых сучьев “ с батюшкиного леску ”» [Шмелев 2004, 633; выделения — автора, И. С. Шмелева]. О замысле будущего рассказа И. С. Шмелев пишет О. А. Бредиус-Субботиной: «Но что это за свет! что за жемчужина!..
Я должен о сем написать, сжато и крепко. Нет, далеко не изжит “нравственный запас”! Пешком, с-под Сарова... Искал и нашел (!) батюшку. Чудо сердца и — благодарения. Чудо — верности. Всего не упишу. Сам скажу. Вот, что дает силу жить и ждать» [Шмелев 2004, 633; выделения — автора, И. С. Шмелева].
О работе над рассказом И. С. Шмелев сообщает 29 июля 1947 г. И.А.Ильину: «В томленьи писал “Еловые лапы”. Послал... и отменил, дал второй список. Ведь боялся приступать... и вдруг 21 июля, в Казанскую, в день рождения Оли, вскочил! Срок!! 1 авг. — день рождения Серафима Преи. И — одолел, пре-одолел... Малый рассказ, но как я истомился!... хотел дать “без точек”, бесстрастно, благоговейно... душу русскую дать... — детскую, благостную... — воздух Батюшки-Серафима. И как же было трудно! — умирять страсти, вдруг заполыхавшие!.. Я скрутил себя. И ночь провел над правками, и другую — над 2 списком... Ну, судите... лучше, истомленный, не мог» [Ильин 2000, 160-161].
Хронотопические координаты событийного пространства рассказа намечаются его начальным предложением: «День был будний, метельный, музейные посетители были редки, и появление старика <...> привлекло любопытство музейских и хорошо запомнилось» [Шмелев 2001, 414]. Определение «будний» помещает происходящее в контекст повседневного, привычно-обыденного течения жизни. Второе определение — «метельный» — метонимически уточняет природно-календарное время действия. Вводя прецедентный для русской литературной традиции образ вьюги — знака злой, противоестественной силы [ср. Нагина 2011], слово метельный символически напоминает о деформации пространства и потере пути.
Место действия обозначается определением музейный («музейные посетители были редки»). Оно соотносит линейный хронотоп повествования с институциональным пространством «овеществленной» памяти. Частью музейного пространства являются сотрудники, обобщенно обозначаемые эллиптически-разговорным субстантивированным прилагательным «му-зейские». Их обезличенность подчеркивают метонимические деепричастные сочетания и окказиональные отглагольные существительные, именующие человека по выполняемой им функции, например, «выдававшая входные ярлычки» {«выдавальщица»), «барышня, пробивавшая ярлычки» {«барышня-пробивальщица»), «дававшая объяснения посетителям, “ответственная”».
Привычно-будничное течение «музейного» времени нарушает появление главного героя — «старика <...> с мешком за спиной». Анахроничность его внешнего вида, подчеркиваемая многократным повтором слова старый в окружении близкозначных определений — «в ветхом полушубке», «согбенный», «заросший, как моховой» — свидетельствует о принадлежности героя к иному — прежнему, «старому» — времени.
Первые же слова старика в ответ на вопрос «откуда он, и что ему тут нужно» вводят в повествование образ иной, не-музейной реальности: «Из-под Сарова, пришел Батюшке Серафиму поклониться» [Шмелев 2001,
414]. Топоним Саров метонимически указывает на Свято-Успенскую Саровскую пустынь — мужской монастырь на северо-востоке Тамбовской губернии, прославившийся как место молитвенных подвигов преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1754-1833). Имя Преподобного, данное в форме благоговейно-ласкового обращения — «Батюшка Серафим» — сопрягает хронотоп повествования с вневременной тайной святости.
Вопрос старика «где тут у вас Батюшка Серафим?» строится на антитезе высокого и низкого. Локативное наречие тут имплицирует мысль о несоответствии места действия Тому, Кто в нем находится. Дейктиче-ское местоименное сочетание «у вас», с присущей ему семантикой дистанцирования, отчуждения, усиливает контраст между «своим» (Батюшка Серафим) — «чужим» (музей). Соположение несопоставимых экзистенциальных планов — секуляризированного госучреждения и метафизического мира святости — подчеркивает противоестественность происходящего. Тем самым актуализируется исторический предтекст повествования— трагические события декабря 1921 г, когда в рамках кампании по ликвидации святых мощей нетленные останки преподобного Серафима были насильственно изъяты из Саровского монастыря и перевезены в Москву, где находились в одном из анатомических музеев.
Повествование, развертывающееся с документальной последовательностью, движется по своеобразной вертикали: с нижнего этажа старик «по лестнице» поднимается к «верхней площадке», где в одной из комнат («там») пребывают святые мощи. Направленность движения может быть прочитана символически — как постепенное восхождение героя рассказа к миру иному, высшему.
В беседе с «барышней, пробивавшей ярлычки», старик раскрывает цель своего прихода: «Пришел пешком, по обещанию; от Сарова верстов сот пять, шел боле месяца, “все было хорошо, задачливо”; а пришел — “по маменькину наказу, для памяти”» [Шмелев 2001, 415]. Пассивной безжизненности памяти музейной здесь противопоставляется «память в действии, в деле» [Даль 1956, 14]. Уточняющие дополнения «по маменькину наказу», «по обещанию» вводят структурообразующий для рассказа хронотоп памяти, в котором осуществляется «связь настоящего и будущего с прошлым» [Бердяев 1969, 90].
Темпоральный опыт героя сосредоточен вокруг памяти о чуде: «Как маменька помирала, — наказала: “помни, Ваня... вымолила я тебя у Батюшки Серафима...” — “отмолила, стало-ть, маменька меня...” — “воздвиг тебя Батюшка Серафим” <...> Мальчонком, был он дюже болен, вот помрет; ни рукой — ни ногой, сразу с чего-то сталось. Все слезы маменька выплакала, всё ходила к Батюшке Серафиму на могилку, от их села верстов сорок. И Батюшка Серафим воздвиг его» [Шмелев 2001, 415-416].
Образ молитвы («отмолила <.. .> маменька меня») соотносит описываемое событие с пространством веры, которая «есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Семантика интенсивности, присущая приставочным формам вымолила, выплакала и эмфатическому местоимению-частице все / всё, подчеркивает постоянство веры, проистекающей из сердечного обращения к реальности иного мира. Чудесным явлением этого преображенного благобытия становится «Батюшка Серафим-Угодник», непреложная святость которого, онтологически пребывающая «вне здешнего», выступает доказательством «полной достоверности Вечности» [Фудель 2001, 454].
В хронотопе чуда вечность «вторгается» в земную действительность сверхъестественным исцелением неизлечимо больного мальчика. Соединительный союз и, связывающий две части повествования — «до» и «после», оттеняет причинно-следственную зависимость между молитвой к святому — «Все слезы маменька выплакала...» — и чудом как ответом на нее — «И Батюшка Серафим воздвиг его». Троекратный повтор «воздвиг тебя» — «как воздвиг» — «воздвиг его» высвечивает в описываемом событии вневременное начало — исцеление как возвращение от смерти к жизни, как прообраз будущего воскресения (ц.сл. воздвигнути — «воскресить»), Группа сказуемого «воздвиг его» отсылает к евангельскому повествованию об исцелении отрока: «...и бысть яко мертв, якоже мно-зем глаголати, яко умре. Иисус же емь его за руку, воздвиже его: и воста» (Мк. 9:26-27). Новозаветная аллюзия помещает чудесное спасение мальчика в единое над-историческое пространство Священного Предания.
Чудо исцеления становится «ценностно-событийным центром» [Бахтин 2000, 9] индивидуально-личностного хронотопа героя: «С той поры всякий год хаживали они на могилку, правили панихидку, — “порадовать-поклониться цветочками, с его полянки в бору”, а в зимнюю пору еловые лапы в бору ломали и сосновые сучочки с шишечками, на могилку клали — порадовать. А как “просветились мощи”, годов тридцать тому, беспременно два раза на году навещивали. И маменька померла, и жена-покойница померла, и сынка в большую войну убили, и внуки попримерли, “от бедовой жизни”, никого у него теперь... а то все ходили, “по завету, для памяти”» [Шмелев 2001, 416].
Дейктическое обстоятельство «с той поры» указывает на точку отсчета— центральную веху, с которой соотносится вся последующая жизнь героя. Ведущим становится мотив благоговейной и верной памяти, памяти-благодарения. Семантика общности, присущая обстоятельству «всякий год», подчеркивает постоянство «памяти в действии», ее внутреннее единство. Каждый выделимый момент жизни соотносится для героя с реальностью чуда исцеления, которое, однажды совершившись, не уходит безвозвратно в прошлое, но «отбрасывает от себя лучи своего света» [ср. Мечев 2001, 161] навею совокупность бытия.
Границы краткого периода настоящего и замкнутость личного пространства преодолеваются. Однородные формы многократного вида «хаживали», «правили панихидку», «навещивали» воссоздают картину всенародного почитания преподобного Серафима, которое, начавшись после кончины святого в 1833 г, вылилось в торжество его общецерков- ного прославления в 1903 г. («А как “просветились мощи”, годов тридцать тому...»). Мягкая ласковость, сообщаемая диминутивами могилка, панихидка, цветочки, полянка, сучочки с шишечками, передает ощущение почти родственной близости. Зримо-конкретная предметность действий, адресованных Тому, Кто способен увидеть и услышать, напоминает о словах преподобного Серафима, обращенных к сестрам устроенной им Дивеевской обители: «Когда меня не станет, ходите ко мне на гробик, как к живому, и всё расскажите. И услышу вас... Как с живым, со мной говорите. И всегда я для вас жив буду!» [Митрополит Вениамин 2011, 403]. Сложное сказуемое «правили панихидку» вводит образ церковного богослужения, в котором «уничтожаются грани времени», и где «всё пребывает в настоящем, потому что в нем всё в вечности» [Мечев 2001, 159, 163].
Гранью, отделяющей прошлое от настоящего, становится изъятие святых мощей Преподобного из Саровской пустыни: «Л как Батюшку Серафима “взяли от нас...” — стал дознавать, куда увезли его. Верные люди и указали, только молчать велели» [Шмелев 2001, 416]. Насильственная сущность нового строя оттеняется семантикой неопределенно-личных предикатов «взяли», «увезли».
Центральным в этой части повествования становится традиционный хронотоп дороги как странничества-искания, сливающийся в идиости-ле И. С. Шмелева с мотивом богомолья: «Вот и пошел Батюшку искать. И теперь хорошие люди есть, “законные”: и ночевать пускали, и покормят от скудости, и копеечки подавали — и от них чтобы поклониться Батюшке Серафиму, свечечку родимому поставить... А то и всплакивали... — “Скажу им святое слово — ‘плачущий утешутся... ’ — ан и станет им весело”» [Шмелев 2001, 416]. Образ свечи метонимически вводит мотив церковной молитвы. Слова старика «‘плачущий утешутся..? — ан и станет им весело» представляют собой сочетание элементов двух стихов Нагорной проповеди: «Блажени плачущий-, яко тии утешатся» (Мф. 5:4), «Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на Небесех» (Мф. 5:12). Евангельская аллюзия помещает происходящее во вневременной контекст Священной истории, соотнося план настоящего с эсхатологической перспективой последнего свершения времен, когда «смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» (Откр. 21:4).
Историческое настоящее входит в повествование кратким упоминанием встреченных стариком в пути людей: «Задачливо было всю дорогу. Паренек однораз нагнал, с оружией, который высокой при начальстве, — “что за человек?., куда-а?..” — стро-го так было-окрикнул... а ничего, нестрашный: — “чать тебе, дед, годов сто будет?..” На ахтынабиль к себе сесть велел... — “помчало, снегу не видать!..” Сто не сто, а за восьмой десяток много перешло» [Шмелев 2001, 416-417]. Окказионализм ахтынабиль («автомобиль»), отражающий народное восприятие внутренней формы иноязычного заимствования («ах ты, нобиль») служит ироническим указанием на реалии послереволюционной действительности — экспроприацию собственности «бывших людей» («нобиль») теми, кто «с оружи- ей». Мотив беспорядочной спешки, гонки, вводимый описанием быстрой езды («помчало, снегу не видать!..»), косвенно характеризует новый образ жизни.
Описание «другого начальства» построено на внутренней антитезе «правда — ложь»: «Помнилось еще барышне, как другое начальство бумажку ему сунуло, “орлёную”: “везде тебя, дед, с колокольным звоном будут встречать с моей бумагой!” — “Да я ее, малость отойдя, в снег сунул, от греха... ну-ка она неправая?..”» [Шмелев 2001, 417]. Коннотации фамильярной небрежности, присущие диминутиву бумажка и глаголу сунуть, контрастируют с торжественно-официальным оттенком эпитета орлёная, метонимически указывающего на символ государственной власти в дореволюционной России.
Смысловым центром повествования, его кульминацией становится поклонение святыне — «память-радование». Место действия обозначается графически выделенным обстоятельственным наречием там-. «Барышня сама довела старика до т о й двери... — и спохватилась, что отпустила его с мешком: “в голову как-то не пришло!” <...> Из расспросов у старика и по рассказам музейским... — (это “явление” произвело сильное впечатление даже и на “ответственных” при том отделе), — узналось, что произошло там» [Шмелев 2001, 417; выделение автора — И. С. Шмелева].
Значение пространственной отдаленности, присущее наречию там, раскрывается в иносказательном плане и соотносится с отделенным от житейского и обычного не-отмирным пространством инобытия. Замещение конкретного указания на место пребывания святых мощей графически выделенными местоимениями и местоименными наречиями дальнего дейксиса («довела старика до той двери», «вернулся оттуда», «на “ответственных” при том отделе») оттеняет тайну святыни, которая, будучи насильственно помещена в секуляризированное пространство музея, продолжает онтологически пребывать «вне здешнего», будучи «в мире, но не от мира» [Осипов 1995, 15-16].
Начальная граница хронотопа встречи-сретения намечается разговором старика и «ответственной при том отделе»: «Дававшая объяснения посетителям, “ответственная”, — “была, прямо, поражена” появлением старика с мешком. Старик нимало не смущался, объяснений не слушал, а первым делом спросил-перебил: “где положили Батюшку Серафима Преподобного... от нас взяли из Сарова?..” Она показала на витрину. Он поглядел на “ответственную” “недоверчиво”, и перебил настойчиво, строго даже: “а не обманываешь?., самый тут Батюшка Серафим и покоится?!..”» [Шмелев 2001, 417-418].
Неопределенно-личные предикаты положили, взяли, напоминающие о насильственном изъятии святых мощей преподобного Серафима, актуализируют текстовые параллели со словами Марии Магдалины, ищущей тело погребенного и воскресшего Христа: «Взяша Господа от гроба, и не вем, где положиша Его» (Ин. 20:2). Образ вечного покоя праведных, вводимый графически выделенным церковно славянским глаголом поко- итъся («...самый тут Батюшка Серафим и п о ко ится ?!..» ), свидетельствует о переходе из секуляризированного хронотопа музея в иное, освященное пространство.
Психологическую точность изображаемому придают многочисленные ретроспективные примечания-пояснения — фрагменты высказываний «ответственной», известные «из слухов, ходивших среди музейских». Эти замечания, представляющие собой череду эмотивно-оценочных суждений, характеризуют внешние проявления душевного состояния главного героя как бы «со стороны», сквозь призму восприятия равнодушнонедоброжелательного наблюдателя: «Он поглядел <...> “недоверчиво'”», «Старик <...> сказал — “упрямо”», «Старик... — “конечно, понял по-своему, наивно...” — и едва выговорил вдруг посеревшими губами, “ласково как-то даже, совсем по-детски...”».
Развертывание повествования прерывается вставками прямой речи: «“Ответственная” <.. .> велела старику отдать ей мешок: “с вещами у нас нельзя!., как тебя пропустили? !..” Старик отмахнулся головой и сказал <...>: “не, не дам я тебе мешка!., это Батюшке Серафиму, память”» [Шмелев 2001, 418]. Реплики ответственной включают отрывисто-краткие императивно-запретительные предложения: «с вещами у нас нельзя'.», «что..?!., что ты?! нельзя у нас!..», «это у нас никак нельзя'.». Резкость ее речи подчеркивается соположением не сочетающихся элементов — формальных клише («что-то недопустимое», «взяла себя в руки») и разговорных фраз («тут у нас не базар'.»). Глаголы говорения, маркированные по степени усиления интенсивности, составляют звуковой фон происходящего: «Она сказала», «велела», «сказала, возвысив голос», «выговорила». Нарастающий словесный «шум» достигает предельной силы перед самым поклонением старика святыне: «Она крикнула на него — “нельзя!..”». Крик неожиданно сменяется тишиной: контрастная ремарка «передавали му-зейские шепотком» оттеняет тайну того, что должно вот-вот произойти.
Скрупулезно-точное описание событий-действий замедляет движение нарратива и приостанавливает течение сюжетного времени: «Старик — словно и не слыхал: ткнулся головой в елки, “потрясся там” и, стоя на коленях, — “стал тянуть, жа-лобно-плаксиво”... — передавали музей-ские шепотком: “...роди-мый ты на-ш... Ба-а-тюшка Серафи-им... пришел к тебе... Ваню-шка-а... по-мню.., го-лу-бчик ты на-аш... Ба-атюшка Серафи-им... Угодник Бо-о-жий..!”» [Шмелев 2001, 419].
Обращение к Святому как к непосредственному собеседнику — «... роди-мый ты на-ш... Ба-а-тюшка Серафи-им!» — становится началом диалога, в котором слушателям доступны лишь слова молящегося. Ответ-отклик, переживаемый стариком во всей полноте внутренней очевидности, остается для внешнего мира тайной. Молитва к «Угоднику Божию», который духом своим пребывает вне земных времени и пространства, святыми же мощами покоится в зале антирелигиозного музея, становится для старика «восприятием вечных реальностей» [Лосский 2004, 289].
Семантика эмпатии, присущая ласковым именованиям «родимый»,
«голубчик», «Батюшка», отражает чувство любви и родственной близости. Инклюзивное местоимение наш, со свойственной ему семантикой сопричастности, подчеркивает сверхличностное значение молитвы. Вводя образ семьи, рода, нации, местоимение наш имплицирует мысль о совершающемся в атемпоральном хронотопе молитвы единении различных человеческих личностей — живых (старика, «хороших людей, “законных”») и почивших («маменьки», «жены», «сынка», «внуков»).
Значение малости, незначительности, выражаемое уменьшительноласкательным именем Ванюшка, отражает состояние крайнего смирения, детской кротости, передаваемое и позой молящегося («стоя на коленях»), и манерой речи («жалобно»). Имя героя, прототипическое в системе русской ономастики, приобретает символическое значение: в лице старика Ивана на поклонение к Преподобному Серафиму приходит вся прежняя, страдающая Россия. Глагол помню, замыкающий центральную синтагму, — «пришел к тебе... Ваню-шка-а... по-мню. ..», — вновь актуализирует центральный для рассказа хронотоп памяти. В памяти-молитве снимается «стена, отделяющая и закрывающая <...> настоящее от <...> прошлого, от любимых умерших, от совместной с ними жизни, от детства, от, казалось бы, давно потерянных сокровищ» [Фудель 2009, 56].
Зримым символом памяти становятся принесенные стариком «еловые лапы» из саровского леса: «Еловые лапы это... с самого борку Батюшки... любил Батюшка свой борок... память наша... в память это ему, по маменьке. ..» [Шмелев 2001, 419]. Топоним борок, эмфатически выделенный местоимением самый, вводит прецедентный образ «дальней пустыньки» Преподобного Серафима — дремучего соснового леса, в котором «на возвышенном холме стояла деревянная келья», где Угодник Божий провел в совершенном уединении и молитве шестнадцать лет [Митрополит Вениамин 2011, 64]. Еловые лапы своей вечнозеленой хвоей напоминают в зимний «метельный» день о весне как прообразе будущего всеобщего воскресения. Принесенные «с самого борку Батюшки» и вытряхнутые «под витрину, на пол», они делают пространство музея причастным освященному хронотопу Саровской пустыни.
Завершается рассказ кратким повествованием о втором и последнем приходе старика. Графически отделенная от основного текста, эта часть является своеобразным эпилогом произведения: «Не прошло года, было в самом начале августа. Та же барышня вдруг опять увидала старика. Он был в том же полушубке, в лаптях, с мешком. Стал, кажется, еще старей и слабей. Она напомнила ему, и он признал ее. На ее вопрос — “с елочками?..” — сказал: “да, милая... еловые лапы, Батюшке Серафиму”. Намачивал дорогой, не посохли чтобы, не пообсыпались. Было, как и в тот раз: поклоны и “память-радование” — еловые лапы и сосновые ветки в шишечках. Никто там ни слова не сказал старику» [Шмелев 2001, 421].
Обстоятельство «в самом начале августа» соотносит приход старика с днем обретения святых мощей Преподобного Серафима, празднуемым Церковью 1 августа (19 июля ст.ст.). Опущение грамматического подле -182
жащего — «Стал <...> еще старей», «На ее вопрос <...> сказал», «Намачивал дорогой...» — переносит внимание с субъекта действия на событие. Это смещение грамматического фокуса имплицитно указывает на добровольное умаление героя, его совершенное «растворение» в действии — молитве-благодарении. Категориальная семантика вневременности, присущая экзистенциальной номинативной синтагме «Было, как и в тот раз: поклоны и “память-радование" — еловые лапы и ветки в шишечках» подчеркивает атемпоральную сущность происходящего.
Многократное отрицание «Никто там ни слова не сказал старику», свидетельствующее о своеобразном само-упразднении антагонистов главного героя, наводит на мысль о произошедшей нивелировке противопоставления «человек» — «система». Преодолевается и само страдание. Скорбь и мука первой встречи, выразившаяся в слезах, которые «градом катились» по «страшному, изможденному лицу» старика, сменяются тихой радостью, передаваемой в финале произведения эпитетом благостный-. «Он ушел с миром, благостный. Ласково сказал барышне: “ну, милая... прощай”. Больше не приходил» [Шмелев 2001, 421]. Восходящее к церковнославянской лексеме благость, указывающую на высшая степень любви и милосердия, это определение усиливает синкретичные смыслы умиротворения и надежды, передаваемые словом-символом мир.
Заключительные предложения актуализируют интертекстуальные параллели с Новым Заветом. Группа сказуемого «ушел с миром» представляет собой грамматически видоизмененные слова Христа, обращенные к людям, которые получили исцеление по своей твердой вере: «...вера твоя спасла тебя; иди с миром» (Лк. 7:50, 8:48; ср. Мк. 5:34). Открытое завершение рассказа — «Больше не приходил» — прочитывается как скрытая евангельская аллюзия на молитву праведного Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, яко видесте очи мои спасение Твое» (Лк. 2:29-30). Произносимые святым старцем после трехсот лет ожидания обещанной встречи-сретения, эти слова свидетельствуют об исполнении надежды, которая «не постыжает» (Рим. 5:5), указывая на преодоление конечной грани между временем земного бытия и беспредельным пространством вечности.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что отличительной особенностью архитектоники рассказа И. С. Шмелева «Еловые лапы» является сложное взаимодействие категорий времени и вечности. Хронотоп памяти как первооснова бытия становится местом, где восстанавливается единство разорванных, «расщепленных» [Бердяев 1969, 21 ] темпоральных планов прошлого и настоящего. Хронотоп чуда, в котором соединяются временное и вневременное, являет собой момент-грань, когда вечность «вторгается» в течение земного бытия, преображая и освящая его. В хронотопе встречи-сретения, преодолевающем замкнутость земной действительности и простирающемся за пределы видимого мира, время сопрягается с безграничным пространством «всеобъемлющей и вечной жизни» [Франк 1990, 170]. Аллюзии на прецедентные тексты Нового Завета, фор- мирующие «вертикальный» контекст произведения, отсылают к Абсолютной ценности, что сообщает повествованию широту архетипического обобщения. Запечатленные в рассказе нравственные идеалы — «Чудо сердца и — благодарения. Чудо — верности» [Шмелев 2004, 633] — могут стать ориентирами на пути предотвращения деаксиологизации русской культуры.
Список литературы Временное и вечное в рассказе И. С. Шмелева "Еловые лапы": аксиологический аспект
- Бахтин М. М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000. 336 с.
- Бахтин М. М. К философии поступка. М.: Лабиринт, 1996. 176 с.
- Бердяев Н. А. Время и вечность // На переломе. Философские дискуссии 20-х годов: Философия и мировоззрение. М.: Политиздат, 1990. С. 402-410.
- Бердяев Н. А. Смысл истории: опыт философии человеческой судьбы. Париж: YMCA-Press, 1969. 271 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 3. М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1956. 555 с.
- Заботкина В. И., Коннова М. Н. К вопросу об экспликации темпорального опыта в художественном тексте: аксиологический аспект // Новый филологический вестник. 2021. № 3(58). С. 18-32.
- Ильин И. А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1947-1950). М.: Русская книга, 2000. 528 с.
- Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Киев: Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2004. 504 с.
- Мечев Сергий, священномученик. Тайны богослужения. Духовные беседы. Письма из ссылки. М.: Храм святителя Николая в Кленниках, 2001. 383 с.
- Митрополит Вениамин (Федченков). Всемирный светильник. Житие преподобного Серафима, Саровского чудотворца. М.: ДАРЪ, 2011. 464 с.
- Нагина К. А. Метельные пространства русской литературы. Воронеж: Наука-Юнипресс, 2011. 129 с.
- Осипов А. И. Святые как знак исполнения Божия обетования человеку // Русское возрождение. 1995. № 62. С. 9-32.
- Тюпа В. И. Литература и ментальность. М.: Юрайт, 2018. 231 с.
- Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М.: Прогресс, 1993. 324 с.
- Франк С. Л. Сочинения. М.: Правда, 1990. 608 с.
- Фудель С. И. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1. М.: Русский путь, 2001. 648 с.
- Фудель С. И. Воздух Церкви. М.: Православное братство святого апостола Иоанна Богослова, 2009. 64 с.
- Шмелев И. С. Душа Родины: Избранная проза. М.: Паломникъ, 2001. 560 с.
- Шмелев И. С. Роман в письмах: в 2 т. Т. 1. М.: Российская политическая энциклопедия, 2003. 760 с.
- Шмелев И. С. Роман в письмах: в 2 т. Т. 2. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. 856 с.