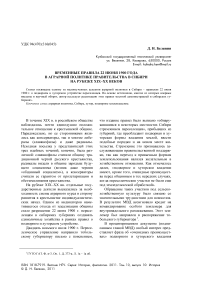Временные правила 22 июня 1900 года в аграрной политике правительства в Сибири на рубеже XIX-XX веков
Автор: Белянин Дмитрий Николаевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 10 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одному из малоизученных аспектов аграрной политики в Сибири - правилам 22 июня 1900 г. о подворном и хуторском устройстве переселенцев. На основе источников, многие из которых впервые введены в научный оборот, автор исследует реализацию этих правил местной администрацией в сибирских губерниях.
Аграрная политика, сибирь, хутор, подворное землевладение
Короткий адрес: https://sciup.org/14737396
IDR: 14737396 | УДК: 94(470):316(045)
Текст научной статьи Временные правила 22 июня 1900 года в аграрной политике правительства в Сибири на рубеже XIX-XX веков
В течение XIX в. в российском обществе наблюдалось почти единодушно положительное отношение к крестьянской общине. Парадоксально, но ее сторонниками являлись как консерваторы, так и многие либералы (славянофилы) и даже радикалы. Исходная посылка у представителей этих трех идейных течений, конечно, была различной: славянофилы считали общину традиционной чертой русского крестьянства, радикалы видели в общине зародыш будущего социализма (возник даже термин «общинный социализм»), а консерваторы считали ее гарантом от пролетаризации и обезземеливания крестьянства.
На рубеже XIX–XX вв. отдельные государственные деятели высказались за необходимость смены аграрного курса в сторону развития в крестьянстве индивидуалистических начал. Одним из индикаторов наметившегося отхода от идеализации общины стало разрешение 22 июня 1900 г. переселенцам в сибирских губерниях создавать единоличные хозяйства в рамках правил о подворном и хуторском устройстве.
Двадцать восьмого июля 1900 г. Переселенческое управление направило тобольскому губернатору письмо с пояснением, что издание правил было вызвано «обнаружившимся в некоторых местностях Сибири стремлением переселенцев», прибывших из губерний, где преобладают подворная и хуторская формы владения землей, ввести подобные порядки и на новом месте жительства. Стремление это признавалось заслуживающим правительственной поддержки, так как переход к привычным формам землепользования являлся желательным в хозяйственном отношении. Как отмечалось далее, «подворное и хуторское владение имеют, кроме того, очевидные преимущества перед общинным в тех нередких случаях, когда переселенческие участки не были еще под земледельческой обработкой».
Обращение таких участков под сельскохозяйственную культуру было связано со значительными трудностями для новоселов. В результате МВД ассигновало кредит на командирование особого землемера для внутринадельного размежевания. Этот землемер был направлен в распоряжение тобольского губернатора 1.
В процитированном документе (подписанным главой МВД) особый интерес представляет фраза об «очевидных преимуществах» подворного и хуторского владения перед общинным. Признание чиновником столь высокого ранга этого факта симптоматично, так как сделано оно, когда в европейской части страны правительство в целом еще держалось политики поддержки общинных начал.
Предполагалось с содержанием правил 22 июня 1900 г. ознакомить крестьянских начальников, которые должны были в случае необходимости содействовать переселенцам в установлении хуторской или подворной формы 2 . В дальнейшем для ознакомления с положением дел по размежеванию в Сибирь был командирован чиновник Переселенческого управления Молодых 3.
В «Выписке» из журнала заседаний Комитета Сибирской железной дороги (КСЖД) от 14 июня 1900 г., кроме того, содержались дополнения к правилам образования переселенческих участков от 13 июня 1893 г. Так, на временные партии по образованию переселенческих участков возлагалась задача обмежевания хуторов. Последние не должны были превышать 45 десятин удобной и 15 годной для выпаса земли. В состав такого хутора также следовало включать лесной надел площадью 9–12 десятин. Предполагалось, что такой хутор будет пригоден для ведения на нем самостоятельного хозяйства «среднего по местным условиям размера». Правда в этом моменте была сделана существенная оговорка: вы-межевание земли под хутор должно было производиться лишь в том случае, когда площадь, пригодная для колонизации, по незначительности не может быть предназначена для водворения переселенцев селениями 4.
Заметим, что правила 22 июня устанавливали существенные преграды и оговорки, препятствовавшие их практическому применению. Например, одобренный 2/3 схода проект размежевания мог быть обжалован в общем присутствии губернского правления. Так проходили четыре месяца, и в текущем году размежевание становилось невозможным. Кроме того, разграничение участков после их заселения влекло за собой лишение отдельных домохозяев разработанных ими полей, что было невыгодно для новоселов и побуждало даже крестьян-подворников обращаться в Сибири к общинному землепользованию [Островский, 1991. С. 56].
В «Выписке из журнала заседаний» КСЖД от 14 июня 1900 г. значилось также, что крестьянский начальник должен проверять каждый представленный ему договор, рассматривать возражения, затем «если признает возможным и целесообразным» делать распоряжение о составлении проекта распределения земель 5. На наш взгляд, подобные преграды и оговорки были результатом уступок общине. Быстрый переход от поддержки общины к поощрению единоличных хозяйств оказался невозможен.
В самом характере правил 22 июня мы наблюдаем также существенное противоречие. С одной стороны, правила по сути своей были призваны содействовать образованию единоличных хозяйств, причем мотивировалось это именно стремлением самих крестьян. С другой стороны, местным чиновникам был оставлен широкий простор для преград развитию в Сибири единоличных хозяйств. Хотя сами правила 22 июня 1900 г. были призваны содействовать развитию подворного и хуторского владения в Сибири, а характер приведенного выше письма свидетельствует о понимании преимуществ единоличных хозяйств перед общинным, тем не менее, была поставлена преграда быстрому и массовому переходу от общинного к единоличному землепользованию.
Противоречивость правил 22 июня была следствием борьбы двух течений внутри правительства. По некоторым данным, к числу сторонников развития в Сибири подворного землевладения среди переселенцев относился А. С. Стишинский, к числу противников – А. Н. Куломзин и И. Л. Горемыкин [Корнеева, 1991. С. 83–84].
Показательно, что следом за признанием преимущества единоличных хозяйств перед общинными, буквально на следующей странице министр просил губернатора сообщить, «насколько практически применимы правила в Тобольской губернии» и возможно ли ограничиться командированием в Тобольскую губернию одного землемера 6 . В ответ губернатор уведомил, что из 400 переселенческих поселков, возникших в гу- бернии за 10 лет, в 233 преобладают общинники. В остальных 177, по этим данным, значительное большинство привыкло пользоваться землей подворно или на хуторах, но и они перешли на общинное землепользование. Исключение составили только 13 поселков, образованных в урманных местах Тарского уезда и в 1 поселке Тюкалин-ского уезда. Вывод губернатора: «нет достаточных оснований предполагать, чтобы общинники перешли к другим формам владения землей, тем более что окружающие новоселов старожилы Тобольской губернии не знали других земельных порядков кроме общинных». Далее губернатор сделал ссылку на «мнение наиболее авторитетных исследователей сибирской общины», которые считали, что этой общине предстоит дальнейшее и весьма своеобразное развитие, которого не может ожидать «застывшая в неподвижных формах великороссийская община». В силу этих обстоятельств тобольский губернатор предположил, что для выполнения возможных работ будет достаточно двух землемеров 7.
Цитированный документ ясно обозначает позицию губернатора по вопросу о создании единоличных хозяйств. Особенно интересна ссылка на мнение «наиболее авторитетных исследователей сибирской общины». Во-первых, не совсем ясно, о каких именно исследователях общины писал губернатор, какие работы были этими исследователями написаны, чем был обоснован вывод в этих работах и вообще неясно, насколько эти исследователи действительно «авторитетны».
Во-вторых, показательно упоминание о великороссийской общине, «застывшей в неподвижных формах», что свидетельствует о признании определенных отрицательных черт в великорусских общинных порядках. Одновременно предпринимается попытка дистанцировать сибирскую общину от всех недостатков великороссийской общины и представить ее как жизнеспособный институт крестьянского землепользования. Также негативно оценил перспективы правил 22 июня 1900 г. старший чиновник по составлению отводных записей в Иркутской губернии [Корнеева, 1991. С. 84].
Заметим, что в разных губерниях и областях Азиатской России реакция местной администрации на издание правил 22 июня
1900 г. была неодинаковой. Так, власти Акмолинской признали, что здесь «необходимо по мере возможности способствовать переселенцам к переходу от общинного к подворному хозяйствованию» [Хасенова, 2002. С. 80]. Ссылаясь на документы Центрального госархива республики Казахстан, Ж. О. Хасенова утверждает, что введение подворного и хуторского устройства в Акмолинской области «было делом вполне возможным» [Там же].
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы, на первый взгляд, подтверждают мнение Тобольского губернатора, что даже выходцы из губерний с преимущественно подворным или хуторским землепользованием переходили к общинному. Так, в рапорте крестьянского начальника 1-го участка Тюкалинского уезда от 25 сентября 1900 г. отмечено, что в четырех поселках с преобладанием выходцев из Черниговской, Полтавской и Бессарабской губерний переселенцы выбор сделали в пользу общинной формы.
Почему же переселенцы, не знавшие на родине переделов, выбирали общинную форму устройства? Заметим, что существование общины не обязательно связано с переделами сельскохозяйственных угодий. В абсолютном большинстве переселенческих общин того же 1-го участка Тюкалин-ского уезда (в 13 из 18 в списке) земельных переделов не было 8. Этот пример не единичен. В 34 переселенческих поселках 7-го крестьянского участка Тюкалинского уезда, где также все переселенцы избрали общинную форму землепользования, передел земельных угодий был произведен только в одном (пос. Батаревичский), в остальных же переделов не было.
В списке по третьему крестьянскому участку Тарского уезда значилось 36 переселенческих поселков, и абсолютно во всех разделов общинных угодий не было вообще 9. По данным крестьянского начальника 6-го участка Тюкалинского уезда, из 26 поселков в 12 разделов не было, еще в трех поселках раздел был произведен на неопределенный срок только в год заселения (отсутствие периодичности переделов ставит под сомнение факт наличия уравнительного передельного аппарата в таких общинах).
Только в семи переселенческих поселках переделы производились ежегодно, еще в четырех переделы носили срочный характер (9–15 лет) 10. Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на наличие общинной формы землепользования, во многих переселенческих поселках отсутствовал пере-дельно-регулирующий аппарат.
Отчасти отсутствие передельного аппарата может объясняться тем, что равенство достигалось в общинах посредством изначально равного наделения всех переселенцев примерно одинаковыми по качеству наделами. Вместе с тем закономерен вопрос: насколько такие беспередельные общины можно считать общинами в традиционном понимании этого слова? Если при наличии земельного простора отсутствие переделов еще может быть объяснимо тем, что в обстановке многоземелья разделы земли не имели никакого смысла [Прудникова, 1977. С. 202], то на заполненных до конца переселенческих участках никакого земельного простора быть не могло. По существовавшим правилам максимальный размер переселенческих долей не должен был превышать 15 десятин на 1 душу мужского пола, а иногда был и менее этой нормы. А именно в таких заполненных переселенческих поселках при формальном наличии общинной формы переделы пашни как явление отсутствовали. Например, в переселенческом поселке Георгиевский из 74 душевых долей заняты все 74, но раздел земли не производился. То же на участках Поварихинский, Ковригинский, Бугринский и пр. 11
Известный историк-аграрник В. Г. Тю-кавкин считал, что беспередельные общины относятся к отдельной категории общин, члены которых находятся на положении подворных владельцев. Такие общины были широко распространены в Европейской России. По его подсчетам, в половине великорусских губерний 2/ 3 общин не производили переделов после отмены крепостного права. Кроме того, 10 % общин не проводили переделы в течение 24 лет [2001. С. 173– 174].
С этим мнением трудно не согласиться. Отсутствие передельного аппарата в общине означало, что каждая переселенческая семья возделывала одни и те же земельные участ- ки из года в год, а это уже фактически было близко к подворному землепользованию. Если признать беспередельные общины фактически подворным владением, то тезис Тобольского губернатора об отсутствии «достаточных оснований предполагать, чтобы общинники перешли к другим формам владения землей» следует признать сомнительным. Обратим внимание и на то, что в случае с переселенческими поселками речь не идет об эволюции от передельной общины к беспередельной. Приведенные в примерах переселенческие общины просуществовали слишком короткий срок для эволюции – всего несколько лет. Поэтому есть основания говорить, что эти общины с самого начала формировались как беспере-дельные.
Показательно, что и некоторые местные чиновники не признавали, что на их участках есть желающие перейти от общин к единоличным хозяйствам. Так, крестьянский начальник 1-го участка Тарского уезда в рапорте губернатору отметил, что в переселенческих поселках вверенного ему участка «не могут быть применимы правила о подворном и хуторском устройстве» 12. А по данным И. В. Островского, даже когда обсуждался вопрос о переселении на казенные земли дворян-землепашцев, местные власти предлагали предоставлять таким дворянам не единоличные, а именно общинные участки [1991. С. 108]. Хотя это предложение в итоге было отвергнуто Переселенческим управлением, но нам важно отметить тенденцию стремления сибирской администрации поддержать исключительно общинные начала.
На практике же выяснилось, что многие крестьяне совсем не возражают против перехода от общины к единоличному пользованию. Например, 27 октября 1901 г. крестьянский начальник 2-го участка Тарского уезда сообщал, что переселенцы пос. Курляндский возбудили ходатайство об установлении подворного порядка, так как на родине жили подворно и «общинный порядок им совершенно неизвестен». Аналогичным образом ходатайствовали о разрешении перейти к подворному устройству переселенцы пос. Юрьевский (Тарский уезд) и пос. Богдановичевский (Тюкалинский уезд) 13.
Интересны резолюции губернатора на эти прошения. По ходатайству переселенцев пос. Юрьевский, было отмечено, что «нарушено несколько пунктов временных правил от 22 июня 1900 г. Поэтому, до исполнения всех требований буквы закона участие в этом деле землемера не требуется». Аналогичный ответ был дан и на ходатайство переселенцев Курляндского поселка 14.
По данным И. А. Асалханова, за первые 3 года действия правил 22 июня 1900 г. поступило 126 ходатайств о размежевании надельных земель, но удовлетворено было лишь 6 [Асалханов, 1975. С. 81]. Эти цифры наглядно показывают противоречивое отношение правительственных структур к созданию единоличных хозяйств в начале XX в. Даже законодательное разрешение создавать единоличные хозяйства наталкивалось на противодействие со стороны местной администрации, твердо державшейся политики покровительства общинного землепользования.
В дальнейшем внутринадельное размежевание возлагалось на особых землемеров, состоявших на службе в Переселенческом управлении, которые работали с 1903 по 1905 г. 15 За этот короткий отрезок времени землемеры размежевали в Западной Сибири всего два участка [Минжуренко, 1982. С. 42].
В такой обстановке у крестьян (как старожилов, так и переселенцев) не было иного выхода, кроме размежевания своими силами. Так, на участке Межевой крестьяне не стали дожидаться помощи от правительства и «разбили себе подворные участки сами, пользуясь для этого веревкой» 16. Разумеется, о землеустроительной ценности такого «размежевания» говорить не приходится, но нам важно отметить именно стремление крестьян к единоличному устройству.
В Томской губернии размежевание началось по инициативе самого населения еще в 1905 г. и стихийно охватило все население губернии. В Тобольской губернии развер-стания на хутора были поведены также по инициативе населения еще в 1898–1902 гг. [Асалханов, 1975. С. 83–84]. Аналогичные данные приводит А. А. Кофод, который от- мечал, что старожилы и переселенцы Томской губернии в конце XIX в. начали кое-где разбивать свои земли на участки единоличного пользования 17.
Таким образом, отношение правительства к созданию в Сибири единоличных хозяйств следует признать противоречивым. С одной стороны были изданы правила о переходе к единоличным хозяйствам, с другой – реализация этих правил на практике тормозилась администрацией. Это было вызвано идеализацией общинных порядков, стремлением определенных правительственных кругов опекать сибирскую общину. Между тем политика патернализма по отношению к сибирской общине шла вразрез с потребностями, по крайней мере, части переселенцев и старожилов в Западной Сибири, которые за несколько лет до столыпинских реформ поднимали вопрос о переходе от общинного землепользования к единоличному.
TEMPORARY RULES ON JUNE, 22nd, 1900 IN THE AGRARIAN POLICY OF THE GOVERNMENT IN SIBERIA ON THE BOUNDARY XIX–XX CENTURIES