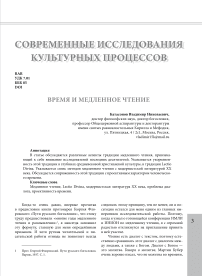Время и медленное чтение
Автор: Катасонов В.Н.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Современные исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 2, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются различные аспекты традиции медленного чтения, привлекающей к себе внимание исследователей последних десятилетий. Указывается укоризненность этой традиции в глубинах средневековой христианской культуры, в традиции Lectio Divina. Указывается связь методов медленного чтения с модернистской литературой XX века. Обсуждается сопряженность этой традиции с проективным характером человеческого времени.
Медленное чтение, Lectio Divina, модернистская литература XX века, проблема диалога, проективность времени
Короткий адрес: https://sciup.org/170210939
IDR: 170210939 | УДК: 7.01
Текст научной статьи Время и медленное чтение
Когда-то очень давно, впервые прочитав в предисловии книги протоиерея Георгия Фло-ровского «Пути русского богословия», что этому труду предшествовали «многие годы медленного чтения и размышления»1, я навсегда запомнил эту формулу, ставшую для меня определённым призывом. И хотя рутина читательской и писательской работы отнюдь не позволяет всегда следовать этому принципу, тем не менее, он и по-сегодня остался для меня одним из главных императивов исследовательской работы. Поэтому, когда я узнал о готовящейся конференции ИМЛИ и ИНИОН по медленному чтению, я с огромной радостью откликнулся на приглашение принять в ней участие.
Чтение есть диалог с текстом, поэтому естественно сравнивать этот диалог с диалогом между людьми, а также с Богом. Диалог с Богом — это молитва. Говоря о молитве, Мартин Бубер очень хорошо писал, что не молитва во времени, а время должно быть в молитве2. Действительно, если мы молимся, оглядываясь на часы, куда-то спешим, то молитвы не получится. И наоборот, когда мы целиком сосредотачиваемся на молитве, отдаёмся ей сполна, то потом выходя из неё, мы смотрим на часы и удивляемся, как много (или мало!) прошло времени. Для молитвы важно «отложить все житейские попечения», как поётся в Херувимской песне, и тогда будет ответ на человеческий призыв к Богу, будет Откровение. Причём, его феноменология такова, что время как бы исчезает.
Вся эта технология молитвы, причём сопряжённая с чтением Священного Писания, была хорошо разработана уже с IV века в традиции так называемого Lectio Divina. Традиция эта восходит к пониманию самого Писания как таинства ещё у Оригена, Писания как определённого воплощения Христа. В дальнейшем она была связана с именами Амвросия Медиоланского, Блаженного Августина, и становится одной из главных духовных практик западного христианства. Святой Бенедикт Нурсийский и папа Григорий I утверждают эту традицию в католических монастырях. Она непрерывно продолжалась в западном христианстве достаточно долго, вплоть до начала XIX века, потом на время прервалась, вытесненная более богословствующим подходом к тексту, а в XX веке опять обрела актуальность (в частности, была рекомендована Вторым Ватиканским Собором). В этой традиции речь идёт о чтении Библии, но библейский текст понимается здесь как живое Слово Божие, не в метафорическом только смысле, а в буквальном. Традиционно Lectio Divina разделено на четыре части: собственно, чтение, медитация о прочитанном, молитва, и четвёртое — созерцание (лат. lectio, meditatio, oratio, and contemplatio). Последнее призвано быть созерцанием Слова Божьего, Христа. Lectio Divina направлено не на богословский 4 контекст прочитанного фрагмента, а на мистическое соединение со Христом.
Идеологи движения за медленное чтение последних десятилетий совершенно не случайно обратились к истории этой древней христианской традиции. И для диалога с человеком, и для диалога с текстом необходима соответствующая изготовка. Для диалога с собеседником нужно аналогично осуществить своеобразное отложение житейских попечений, нужно проявить внимательность к говорящему, нужно преодолеть блокирующую предвзятость всякой проективности, чтобы понять Другого, услышать его, помочь ему высказаться. И тогда, не необходимо, но возможно диалогически встретиться с Другим, пережить Откровение Другого, о чём многообразно и убедительно писали М. Бубер, Э. Левинас3, М. Бахтин и другие.
Модернистская литература XX века (Д. Джойс, В. Вулф, у нас, например, Саша Соколов) нередко использовала приём, когда в тексте устраняют знаки препинания, эффектом чего было повышение уровня концентрации, уровня внимания читателя, за счёт чего сознание читателя как-бы приближалось к сознанию автора. Это не было новым изобретением, этот приём был новой редакцией довольно древней традиции. Известно, что древние тексты Библии, средневековые тексты на греческом, латыни, древнерусском писались без знаков препинания и требовали особой концентрации внимания при чтении. В модернистской литературе это понималось обычно как выражение потока сознания, в котором живёт человек. Но, по моему мнению, самым главным здесь был не просто поток сознания, а приём, позволяющий осуществить определённую конвергенцию сознаний, осуществить интимную встречу с чужим сознанием.
Здесь хочется также вспомнить об объяснённом М.М. Бахтиным приёмом проникновенных диалогов у Достоевского. Бахтин показывает, что в проникновенных диалогах героев писателя выявляется удивительная глубина человеческого слова, понимая под словом всю совокупность знаков, используемых в общении. Проникновенный диалог у Достоевского реализуется во многом в паузах, умолчаниях, интонациях и т.д., что по существу требует, как бы медитации над словом, и опять приближает нас к неспешному общению, и, следовательно, к мед- ленному чтению. И всё это настойчиво напоминает нам о таинстве слова.
Для адекватного понимания читаемого текста необходимо отложить предвзятость, дать ему как-бы пространство высказывания , иметь возможность возврата к предыдущему (на путях реализации герменевтического круга ). Всё это позволяет постепенно добиться Откровения текста, понимания того, что же он действительно хочет сказать, и что не менее важно, ощутить то обстоя-ние, в котором делается это высказывание. Всякая торопливость при чтении, обусловленная некоторой предвзятой целью, проектом, выталкивает нас в сферу информации, голой фактичности, без улавливания корней этого текста. В соответствии с номенклатурой, разработанной в философии постмодернизма (Делёз, Гваттари), мы можем понимать текст или как дерево (известное высказывание Декарта о философии4), у которого есть ствол, корни, ветви, листва, — и понять текст значит здесь пройти от листвы и ветвей этого дерева, по стволу, и добраться до корней; или же понимать текст как ризому, у которой нет какого-то центрального корня, а есть клубень, горизонтальная множественность смыслов, определяющих субстанцию этого текста. В случае торопливости, или культивирования так называемого быстрого чтения не удаётся добраться ни до корней этого текста, ни тем более до понимания его ризомы.
И здесь всегда важно наше отношение со временем. Или мы рабствуем времени, например, смотрим на часы при молитве, или читаем, преследуя какую-то цель, — скорее познакомиться с этим автором, с этим произведением, для того чтобы участвовать в дискуссии, или написать заказанную об этом тексте статью, и т.д., — или же, мы «выключаем время», «хотим разобраться», независимо от нашей установки, целиком превращаемся во внимание, как говорят «я весь внимание».
Всё это определяется нашим отношением ко времени, а само это отношение зависит от нашего проекта. Время всегда проективно, всегда определяется некоторым намерением, более или менее осознанным. Чем менее осознан проект, тем меньше он «занимает» времени, инстинктивные движения почти мгновенны. Наш проект может нам предписывать:
– или нужно сейчас скорее решить поставленную задачу;
– или у нас есть два дня, неделя, месяц для разрешения этой задачи;
– или, например, я нахожусь в отпуске, я отключил телефон, я нахожусь в ситуации «блаженной беззаботности», и могу спокойно «разобраться», и постараться найти решение.
Господствующее видение в направлении проекта, желание скорой его реализации заключает нас в клетку времени, и отгораживает от реальности. Религиозно говоря, проект — это воля моя, а отказ от проекта — это «да будет воля Твоя!». При аутентичном исполнении последнего происходит открывание полноты реальности, происходит Откровение. Не случайно, в традиции Lectio Divina была определённая ступень, называвшаяся contemplatio, созерцание, которое понималось как видение, даваемое Святым Духом.
При быстром чтении мы рабствуем времени, заключаем себя в туннель нашей целеустремлённости, отгораживаем себя от полноты реальности текста; как при быстром движении боковые предметы сливаются, и в них важна только как бы горизонтальная составляющая, та которая направлена к нашей цели.
Ускоряющийся темп цивилизации приводит к разбалансировке многих механизмов человеческой жизни. Мы переживаем несварение не только от материальной пищи, но и от духовной. Водопад обрушивающейся на нас информации делает всё интересным, но ничто не важным. Похоть скорочтения не удовлетворяет понимания, и порождает обратную тенденцию: стремление к медленному чтению. Устав от обессмысливающей жизненной гонки, человек стремится заново обрести смысл своего существования на путях возврата к традиционной скорости онтологического метаболизма: в еде, в движении, в диалоге, в молитве, в чтении.
TIME AND SLOW READING
Katasonov Vladimir Nikolaevich,
Pyatnitskaya str., 4/2с1, Moscow, Russia,