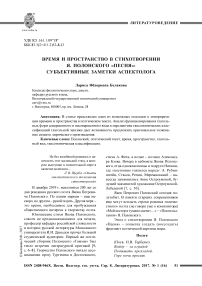Время и пространство в стихотворении Я. Полонского "Песня": субъективные заметки аспектолога
Бесплатный доступ
В статье представлен один из возможных подходов к интерпретации времени и пространства в поэтическом тексте. Анализ функционирования глагольных форм совершенного и несовершенного вида в перспективе таксономических классификаций глагольной лексики дает возможность предложить оригинальное толкование сюжета лирического произведения.
Полонский, поэтический текст, время, пространство, глагольный вид, таксономическая классификация
Короткий адрес: https://sciup.org/149130510
IDR: 149130510 | УДК: 821.161.1.09”18”
Текст научной статьи Время и пространство в стихотворении Я. Полонского "Песня": субъективные заметки аспектолога
Не без колебаний решаюсь я напечатать этот маленький этюд, в котором выступаю в значительной мере в качестве дилетанта…
Л. В. Щерба. «Опыты лингвистического толкования стихотворений»
В декабре 2019 г. исполнится 200 лет со дня рождения русского поэта Якова Петровича Полонского. По одним меркам – еще нескоро, по другим – рукой подать. Другая мера – это время, необходимое для пробуждения общественного интереса к творчеству поэта.
Юношеские стихи Якова Полонского, совсем не предназначавшиеся для печати, профессор кафедры российской словесности и истории русской литературы Московского университета И.И. Давыдов прочел большой студенческой аудитории. Первый же поэтический сборник Полонского «Гаммы» был тепло встречен литературной критикой [9, с. 6–8]. Творчество Полонского питало ассоциациями прозу Тургенева и Достоевского, стихи А. Фета, а позже – поэзию Александра Блока. Вечера в кабинете Якова Полонского, отца одноклассницы и подруги Наташи, где «постоянно толпился народ»: А. Рубинштейн, Стасов, Репин, Мережковский – навсегда запомнились Анне Остроумовой, будущей знаменитой художнице Остроумовой-Лебедевой [7, с. 50].
Яков Петрович Полонский сегодня полузабыт. В памяти старших современников еще могут всплыть строки романса «неизвестного» поэта (не говоря уже о композиторе) «Мой костер в тумане светит…» – «Песни цыганки» Я. Полонского.
Этюд о стихотворении Я. Полонского «Песня» – попытка создать (воссоздать) фрагмент поэтической картины мира.
Песня
(Посв. Н.В. Гербелю)
Выйду – за оградой Подышать прохладой.
Горе ночи просит,
Горе сны уносит…
Только сердце бредит:
Будто милый едет, Едет с позвонками По степи широкой… Где ты, друг мой милый, Друг ты мой далекий?
Ночь свежее дышит –
Вербою колышет,
Дрожью пробирает, Соловей рыдает.
Высыхайте, слезы!
Улетайте, грезы!
Дальний звон пронесся
За рекой широкой…
Где ты, друг мой милый,
Друг ты мой далекий?
Зорька выплывает –
Заревом играет.
Я через куртину
Проберусь в долину.
Я лицо умою
Водой ключевою…
Вон и домик виден
На горе высокой…
Где ты, друг мой милый,
Друг ты мой далекий?
<1859> [10, с. 131–132].
Время и пространство в стихотворении – это время и пространство поэтического действа. Особенности восприятия времени и пространства лирическим героем произведения эксплицируются в грамматической и лексической семантике.
Обращение к языковой интерпретации времени предполагает включение в рассмотрение и форм глагольного вида, как «внутреннего» времени действия, и шире – предикатов. В этой связи одним из инструментов анализа являются таксономические классификации глагольной лексики, прежде всего те, что учитывают «языковую данность: наличие в русском языке парных по виду глаголов и разрядов imperfectiva и perfectiva tantum» [1, с. 4]. В подходе к интерпретации грамматической семантики учитываются, несомненно, и те классификации, что «проявляют» универсальные семантические компоненты в содержании видового противопоставления в русском языке. Таким образом, эксплицитно или имплицитно автор опирается на таксономию гла- гольной лексики Ю.С. Маслова [5], на классификации З. Вендлера-Х. Мелига [6] и Т.В. Булыгиной [8]. Анализ функционирования форм глагольного вида в рамках целостного художественного текста ранее осуществлялся автором статьи на материале художественной прозы [2, 3].
В самом названии стихотворения время представлено как процесс, как время самовыражения, излияния страдающей души: переход от скорби к надежде, скорее всего, иллюзорной.
Реальное или мысленное «действо» охватывает поздний вечер, ночь, раннее утро. Оно разворачивается по горизонтали – в близком пространстве ( за оградой ) и в пространстве, расширяемом от реального, воспринимаемого зрением ( вербою колышет ), осязанием ( дрожью пробирает – дуновение ветра, прилетевшего откуда-то, может быть, издалека), слухом ( соловей рыдает ), до воображаемого, моделируемого звуком колокольчика, широкой степью, широкой рекой.
Постепенно осуществляется переход к восприятию пространства по вертикали: к зорьке и зареву как парафразу разгорающихся чувств, – и к реальным или воображаемым действиям: преодолению препятствия – куртины, выходу в широкое пространство – долину , столкновению со следующим, может быть, непреодолимым препятствием – высокой горой , на которой стоит домик . Домик воспринимается как материализация желания замкнутого, согретого любовью пространства, домашнего очага. Но рефрен говорит об иллюзорности этих мечтаний: друг ты мой любимый, друг ты мой далекий, далекий физически и душевно.
Действия лирической героини (лирического героя), обозначаемые глаголами, которые относятся к ‘осуществлениям’ (по классификации Т.В. Булыгиной) или ‘исполнениям’ (по классификации Вендлера-Мелига), то есть в совершенном виде (СВ) – к успешному завершению длящегося процесса, моделируются только глагольными формами будущего СВ в конкретно-фактическом значении: выйду подышать, проберусь, умою (о единичной глагольной форме прошедшего СВ будет сказано ниже). Более того, в семантике глаголь- ной формы «выйду (за ограду)», на наш взгляд, присутствует компонент намерения, побуждения к действию, – своеобразного «автоимператива», свойственного и народной песне («Пойду ли, выйду ль я да <…>», «И я выйду на крылечко, на крылечко погулять <…>», «Выйду на улицу, гляну на село <…>» и аналогичные примеры). Это неразвернутая программа воображаемых действий, самовнушение, попытка избавиться от эмоционального напряжения. Делимитативный способ действия глагола подышать объективно мог бы ограничить время созерцания и размышления героини, но в пространстве стиха, где реальность почти неотличима от грезы, вечер переходит в ночь, а ночь – в утро.
Большинство предикатов, описывающих состояние героини и восприятие ею всего окружающего, принадлежит к ‘бесперспективным деятельностям’ (по Ю.С. Маслову): бредить, ехать, дышать (о ночи), колыхать, рыдать, кроме просить (о г о ре) , где в видовой паре ‘деятельность’ соотносится с ‘достижением’. Этот ряд можно и увеличить за счет глаголов, не представленных в тексте, но соотносимых с существительными : плакать (слезы), грезить (грезы). И только два предиката, выраженные предельными глаголами в конкретнопроцессном значении несовершенного вида (НСВ), предполагают однозначное завершение действия (в будущем).
Но какова же лексическая семантика этих глаголов? «Горе сны уносит» и унесет, уже унесло в поэтическом контексте: лирической героине не спится. Так долго не спится, что «зорька выплывает » и выплывет, и утро неизбежно перейдет в день, а ничего не изменится. А колокольчик надежды – позвонок – то ли был, то ли не был. Единственная форма прошедшего СВ во всем стихотворении: «(звон) пронесся ». Семантику глагольной формы можно определить как диффузную: карета (повозка) может проноситься мимо и пронестись, то есть соотносятся ‘процесс’ и
‘результат’, но исчезновение звука, скорее, мгновенно, поэтому глагольную семантику в этом случае можно отнести к ‘свершениям’ (Т.В. Булыгина), ‘достижениям’ (Х.Р. Мелиг).
Автообращение (почти заклинание) в НСВ: высыхайте (слезы), улетайте (грезы) – это только побуждение, а реальность прежняя, статичная: друга нет, даже если и домик «виден».
Перекличка омографов «г о ре» и «на гор е » в начале и в конце стихотворения «ограничивает» пространственно-временной континуум и вкупе с возможным представлением домика и как креста над могилой на горе, может быть, «отменяет» время. Вечное небытие – это уже панхронизм, или ахронизм.
Способы освоения пространства лирической героиней – реальный (чувственный) и воображаемый, мысленный: проберусь . Пространство от дома реального до дома желанного или оплакиваемого можно представить таблично-графически (табл. 1).
Заметим, что в поэзии Я. Полонского ключ, родник сравнивается с сердцем, выступает метафорой сердца, и «умыться водой ключевою» может быть попыткой вылечить сердечную боль живой водой (или мертвой, кто знает).
Семантическая окраска стихотворения усугубляет трагизм: ночь, грусть, путь, разлука, горе (смерть?). Трехстопный хорей в поэтической традиции обычно связан с песней, по Гаспарову [4]. В «Песне» Я. Полонского – рифмы только с женскими окончаниями, открывающимися в бесконечность. Увеличение количества стоп в строфах с обращением «милый друг» замедляет течение стиха.
Трагические события в жизни Полонского произойдут позже (в следующем, 1860 году умрут маленький сын и двадцатилетняя горячо любимая жена), поэтому невольно обращаешься к известной мысли о поэте как пророке и провидце собственной судьбы.
Таблица 1
Реальное видимое Реальное невидимое Воображаемое
[дом] —> ограда степь —> река —> куртина —> долина (ключ) —> гора —> домик
Список литературы Время и пространство в стихотворении Я. Полонского "Песня": субъективные заметки аспектолога
- Белякова, Л. Ф. Материалы для аспектологического словаря: Учебный языковой словарь / Л. Ф. Белякова. - Волгоград: ВолгГТУ, 2003. - 76 с.
- Белякова, Л. Ф. Об одной разновидности употребления формы прошедшего совершенного в аористическом оттенке значения / Л. Ф. Белякова // Развитие и функционирование русского глагола. Волгоград: ВГПИ, 1981. - С. 120-125.
- Белякова, Л. Ф. Функции форм прошедшего совершенного в целостном художественном тексте / Л. Ф. Белякова // Изучение и преподавание русского языка: Юбилейный сборник. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. - С. 280-293.
- Гаспаров, М. Л. Метр и смысл. Об одном механизме культурногй памяти / М. Л. Гаспаров. - М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. - 289 с.
- Маслов, Ю. С. Вид и лексическое значение глагола в современном русском языке / Ю. С. Маслов // Очерки по аспектологии. - Л., 1984. - С. 48-65.
- Мелиг, Х. Р. Семантика предложения и семантика вида в русском языке / Х. Р. Мелиг // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. Современная зарубежная русистика. - М.: Прогресс. - С. 227-249.
- Остроумова-Лебедева, А. П. Автобиографические записки: в 2-х т. / А. П. Остроумова-Лебедева. - М.: Искусство, 1974. - Т. 1. - 630 с.
- Семантические типы предикатов. - М.: Наука, 1982. - 365 с.
- Полонский, Я. П. Лирика; Проза / сост., вступ. ст. и ком. В. Г. Фридлянд. - М.: Правда, 1984. - 608 с.
- Полонский, Я. П. Сочинения в двух томах. Т. 1. Стихотворения и поэмы. - М.: Худ. лит., 1986. - 492 с.