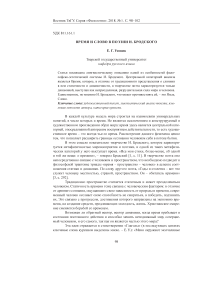Время и слово в поэзии И. Бродского
Автор: Усовик Елена Григорьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена лингвистическому описанию одной из особенностей философско-эстетической системы И. Бродского. Центральной категорией анализа является Время, которое, в отличие от традиционного представления о слиянии в нем статичности и динамичности, в творчестве поэта характеризуется только динамикой, выступая как непреодолимая, разрушительная сила мира и человека. Единственное, по мнению И. Бродского, что может противостоять ей, – это Язык, Слово.
Художественный текст, лингвистический анализ текста, языковая личность автора, категория времени
Короткий адрес: https://sciup.org/146278411
IDR: 146278411 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Время и слово в поэзии И. Бродского
В каждой культуре модель мира строится на взаимосвязи универсальных понятий, в числе которых и время. Не является исключением и конструируемый в художественном произведении образ мира: время здесь является центральной категорией, опосредованной авторским восприятием действительности, то есть художественное время – это всегда чье-то время. Рассмотрение данного феномена ценно тем, что позволяет расширить границы осознания человеком себя в потоке бытия.
В этом смысле показательно творчество И. Бродского, которое характеризуется метафизичностью мировосприятия и поэтики, и одной из таких метафизических категорий у него выступает время. «Все мои стихи, более-менее, об одной и той же вещи: о времени», – говорил Бродский [1, c. 11]. В творчестве поэта оно непосредственно связано с человеком и пространством, что необходимо подводит к философской трактовке триады «время – пространство – человек» в аспекте соотношения статики и динамики. По слову другого поэта, «Годы и столетия – вот что служит человеку местностью, страной, пространством. Он – обитатель времени» [3, с. 292].
Традиционно пространство считается статичным и может преодолеваться человеком. Статичность времени тоже связана с человеческим фактором: в отличие от древнего сознания, ощущавшего свою зависимость от природы и времени, современный человек осознает свою способность не смириться, а победить, подчинить их. Это связано с прогрессом, достижения которого направлены на экономию времени, на создание средств, продлевающих молодость, жизнь. Христианское смирение сменяется борьбой со временем.
Возможен ли обратный вектор, вектор динамики, когда время пребывает в состоянии постоянного действия и способно менять неподвижный мир, созерцаемый человеком, и его самого, так как он является частью этого мира?
Эта идея отражается в стихотворении «Глаголы» (в последующих цитатах ключевые слова курсивом выделены мною. – Е. У.): «Меня окружают молчаливые глаголы, // похожие на чужие головы / глаголы, // голодные глаголы, голые глаголы, // главные глаголы, глухие глаголы» [1, с. 68].
В заглавии «Глаголы» просматривается и динамичность, и статичность: несмотря на взаимную противоположность, они неразрывно связаны, что задает неоднозначность смысла заглавия, о чем свидетельствует уже обычная словарная характеристика. Согласно грамматическим пометам, глагол – это существительное, а следовательно, характеризуется объектностью и статичностью. Семантическое же толкование данной лексемы свидетельствует о динамической природе, ср.: 1) в грамматике: часть речи, обозначающая действие или состояние и изменяющаяся по временам, числам, лицам и родам; 2) речь, слово [2, с. 131].
Словарная дефиниция, безусловно, подчеркивает динамическую природу, так как речь – это коммуникативное действие, а слово тоже созидательно: именно Словом был сотворен мир.
С другой стороны, глаголами у Бродского именуются люди, что следует из приписываемых им характеристик: голые, глухие, голодные , – а звуковой повтор г, л, о соотносится с лексемами глаголы и голова . В тексте есть и прямое сравнение глаголов с головами: «похожие на чужие головы глаголы». Сам же человек является «вещью», которой управляют высшие силы, но он способен эту «вещность» преодолевать, так как может мыслить, говорить, действовать, создавать вещи, подобно Творцу.
Если подавить в человеке одно из этих свойств, его существование станет бессмысленным: либо он останется личностью, у которой «связаны руки», либо будет действовать, но это будут действия машины. Первый тип эксплицирован в стихотворении через местоимение меня . «Я» – личность, которая видит отрицательную суть происходящего, но не может ничего изменить. Людей второго типа большинство, и это: «Глаголы без существительных, глаголы – просто. // Глаголы, которые живут в подвалах, // говорят – в подвалах, / рождаются – в подвалах // под несколькими этажами // всеобщего оптимизма [1, с. 68]. Налицо анжамбеман, который графически и интонационно подчеркивает угнетенность людей, живущих в замкнутом пространстве, на дне, и не подозревающих об этом.
Метафора «глаголы без существительных» указывает на отсутствие личностных, индивидуальных качеств, поскольку одним из важнейших принципов советского времени считалась одинаковость.
Собственно глагольные формы в стихотворении «Глаголы» – все, за исключением станет, не придет и не снимет , – несовершенного вида настоящего времени; время и вид здесь фиксируют регулярность, повторяемость одних и тех же действий в течение всей жизни, что подчеркивает синтагма каждое утро , которая отражает цикличность времени. Создается впечатление, что это мир зомбированных существ, которые запрограммированы на одни и те же действия и которым не нужен смысл того, что они делают и создают.
В четвертой строфе картина времени меняется: появляются прошлое и будущее, правда, в неявной форме. С первым связан мотив памяти, в которую уходят глаголы, а со вторым – синтагма однажды восходят : ею задается будущий момент, когда произойдет восхождение. Сложность этой модели времени в том, что движение осуществляется одновременно в направлении и прошлого, и будущего:
И уходя, как уходят в чужую память, мерно ступая от слова к слову, всеми своими тремя временами глаголы однажды восходят на Голгофу» [Там же].
Появление библейской горы Голгофы, на которой был распят Иисус, имеет особое значение. Это момент будущего, когда наступит смерть, прекратится ход земного времени: «…некто стучит, забивая гвозди / в прошедшее, / в настоящее, / в будущее / время» [Там же].
Мотив забивания гвоздей символизирует переход в Вечность, возврата из которой нет. На этом сходство с библейским сюжетом заканчивается, так как в следующей строфе читаем: «Никто не придет, и никто не снимет». Смысл страданий Иисуса на кресте – в спасении людей от грехов. Он воскрес, потому что его жизнь на земле была связана с глаголом-словом, которое он проповедовал. В этом стихотворении люди в образе глаголов утратили вместе со способностью мыслить и способность «глаголить», поэтому итогом их жизни становится небытие.
Важная особенность анализируемого стихотворения, характерная для всего творчества Бродского, – опредмечивание или одухотворение лингвистических терминов, которое подчеркивает тождество человека и языка; в этой взаимосвязи – залог жизни: «…здесь и скончаю я дни, теряя / волосы, зубы, глаголы , суффиксы …» [Там же, с. 278]. Потеря глаголов и суффиксов для поэта равнозначна приближению к смерти.
Отдельный случай употребления слова глагол – отсылки к пушкинскому и лермонтовскому «Пророкам» в стихотворении «Разговор с небожителем», написанном через десять лет после «Глаголов». Речь трактуется как «божественный дар», который дается не любому человеку, а лишь поэту, но дар этот «горестный» и бессмысленный: «…уже ни в ком / не видя места, коего глаголом / коснуться мог бы… <…> …тебе твой дар / я возвращаю – не зарыл, не пропил… <…> душа <…> всего лишь слепок с горестного дара …» [Там же, с. 219].
Мотив утраты глагола здесь связан не с насильственным оболваниванием людей, как в «Глаголах», и не с приходом старости, как в стихотворении «1972», а совсем с иными причинами. Поэт по своему положению выше не только всех остальных людей, но выше и самого себя как «просто человека»: «Здесь, на земле… <…> благодаря / тебе, я на себя взираю свыше…» [Там же]. Эта способность приходит вместе с даром слова и позволяет глубже уловить суть явлений, вещей, событий. Как промежуточное звено между Небом и «низшим», обыденным миром, поэт видит многое, например, что «человек есть испытатель боли» или что «вера есть не более чем почта в один конец».
Однако возможность видеть суть явлений позволяет также видеть и угрожающий смысл тех из них, которые связаны с непреодолимостью смерти и времени. Значит, этот дар не имеет никакой ценности. С помощью глагола поэт строит «башню слов», которая, подобно вавилонской, позволяет не только остаться навсегда в памяти, но и достичь запредельных высот. Тем не менее он понимает, что она будет «все время недостроенной»: «И в этой башне, / в правнучке вавилонской, в башне слов, / все время недостоверной, ты кров / найти не дашь мне!» [Там же, с. 221].
Разум и мысль, полученные поэтом вместе с даром слова от Бога, имеют некий заложенный изначально предел, преступить который невозможно. Создав людей «по своему образу и подобию», Всевышний одновременно и отдаляет их от себя: человек «подобен», а не «равен» Богу. Разница между ними в том, что люди смертны и подвержены разрушительному влиянию Времени, как и вещи, ими созданные: «…созданное прочно… <…> …добыча времени: теряя / (пусть навсегда) // что-либо, ты / не смей кричать о преданной надежде: / то Времени, невидимые прежде, / в вещах черты / вдруг проступают, и тесниться грудь / от старческих морщин…» [Там же, с. 222].
Знание и способность видеть то, что дано видеть немногим, освобождает лирического героя от иллюзии, будто страдание в жизни ведет к вечному слиянию с Богом: «О, нет, не помощь / зову твою, означенная высь! / Тех нет объятий, чтоб не разошлись, / как стрелки в полночь . / Не жгу свечи , / когда, разжав железные объ-ятmя, / будильники , завернутые в платья, / гремят в ночи !» [Там же, с. 221].
Собственно Время здесь – как часовой механизм, который движет стрел-ки-людей к небытию. «Железные объятья» будильников – тщетная попытка продлить момент, когда время «сходит на нет», обнуляется, когда прошлый день еще не завершился, а будущий еще не начался. Именно поэтому здесь появляется лексема полночь – символ нуля. Тем не менее «будильник» времени все равно прогремит, а значит, нет смысла, по мнению Бродского, пытаться победить подступающую ночь небытия свечой веры.
Время-циферблат – сквозной мотив поэзии Бродского, но здесь оно имеет еще одну важную особенность – длину, делающую его схожим с туннелем: «Ты за утрату / горазд все это отомщеньем счесть, / моим приспособленьем к циферблату , / борьбой, слияньем с Временем… <…> …затем что чудится за каждым диском / в стене – туннель » [Там же, с. 222].
Время жизни каждого из нас одновременно и циклично, как циферблат, на котором отражается повторение минут, дней, времен года, и линейно, как туннель, в конце которого – смерть. Таким образом, жизнь человека – это движение по спирали, а не по замкнутому кругу или прямой линии. Время – страшный и неумолимый судья, разрушительному влиянию которого никто и ничто не может противостоять, разве что Слово. Мир и человек всего лишь песчинки во всепоглощающем потоке секунд, минут, лет, столетий.
Tver State University
Список литературы Время и слово в поэзии И. Бродского
- Бродский И. Форма времени: стихотворения, эссе, пьесы: В 2 т. Т. 1. Минск: Эридан, 1992. 480с.
- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1998. 942 с.
- Пастернак Б. Л. Об искусстве. М.: Искусство, 1990. 400 с.