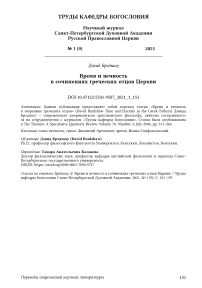Время и вечность в сочинениях греческих отцов церкви
Автор: Брэдшоу Дэвид
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Переводы современной научной литературы
Статья в выпуске: 1 (9), 2021 года.
Бесплатный доступ
Данная публикация представляет собой перевод статьи «Время и вечность в творениях греческих отцов» (David Bradshaw Time and Eternity in the Greek Fathers) Дэвида Брэдшоу - современного американского христианского философа, любезно согласившегося на сотрудничество с журналом «Труды кафедры богословия». Статья была опубликована в The Thomist: A Speculative Quarterly Review, Volume 70, Number 3, July 2006, pp. 311-366.
Вечность, сщмч. дионисий ареопагит, время, иоанн скифопольский
Короткий адрес: https://sciup.org/140294875
IDR: 140294875 | DOI: 10.47132/2541-9587_2021_1_151
Текст научной статьи Время и вечность в сочинениях греческих отцов церкви
About the author: David Bradshaw
Ph.D. (Philosophy), Professor, Philosophy Department, University of Kentucky, Lexington, Kentucky.
Translator: Tamara Kazakova
Doctor of Philology, Professor, Department of English Philology and Translation of St. Petersburg State University.
Article link: Bradshaw D. Time and Eternity in the Greek Fathers. Proceedings of the Department of ^eology of the Saint Petersburg ^eological Academy, 2021, no. 1 (9), pp. 151–197.
К числу самых известных выражений средневековой философии принадлежит определение вечности, данное Боэцием: «Вечность есть совершенное обладание безграничной жизнью в целом и одновременно»1. Как хорошо известно, это определение, по-видимому, восходит к Плотину, который определяет вечность (αἰών) как «всецелую жизнь, относящуюся к сущему в бытии, наполненную и непрерывную в своей вездесущности»2. Плотиновское определение, в свою очередь, явилось квинтэссенцией подхода, разделяемого платониками античности, в котором тонко сочеталась концепция вечности в «Тимее» с концепцией Аристотеля в «Метафизике» (книга A) и «О небе»3. В этом свете определение Боэция представляется плодом богатой и глубоко укоренившейся традиции.
В трактовке вечности у Боэция удивительно не само определение, а то, как оно применяется к Богу. Боэций предваряет свое определение высказыванием: «Согласно общему суждению всех, кто обладает разумом, Бог вечен. Поэтому давайте рассмотрим, что такое вечность; это прояснит для нас как божественную природу, так и божественное знание». Для Боэция вечность — это свойство божественной природы; можно даже сказать, что вечность — это и есть божественная природа4. Как он объясняет в своих богословских трактатах, в Боге нет различия между сущностью и атрибутом, так что для Бога быть справедливым, благим или великим — то же самое, что просто быть Богом5. Хотя в этих суждениях Боэций не упоминает вечность, не может быть ни малейшего сомнения в том, что, по его мнению, для Бога быть вечным и быть Богом — это одно и то же.
Статус вечности в системе взглядов Плотина резко отличается от подхода Боэция. Для Плотина вечность — это свойство второй ипостаси, Ума, и как таковая целиком производна от Единого. Как он далее поясняет в трактате, содержащем это определение, бытие, которое вечно, «окружает Единое, исходит от него и направлено к нему», так что вечность — это «жизненный процесс, обращенный к Единому и сущий в Едином»6. Поскольку вечность возникает только на уровне второй ипостаси в процессе эманации от Единого,
Единое столь же вечно, сколь и временно. Как утверждает Плотин в другом месте, Единое «было тем, чем оно было еще до того, как существовала веч-ность»7. И вечность, и время «содержатся» в Едином как в своем источнике, но именно потому, что оно является их источником, оно превосходит их обоих8. Развивая точку зрения Плотина, Боэций приравнял Бога к Уму. Единое как первый принцип Ума — первый принцип, к которому можно подойти только апофатически, некогнитивным способом познания — просто исчезло из рассмотрения.
Боэций оказался не первым западным богословом, принявшим это радикальное упрощение неоплатонизма. Похожую тенденцию приравнивать Бога к Уму, сопровождаемую отрицанием апофатизма, можно найти у блж. Авгу-стина9. Для блж. Августина Бог также является абсолютно простой сущностью, тождественной собственным атрибутам. Именно так он пишет в сочинении «О Троице»:
«Бог велик не тем, что сопричастен величию, но Он велик, будучи великим, потому что Он Сам есть Его собственное величие. То же самое может быть сказано о доброте, вечности и всемогуществе Бога, в общем, обо всех атрибутах, которые могут быть отнесены к Богу в том смысле, в котором о Нем говорится по отношению к Нему Самому, а не метафорически или по аналогии»10.
Позднее блж. Августин расширил это отождествление, включив в него само бытие ( esse ) и сущность ( essentia ) Бога. То, что мы обычно именуем различными божественными атрибутами, на самом деле суть разные имена единственной вечной силы, каковой является Бог. Хотя блж. Августин развивает этот тезис главным образом в отношении мудрости, он также применим и к вечности:
«Для Бога быть [ esse ] — то же самое, что быть мудрым. Как быть мудрым присуще мудрости, быть могущим — могуществу, быть вечным — вечности, справедливым — справедливости и великим — величию, так и быть сущим — сущности. А поскольку для божественной простоты быть мудрым — то же, что просто быть, то мудрость есть то же самое, что и сущность»11.
С таким же успехом можно сказать, что «вечность есть то же самое, что и сущность». Блж. Августин приходит к такому же выводу в своих проповедях на псалмы, где прямо заявляет, что «вечность есть сама сущность
Бога»12. Нет сомнения, что Боэций свое понимание божественной простоты почерпнул от блж. Августина, как и всю концепцию, в которой Бог трактуется в терминах Ума, по Плотину13.
Преобладающее влияние блж. Августина и Боэция на формирование западной богословской традиции не нуждается здесь в доказательствах. Что касается вечности, то, в частности, определение Боэция наряду с общими концепциями блж. Августина и Боэция, в которые оно было помещено, стало частью общего наследия западной схоластики. Ансельм Кентерберийский, Петр Ломбардский, Альберт Великий, Бонавентура и Фома Аквинский относятся к числу тех, кто принимает как доктрину божественной простоты, так и, как ее следствие, отождествление Бога с его собственной вечностью14.
Таким образом, в христианской мысли, по крайней мере, в конце XIII в., казалось бы, существует впечатляющий консенсус по этому вопросу. Но существует ли? Важный факт, о котором недостаточно часто говорят, заключается в том, что на христианском Востоке ни блж. Августин, ни Боэций не имели сколько-нибудь заметного влияния15. Соответственно, можно было ожидать здесь несколько иной подход ко времени и вечности. Насколько иным он мог оказаться, становится очевидным при рассмотрении труда «О божественных именах» сщмч. Дионисия Ареопагита16. Трактат «О Божественных именах» имеет особое значение, поскольку из всех трудов, что мы будем обсуждать, это один из немногих доступных в латинском переводе в Средние века. Следовательно, с этого уместно начать рассмотрение взаимосвязи между западной традицией и неавгустиновским богословием Востока. Начав со сщмч. Дионисия, я обращусь к другим греческим отцам Церкви, как до, так и после него. В конечном счете, я надеюсь показать, во-первых, что восточная традиция содержит радикально отличный от западной взгляд на время и вечность; во-вторых, что существуют весомые причины рекомендовать восточную точку зрения.
-
I. Сщмч. Дионисий против Запада
Перейти к сщмч. Дионисию от блж. Августина и Боэция — значит войти в иную атмосферу мысли. Различия проявляются, главным образом, в разной интерпретации неоплатонизма. Сщмч. Дионисий исходит из того, что Бог есть одновременно «сущность сущих» (τῶν ὄντων οὐσία) и «превыше всякой сущности» (πάσης οὐσίας ἐπέκεινα)17. Другими словами, Бог подлежит описанию как в терминах, относящихся к Уму, так и в терминах, относящихся к Единому. Это указывает не на двойственность ипостасей, но только на то, что Бог, будучи творцом, составляет совершенства творений и в то же время находится за пределами этих совершенств, будучи их источником. Бог — это не только Сущее (τὸ ὄν), но и трансцендентное Сущее (τὸ ὑπερούσιον); не только Благо, но и трансцендентное Благо (τὸ ὑπεράγαθον); не только Премудрость, но и трансцендентная Премудрость (τὸ ὑπέρσοφον); и так далее. Последний член каждой пары утверждает «отрицание в смысле превосходства» (2.3.640B). Что касается первого члена, сщмч. Дионисий по-разному именует совершенства, которыми наделены Бог и Его творения: как божественные воссияния (ἐλλάμψεις), исхождения (προόδους), проявления (ἐκφάνσεις), силы (δυνάμεις), и промышления (προνοίας)18. Толкование этих терминов вызывает много споров. Здесь же я просто выскажу свою точку зрения, что их, с одной стороны, не следует воспринимать как относящиеся к творениям или тварным эффектам, с другой стороны, не стоит относить к «эманациям», если под этим подразумевается нечто, существующее вне Бога. Они суть Бог, как Он явлен в Своем дей-ствии19. Примечательно, что даже то, что Бог прост, для сщмч. Дионисия означает утверждение не о божественной природе, а о том, как Бог является в своих деяниях: называть Его монадой или генадой означает, что «простотой и единством Своей сверхъестественной неделимости» он придает единство всем вещам (1.4.589D; ср. 13.2–3).
Конечно, деятельность Бога имеет место в рамках и среди творений. Следовательно, предлагаемое мной понимание божественных исхождений подразумевает, что они преломляются, так сказать, через тварный порядок. Это представление важно, если обратиться к учению сщмч. Дионисия о времени и вечности. Сщмч. Дионисий кажется несколько двойственным в отношении того, являются ли время и вечность творениями или божественными исхождениями. С одной стороны, Бог «превосходит время, вечность и все сущее во времени и вечности» (5.10.825B); с другой стороны, «Он есть время и вечность всего» (10.2.937B).20 Сказать, что Бог есть x и что Бог превосходит x, — это именно то, как сщмч. Дионисий обычно говорит о божественных исхождениях. Тем не менее, он на самом деле никогда не перечисляет время или вечность среди исхождений, и в конце процитированного фрагмента он, по-видимому, рассматривает их как творения, или, точнее, как формы существования творений. Он пишет:
«Писание не называет вечным [αἰώνια] [только] то, что является полностью и абсолютно изначальным и вечным [ἀΐδια], а также нетленным, бессмертным, неизменным и так далее. Например, есть «Восстаньте, врата вечные [πύλαι αἰώνιοι]» (Пс 24:7–9) и тому подобное. Часто оно называет очень древние вещи обозначением вечности или, опять же, иногда обозначает вечностью [αἰών] весь промежуток нашего времени, поскольку вечности свойственно быть древней, неизменной и мерой всего сущего… Более того, Писание иногда восхваляет временную вечность [ἔγχρονος αἰών] и вечное время [αἰώνιος χρόνος]. Однако мы знаем, что более правильно вечностью называют и обозначают то, что есть, а временем то, что должно быть. Поэтому необходимо понимать, что то, что называется вечным, не просто совечно [συναΐδια] с Богом, пребывающим до вечности [θεῶι τῶι πρὸ αἰῶνος]. Строго следуя Священному Писанию, необходимо принять такие вещи, как и вечные и временные, как им подобает, в отношении вещей, которые есть, и тех, которым предстоит быть; то есть как вещи, которые, с одной стороны, причастны к вечности, а с другой стороны — к времени. Но следует восславить Бога как вечность и как время, как причину всего времени и вечности и Ветхого днями; как до времени, и вне времени и неизменных «сроков и времен», и также существующего прежде веков [πρὸ αἰώνων], поскольку Он до вечности и вне веков, и Его же царство «есть царство всех веков». Аминь». (10.3.937C–940A)
Очевидно, сщмч. Дионисий пытается здесь оставаться верным библейской традиции. В Священном Писании αἰών используется как для обозначения определенного периода (как в «нынешнем веке» или «веке грядущем»), так и для всего времени, понимаемого в целом (как в выражении εἰς τὸν αἰῶνα, «на всю вечность»). Бог одновременно вечен (αἰώνιος) и предвечен (πρὸ αἰώνων); действительно, Он — создатель веков (ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας)21. Этот диапазон значений сохраняется во всей святоотеческой литературе, и, хотя контекст обычно проясняет смысл, нужно всегда помнить о возможных различиях. Существует также термин ἀΐδιος, в древнегреческом языке и в Писании приблизительно синонимичный αἰώνιος22. К тому времени, когда писал сщмч. Дионисий, язычники-неоплатоники уже установили различие между этими двумя терминами, используя ἀΐδιος для обозначения протяженности во времени и αἰώνιος для обозначения вневременной вечности, но христианские авторы обычно не принимали этого разделения23.
Сщмч. Дионисий по-своему подходит к упорядочению этого богатого, но противоречивого разнообразия. Он отделяет «то, что есть», вечное в собственном смысле слова, от того, что называется вечным в Писании. Ссылка на «вечные врата» указывает на то, что среди последних он имеет в виду прежде всего ангелов и горний мир24. Идентичность «вещей, которые есть», не очевидна, но поскольку они являются «абсолютно непорожденными» и, следовательно, не могут быть творениями, я бы предположил, что он имеет в виду божественные исхождения25. При этом не исключено, что и сама вечность находится среди исхождений, поскольку исхождения (подобно идеям в «Софисте») могут смешиваться или быть сопричастными друг другу в различных проявлениях26.
Установив такое различие, сщмч. Дионисий затем использует его, чтобы прояснить статус вечных творений, таких как ангелы и небеса. Они находятся «между вещами существующими и становящимися», обладая свойствами как вечности, так и времени. Что касается ангелов, он, вероятно, имеет в виду не только то, что они действуют во времени, но также и то, что даже на небесах они растут в познании Бога27. Напротив, Бога не следует искать в какой-либо конкретной точке внутри этой структуры. Он пронизывает и охватывает все, будучи тождественным как вечности, так и времени, но тем не менее существует до них обоих. Как я уже упоминал, это характерно для его отношения к божественным исхождениям. Утверждая, что творения вечны (αἰώνιος), но не совечны (συναΐδια) Богу, сщмч. Дионисий, возможно, предполагал, что существует некое различие между ἀΐδιος и αἰώνιος; однако, если так, то он не разъясняет этого. Наиболее естественно воспринимать эти утверждения как то, что Бог вечен (каким бы термином это ни обозначалось) иначе, чем творения, ибо сам по себе является вечностью. Таким образом, Он также является источником вечности, поскольку творения вечны в той мере, в какой они есть, как сопричастные ему.
Возникает интересный вопрос. Не следует ли понимать по аналогии, что, поскольку Бог есть также и время, Его временность должна превосходить временность творений? Сщмч. Дионисий не делает такого вывода, но он подходит к нему близко, обсуждая в главе 5 соотношение между Богом и бытием.
«Бог есть источник и мера бытия и вечности [αἰών], поскольку Он предшествует сущности, бытию и вечности, а также является творцом начала, середины и конца всего. Вот почему в Священном Писании истинно Предсуществующее множится [πολλαπλασιάζεται] в соответствии с пониманием каждых существ: “было”, “есть”
и “будет” [τὸ ἦν καὶ τὸ ἔστι καὶ τὸ ἔσται] и “стало”, “становится” и “станет” [τὸ eyeveto кас Y^VEтal Kai YEvqcETai] правильно воспеты в Нем. Ибо для тех, кто воспевает их подобающим Богу образом, все это означает, что Он существует как сверх-сущий в соответствии со всеми представлениями и что Он является причиной всего сущего» (5.8.824A)
Поскольку Бог является источником всего сущего, а сущее может обладать временными свойствами, темпоральный язык может применяться и к Нему28. Тем не менее, это означает только то, что «Он существует сверхсущественно в соответствии со всеми представлениями, и что Он является причиной всего, что каким-либо образом существует». Следовательно, цель здесь не столько в нейтральном описании Бога, сколько в восхвалении Его как источника временного бытия.
Этот фрагмент тем более поразителен, поскольку ранее сщмч. Дионисий явно отрицал, что темпоральный язык, включая не только «было» и «будет», но даже «есть», применим к Богу (5.4.817D). Такое синхронное утверждение и отрицание типично для использования сщмч. Дионисием языка как способа переориентировать читателя от попытки просто описать Бога на попытку воздать ему должную хвалу. Темпоральный язык, в частности, для сщмч. Дионисия является проявлением «умножения» Бога и потому не может быть адекватным ему в его единстве. «Умножение» здесь очень похоже на умножение в неоплатонизме каждого более высокого уровня реальности в пределах последующего уровня29. Разница в том, что, поскольку в ипостаси нет различия, любое временное утверждение всегда должно уравновешиваться апофатическим суждением, что Бог находится вне времени как его источник. Сщмч. Дионисий принимает это противоречие, так как он видит в нем единственный язык, адекватный Богу, поскольку Он одновременно присутствует в творении и находится вне его как его причина.
Легко видеть, что расстояние, отделяющее сщмч. Дионисия от блж. Августина и Боэция, огромно. Отнюдь не отождествляя вечность с божественной природой, сщмч. Дионисий рассматривает ее либо как божественное исхождение, либо как атрибут исхождений, либо (что наиболее вероятно) как то и другое вместе. Время также является божественным исхождением, так что творения сопричастны Богу не только в силу того, что они вечные, но и в силу того, что они являются временными. Поскольку Бог есть время, но также пребывает вне времени, темпоральный язык одновременно приемлем и неприемлем для Него. Наконец, за этими различиями кроется расхождение в отношении к богословскому языку. Боэций предлагает свое определение вечности, чтобы «прояснить божественную природу»; сщмч. Дионисий хочет не столько заявить, что такое Бог, сколько показать, как Его следует славить.
Средневековые схоласты хорошо знали труды сщмч. Дионисия. Конечно, можно предположить, что они, осознавая эти разночтения, пытались их как-то разрешить. Полное исследование этого предмета потребовало бы внимательного изучения средневековых трактовок времени и вечности в «Божественных именах». Вместо того, чтобы пытаться сделать это здесь, я просто отмечу, как средневековые трактовки этой темы искажались в связи с проблемами перевода. Наиболее распространенный перевод «Ареопагитик», сделанный Джоном Саррасеном, интерпретирует терминологию сщмч. Дионисия, относящуюся к вечности, систематически вводя в заблуждение. Эти сдвиги можно увидеть в следующей таблице30:
|
сщмч. Дионисий |
Саррасен |
|
ἀΐδιος 8 |
aeternus 6 |
|
sempiternus 2 |
|
|
συναΐδιος 2 |
coaeternus 2 |
|
αἰώνιος 13 |
aeternus 11 |
|
aeternaliter 1 |
|
|
aeternalis 1 |
|
|
αἰών 47 |
aevum 36 |
|
saeculum 11 |
Здесь следует отметить два момента — один второстепенный и один значительный. Незначительный момент заключается в том, что Саррасен не сохраняет различия между ἀΐδιος и αἰώνιος. Само по себе это не должно приводить к недоразумениям, поскольку даже у сщмч. Дионисия значение этих терминов неустойчиво и определяется только контекстом. Гораздо более существенным является разделение близкородственной пары aiwv и aiwviog на два несвязанных члена — aevum и aeternus. Результатом этого является не только затемнение связи между существительным и прилагательным; это должно создать впечатление, что сщмч. Дионисий говорит об отдельном понятии aevum которое отличается от aeternitas в собственном смысле. Таким образом, если я воспринимаю утверждение сщмч. Дионисия так, что Бог есть вечность и что он превосходит вечность, и понимаю это как намеренно парадоксальное утверждение о соотношении Бога и одного из Его собственных атрибутов, латинский читатель вместо этого обнаружил бы, что Бог есть aevum и превосходит aevum.
Что именно это означает, естественно, будет зависеть от того, что считать aevum. Начиная с XIII в., похоже, существовал консенсус в отношении того, что дионисиевские употребления этого термина следует интерпретировать в свете его использования блж. Августином для обозначения формы вечности, характерной для ангелов31. Поскольку с этой точки зрения aevum прочно относится к уровню сотворенного существа, сщмч. Дионисий соответственно, по-видимому, обсуждает отношение Бога к атрибуту творений. Аквинат, например, определяет Бога как аevum в том отношении, что он является мерой постоянного бытия, и как до-аevum в том, что Он является его причиной32. Aevum, в свою очередь, он определяет как причаствуемую вечность, то есть, как атрибуты творений (такие как длительность или неизменность), которые придают им сходство с божественной вечностью33. В этом нет ничего особенно парадоксального; в самом деле, это хорошо вписывается в понимание Аквинатом сщмч. Дионисия в качестве защитника богословия как науки34.
Вопрос, как именно эти компоненты способствовали пониманию (или непониманию) сщмч. Дионисия, привлекает внимание и заслуживает более пристального изучения. Однако мы оставим Запад и выдвинем совершенно иную задачу: попытаемся поместить сщмч. Дионисия в его исторический контекст. Недавние исследования выявили, что сщмч. Дионисий не был тем блестящим, но единичным автором, каковым его представляли схоласты, но вполне прочно вписывался в греческую святоотеческую традицию35. Его богословие во многих отношениях является развитием богословия его предшественников, в особенности Климента Александрийского и отцов-каппадокийцев, и далее развивалось его преемниками, такими как св. Максим Исповедник, св. Иоанн Дамаскин и св. Григорий Палама. Это означает, что наряду (и вместе) с вопросом об отношении между сщмч. Дионисием и его комментаторами существует также вопрос об отношении между греческой святоотеческой традицией в целом и ав-густиновским в своей основе богословием Запада. Я надеюсь, что, рассматривая сщмч. Дионисия в этом контексте, мы сможем лучше понять его взгляды, а заодно и определить, в какой степени они были характерны для греческой традиции в целом. При этом мы также будем в состоянии оценить, является ли эта традиция привлекательной альтернативой западной.
В продолжении этой статьи я подхожу к этой задаче хронологически. Раздел II посвящен наиболее важным дохристианским источникам (Платон, Аристотель и Филон Александрийский); раздел III посвящен первым греческим отцам Церкви; раздел IV обращается к каппадокийцам; и в разделе V рассматривается восприятие сщмч. Дионисия Иоанном Скифопольским и св. Максимом Исповедником. В разделах VI и VII обсуждается соотношение двух традиций, доказывающее, что восточная традиция является своеобразной и перспективной с философской точки зрения.
Нет никаких сомнений в том, что как восточная, так и западная традиции восходят к Платону. Что касается времени и вечности, Платон ввел сами понятия и термины, на которые опирались более поздние авторы, даже когда они (как сщмч. Дионисий) делали это, чтобы отрицать их применимость к Богу. Платон, следовательно, должен послужить нам отправной точкой.
Наиболее отчетливая трактовка времени и вечности у Платона содержится в «Тимее». Здесь повествование о творении начинается с утверждения, что чувственный мир смоделирован по оригинальному образцу, вечному (ἀΐδιον), неизменному и постигаемому интеллектом или разумом, а не мнением (27d–28a, 29a). Само по себе это утверждение не означает, что модель вечна в каком-либо ином смысле, кроме бесконечной длительности; однако за ним следуют еще два, усложняя картину. Во-первых, модель в некотором смысле живая, Живое Существо, которое «охватывает в себе все умопостигаемые живые существа» (30c). Во-вторых, время — это свойство не самого Живого Существа, а исключительно его образа. Как известно, Демиург создает время как «подвижный образ вечности» (30d). Можно ожидать, что это должно означать, что вечность (αἰών) является свойством исключительно Живого Существа, а не чувственного мира. Однако тут упускается из виду важнейший факт, что чувственный мир является образом Живого Существа и, следовательно, воспроизводит его свойства производным способом. В частности, что касается вечности, чувственный мир — это «вечный, движущийся согласно порядку образ вечности, остающейся в единстве» (30d).
Таким образом, Платон неявно различает два вида вечности (αἰών): вечность чувственного мира, производную и расширяемую во времени, и «вечность, пребывающая в единстве» ее умопостигаемой модели. Он поясняет разницу, добавляя, что такие термины, как «был» и «будет», применимы только к чувственному миру, тогда как только «есть» уместно говорить о его умопостигаемой модели (37e–38a). Несомненно, эти утверждения Платона следует понимать на фоне общего различения между бытием идей и становлением чувственного мира36. Однако нигде в «Тимее» нет объяснения того, что значит утверждение, что умопостигаемая реальность живет, т. е. представляет собой «Живое Существо», или как следует понимать соотношение между ее жизнью и ее вечным бытием.
Что бы Платон ни думал об этих вопросах, последующая греческая философия трактовала их, по большей части, через дополнительный ряд понятий, введенных Аристотелем. Перводвигатель Аристотеля напоминает Живое Существо из «Тимея» в двух важнейших отношениях: он живой, неизменный и недвижимый. Аристотель объясняет это, казалось бы, парадоксальное сочетание, утверждая, что «жизнь есть деятельность [или актуализация, ἐνέργεια] ума»37. Это утверждение следует понимать с учетом «Метафизики» (Metaphys. 0.6). Там Аристотель отличает энергию (evepYEia) от движения (к^vn^l^) частично на том основании, что evepYEia по своей сути атемпоральна, поскольку она не требует времени для достижения завершения38. Среди примеров ἐνέργεια, которые приводит Аристотель, отметим νόησις — деятельность ума. Таким образом, von^ig — это не движение или изменение, а форма деятельности, которая по своей сути атемпоральна. Более того, как Аристотель подробно объясняет позже в «Метафизике» (Metaphys. Λ. 7 и 9), Перводвигатель — это просто самодостаточный акт νόησις. Это означает, что он живой и вечный в смысле как длящегося существования во времени, так и существования, независимого от времени и не требующего времени для реализации своего существования. Можно сказать о Перводвигателе так же, как Платон говорит о Живом Существе: ему не присуще «было» или «будет», а только «есть»39.
Аристотель также предлагает подход к платоновскому различию между протяженной во времени вечностью чувственного мира и «вечностью, пребывающей в единстве» Живого Существа. В примечательном отрывке из сочинения «О небе» он отмечает, что «вне неба» нет ни места, ни времени, и что вещи там «длятся всю вечность [διατελεῖ τὸν ἅπαντα αἰῶνα] с лучшей и наиболее самодостаточной жизнью» (1.9.279a22–23). Ссылка на «там» — место, где нет места, и на вещи, «длящиеся» там, где нет времени, предупреждают нас о том, что язык здесь доведен до предела. (Ссылка на место за пределами небес на самом деле может быть намеренным отголоском мифа о возничем в «Федре», т. е. еще один признак квази-мифического языка.) Далее следует:
«Действительно, наших предков посетило вдохновение, когда они создали слово αἰών. Предел [τὸ τέλος], который ограничивает жизнь каждого существа и который в природе не может быть превышен, они назвали αἰών. По той же аналогии предел всего неба, конец, который ограничивает все время, даже саму бесконечность [τὸ τὸν πάντα χρόνον καὶ τὴν ἀπειρίαν περιέχον τέλος], тоже именуется αἰών, название, произведенное от “всегда быть” [ἀεὶ εἶναι] — αἰών, бессмертный и божественный.
От него зависят все другие вещи, их существование и жизнь, некоторые более отчетливо, другие менее» (1.9.279a22–30)40.
Здесь Аристотель, подобно Платону, различает два вида αἰών. Это различие не совсем такое же, как у Платона, поскольку первый вид αἰών — это просто продолжительность жизни живого существа. Настоящий вопрос заключается в том, как быть со вторым видом αἰών. Аристотель вводит его по аналогии с первым, чтобы обозначить им условно продолжительность жизни космоса. Тем не менее, требуется сразу же уточнить это утверждение, поскольку αἰών во втором смысле «охватывает все время вплоть до бесконечности». Это означает, что это вовсе не «промежуток», поскольку он не имеет ни начала, ни конца. Это подтверждается и производным характером αἰών от ἀεὶ εἶναι, «всегда быть». Ясно, что эту фразу нельзя понимать просто как вечность во времени, поскольку Аристотель уже сказал, что в той сфере, о которой он говорит, времени нет. С другой стороны, это также не следует понимать в смысле неизменной статичности, как, скажем, истины математики. Как показывает аналогия с продолжительностью жизни живого существа, бессмертный и божественный αἰών — это форма жизни, то есть жизнь, которая охватывает или ограничивает все время, но сама не зависит от течения времени. Возможно, здесь мы очень близки к описанию Перводвигателя в «Метафизике»41. Мы также приближаемся к Платону, согласно которому αἰών — это то, что «пребывает в единстве», образом которого является αἰών чувственного мира.
Итак, мы находим у Платона и Аристотеля весьма многообещающий набор элементов, которые, хотя и не совсем связаны в единую доктрину, безусловно, указывают на это направление. Оба автора совпадают в различении высшей, трансцендентной вечности и течения времени в чувственном мире. Платон подходит к этой вечности как бы сверху вниз, полагая ее оригиналом, слепком которого является время. Аристотель подходит к вопросу снизу вверх, рассматривая вечность как весь промежуток бесконечного времени, взятый вместе как единое целое. Соответственно, в то время как для Платона существует два типа αἰών — умопостигаемая модель и ее чувственный образ, для Аристотеля существует единое понятие αἰών, которое каким-то образом включает в себя всю временную длительность. С моей точки зрения, это синтетическое единство можно понять через различие ἐνέργεια — κίνησις. Так как жизнь Бога являет собой νόησις (мышление), парадигматический случай ἐνέργεια, в нем объединяется временная длительность (в обладании продолжительностью) с цельностью и завершенностью в каждый момент времени, и в этом смысле она не зависит от времени. Таким образом, для Аристотеля вечность — это жизнь Бога, понимаемая как охватывающая время, тогда как для Платона это жизнь умопостигаемого мира, понимаемого как архетип времени. Оба согласны в том, что это вид жизни, в действительности божественной жизни, и оба согласны с тем, что от этого в некотором смысле зависит время.
Обратимся теперь к Филону Александрийскому — первому автору, который объединил эти темы греческой философии с Писанием. Наш краткий обзор Платона и Аристотеля поможет объяснить несколько загадочную двойственность, которая сопровождает толкование вечности у Филона. Подобно всем средним платоникам, Филон перенимает у стоиков определение времени как протяженность или промежуток (Йюнтпца) движения космоса42. Соответственно, он рассматривает материальную вселенную как «отца» времени, а Бога, творца материальной вселенной — как его создателя или (развивая метафору) как его деда.
«Бог также является создателем времени, поскольку Он отец отца времени, то есть вселенной, и стал причиной движений одного стать источником порождения другого. Таким образом, время находится для Бога в отношении внука. Ибо эта вселенная, поскольку мы воспринимаем ее нашими чувствами, является младшим сыном Бога. Старшему сыну, я имею в виду умопостигаемую вселенную, Он назначил место первородного и решил, что она должна оставаться в Его собственном ведении»43.
Филон следует Платону в различении чувственного и умопостигаемого космоса, но, в отличие от Платона, он определяет Бога как творца (или «отца») обоих. Продолжение этого отрывка важно для темы времени и вечности:
«Таким образом, у Бога нет будущего, поскольку Он подчинил Себе границы веков. Ибо жизнь Бога — это не время, а вечность [aLAv], которая является архетипом и образцом времени; а в вечности нет ни прошлого, ни будущего, и есть только настоящее существование»44.
Этот отрывок является не только платоническим в плане понимания времени и вечности как образа и архетипа; он также является аристотелевским в плане отождествления вечности с жизнью Бога.
Знание о двойственном происхождении этого понятия поможет объяснить разницу между этим утверждением и другими в тех случаях, когда Филон отождествляет вечность не с жизнью Бога, а с существованием умопостигаемого мира. Комментируя выражение «другой год» в Быт 17:21, Филон объясняет, что это не «промежуток времени, который измеряется оборотами Солнца и Луны, но что-то поистине таинственное, необычное и новое, отличное от сферы зрения и чувства и относящееся к сфере бестелесного и умопостигаемого — это модель и архетип времени, т. е. αἰών. Он продолжает: «Слово αἰών означает жизнь умопостигаемого мира, как время — жизнь чувственно воспринимаемого»45. Эта точка зрения расходится с представленной в предыдущем отрывке, поскольку умопостигаемый мир не есть Бог. Филон отождествляет его с умом или разумом (λόγος) Бога, когда он занимается творением, или (что то же самое) с образцом, который Бог имеет в уме, когда творит46.
Может быть, Филон просто непоследователен? Если так, то эту непоследовательность легко объяснить в свете его источников. Для Аристотеля вечность — это жизнь Бога; для Платона — это жизнь умопостигаемого мира, который Филон отождествляет с божественным разумом в акте творения. Было бы неудивительно, если бы Филон не сумел полностью разделить эти два взгляда. Как бы то ни было, их можно примирить. Филон рассматривает термин «Бог» (θεός) как имя, но не имя Бога, как он есть в его собственной природе (для этого Филон обычно использует «Сущее» (τὸ ὄν) или «Сущий» (ὁ ὤν), но для первой из двух божественных Сил, также известной как Творческая или Благотворная Сила47. Эти Силы на самом деле неотличимы от Бога, но представляют Бога ограниченным образом, характерным для человеческого разума48. В таком случае, утверждая, что вечность есть жизнь Бога, Филон, возможно, не идентифицирует ее с жизнью Бога simpliciter, а скорее с той Творческой Силой, т. е. с Богом, явленным в творческом акте.
Это толкование не только сближает первый отрывок со вторым; это также хорошо согласуется с апофатическим характером богословия Филона. Одной из наиболее характерных черт богословия Филона является его взгляд, что Бог ἀκατάληπτος — непостижим для человеческого ума49. Божественные Силы дают нам знание не о том, что такое Бог, но только о том, что он существует. Как пишет Филон в сочинении «О потомстве Каина»:
«Все, что следует за Богом, находится в пределах понимания благочестивого человека, тогда как сам Он находится за пределами, то есть за пределами прямого и непосредственного понимания… но доступен знанию через Силы, которые сопровождают Его, ибо они делают очевидным не Его сущность, а Его существование [ὕπαρξιν] из того, что Он совершает»50.
В целом, Филон утверждает, что может быть известен только факт существования Бога, и что любое положительное утверждение относительно божественных атрибутов должно восприниматься как относящееся к божественным Силам51. Нет причин думать, что вечность является исключением из этого правила.
Таким образом, Филон мало что добавляет непосредственно к доктрине (или прото-доктрине) вечности, которую мы находим у Платона и Аристотеля. Его достижение, скорее, заключается в том, что он вписывает эту доктрину в рамки апофатического подхода.
-
III. От Климента до св. Афанасия
Первые греческие Отцы Церкви восприняли оба аспекта этого синтеза. Нередко их апофатизм выражается, как в случае с Филоном, в относительно простом утверждении, что Бог не имеет «имени собственного», а именуется косвенно через свои дела или деяния52. Но, начиная с Климента Александрийского, апофатизм стал более значимой и тщательно разработанной темой. Особенно примечателен следующий отрывок из Климента:
«Единый неделим [ἀδιαίρετον]; поэтому он также бесконечен, не в смысле непреодолимого [ἀδιεξίτητον], но как не имеющий деления [или измерения, ἀδιάστατον] и не имеющий предела [πέρας]. И потому у него нет ни формы, ни имени. И если мы его называем, мы делаем это не должным образом: либо Единым, либо Благом, либо Умом, либо Абсолютным Существом, или Отцом, или Творцом, или Господом. … Ибо каждое [имя] само по себе не выражает Бога; но все вместе указывают на силу [δυνάμεως] Всемогущего»53.
Это заявление поразительно предвосхищает доктрину сщмч. Дионисия о том, что божественные имена относятся к божественным силам или исхож-дениям. Оно также примечательно использованием термина ἀδιάστατον по отношению к Богу. Климент Александрийский, по-видимому, имеет в виду либо «не имеет деления» или «не имеет измерения» или, возможно, и то и другое54.
Как мы далее увидим, каппадокийцы примут ἀδιάστατον в качестве ключевого термина для отличия Бога от творений, в том числе творений вечных.
Было бы интересно узнать, как Климент Александрийский понимает божественную вечность и как он соотносит ее с апофатизмом. В единственном фрагменте, проливающем свет на это, он отмечает, что вечность «представляет в одном мгновении» (ἀκαριαίως συνίστησι) прошлое, настоящее и будущее55. Ясно, что Климент придерживается традиционного взгляда на то, что Бог не познается темпорально. Однако, поскольку он не останавливается на этом вопросе подробнее, мы не можем точно сказать, какой смысл он придал бы вечности как божественному атрибуту.
Ориген, великий преемник Климента в Александрии, не менее сложен. Он, в общем приближении, определяет αἰών кого-либо как время, сопротяженное (συμπαρεκτεινόμενον) с его жизнью56. Если применить это определение к Богу, тогда божественная вечность оказывается не строго вневременной, а бесконечной протяженностью времени, совпадающей с божественной жизнью; иными словами, мы возвращаемся ко «всему времени вплоть до бесконечности» Аристотеля. Ориген действительно придерживается этой точки зрения. Комментируя стих: «Ты Сын Мой; Я сегодня родил Тебя» (Пс 2:7; Евр 1:5), он объясняет:
«Я полагаю, что для Бога не существует вечера, как не существует и утра, но лишь время, которое сопротяженно с Его безначальной и вечной [ἀϊδίωι] жизнью, если можно так выразиться, это день, который для Него “сегодня”, в котором и рожден Сын. Следовательно, не существует ни начала Его рождества, ни Его дня»57.
Хотя Ориген говорит о времени как о сопротяженном с божественной жизнью, здесь он не просто приравнивает божественную вечность к бесконечности. Подобно Аристотелю, он подходит к вечности снизу вверх, понимая ее как сумму всего времени, собранного в один «день». Это сильно отличается от представления Климента Александрийского о том, что Бог есть ἀδιάστατον. В другом фрагменте мы узнаем, что для Оригена Бог не является строго ἀκατάληπτος, и божественные имена не являются именами только божественных сил58. Тем не менее, Ориген утверждает, что Троица превосходит «все время, все века и всю вечность», и что она «превосходит все представления не только временного, но даже вечного разума»59. В целом, хотя Ориген не столь строго апофатичен, как Филон или Климент Александрийский, он также очень далек от отождествления вечности с божественной природой, что свойственно последующему богословию.
Значение Оригена еще и в том, что он был первым христианским богословом, явно утверждавшим, что рождение Сына Отцом вечно, поэтому неверно говорить, что «было время, когда Сына не было»60. Сын рожден Отцом «как акт воли, исходящий из разума, без отсечения какой-либо части разума, без отделения от него или разделения с ним»61. Однако эти утверждения следует корректировать, с одной стороны, с учетом субординационизма Оригена, согласно которому Сын является Богом только в производном смысле; с другой стороны, с учетом его веры в то, что творение тоже существовало всегда, так что в равной степени нельзя сказать, что «было время, когда творения не было»62. Таким образом, хотя для Оригена нет «разделения» или «промежутка» между Отцом и Сыном, для него это не является отличительной чертой Бога по отношению к творению.
Споры никейской эпохи вынудили христианскую мысль прояснить этот вопрос. Арианский лозунг «было некогда, когда Сына не было» (ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν) воспринимался православными как подразумевание существования временного интервала (διάστημα), в течение которого Отец еще не родил Сына63. Неясно, принял бы сам Арий этот подтекст, поскольку он также говорил, что Сын был сотворен или рожден до времени и что время было создано через Него64. Возможно, Арий пытался сформулировать точку зрения, подобную точке зрения платоника Аттика, который обнаружил в «Тимее» различие между докосмическим временем и временем, которое возникло с сотворением мира65. Даже с этой точки зрения, однако, был некий промежуток (хотя и не измеряемый временем) между Отцом и Сыном.
Св. Афанасий в своем опровержении Ария отказывается уступить даже в этом. Он отмечает, что в Священном Писании Христос является Творцом всех веков (αἰῶνες), и так должно быть до какого бы то ни было промежутка:
«Слова, обращенные к Сыну в Псалме 144: “Царство Твое есть царство всех веков”, запрещают кому-либо представить себе какой-либо промежуток [§1асттпца], в котором Слово не существовало. Ибо, если каждый интервал в веках измерен, и во все века Слово есть Царь и Творец (Евр 1:2; 11:3), следовательно, хотя и не существует никакого интервала до Него, было бы безумием утверждать: “Было когда-то, когда Вечного не было”»66.
Он говорит, что творения «имеют начало существования, связанное с промежутком» (Siaarn^aTiK^v арущ’ той eivai exel), поскольку они были созданы «с некоторого начала, до которого их еще не было»67. Слово, напротив, «не имеет начала своего бытия… но было всегда»68. Следует отметить, что св. Афанасий не исключает возможности некоторого квази-временного порядка, предшествующего таковому в материальном космосе. Его заботит прежде всего то, чтобы между Отцом и Сыном не было промежутков, временных или иных.
Все это поднимает вопрос, как адиастемическое существование Бога совместимо с его всеобъемлемостью и присутствием во все времена. Этот вопрос не возникал для Платона и Аристотеля, поскольку они исходят из системы, в которой время и вечность находятся в неотъемлемой и органической взаимосвязи. Климент Александрийский и св. Афанасий, хотя и с разными мотивами, каждый по-своему приходят к такому взгляду на божественную жизнь, который подчеркивает ее простоту, целостность и неделимость. Как можно связать эту жизнь с чем-то столь протяженным и разделенным, как время? Одной из задач последующей традиции станет попытка ответить на этот вопрос.
-
IV. Отцы-каппадокийцы
Отцы каппадокийцы — свв. Василий Великий, Григорий Нисский и Григорий Назианзин — были главными защитниками Никейского символа веры от ариан в конце IV в. Они опирались на афанасиевское отрицание существования διάστημα между Отцом и Сыном. Св. Василий Великий утверждает, что Отец обладает отцовством сопротяженно с Его собственной вечностью (τῆι ἑαυτοῦ ἀϊδιότητι συμπαρεκτεινομένην); и поскольку отцовство подразумевает наличие Сына, Сын присутствует с Отцом без промежутка69. Св. Григорий Нисский приводит аналогичный аргумент70.
Что еще более важно, св. Григорий также переносит это понятие богословия с Троицы на общее различие между адиастемической божественной жизнью и диастемическим существованием творений. Творение «идет к своему собственному концу через промежутки времени [χρονικῶν διαστημάτων]», тогда как жизнь Бога «не имеет протяженности [διαστήματος], сопровождающей ее, и поэтому не имеет ни промежутка, ни меры»71. Вполне вероятно, что св. Григорий находится здесь под влиянием не только Климента Александрийского и св. Афанасия, но также и языческого неоплатонизма, поскольку у Плотина и Порфирия можно найти сходное различие между адиастемической жизнью умопостигаемого мира и диастемическим характером чувственного мира72. Св. Григорий во многом тоже рассматривает это различие как философскую истину, основанную на том, что Бог есть то, что Он есть без причастности. Вот что он пишет в сочинении «Против Евномия»:
«Широк и непреодолим промежуток, отделяющий нетварную от тварной природы. Последняя ограничена, первая не имеет предела [πέρας]… Последняя растянута на определенную меру длительности [διαστηματικῆι τινι παρατάσει συμπαρεκτείνεται], обусловленную временем и местом; первое превосходит всякую концепцию промежутка [πᾶσαν διαστήματος ἔννοιαν], сбивающего с толку любопытство со всех точек зрения … [Оно] всегда одно и то же, само по себе, а не переходящее через промежутки [οὐ διαστηματικῶς διοδεύουσαν] от одного предмета к другому в своей жизни. Оно также не живет через причастность жизни другого, чтобы, следовательно, можно было представить начало и предел его причастности. Но оно есть именно то, что оно есть, Жизнь действующая в себе [ζωή ἐν ἑαυτῆι ἐνεργουμένη], а не становящаяся больше или меньше за счет добавления или уменьшения»73.
Развивая различие между диастемическими существами и адиастеми-ческим Богом, св. Григорий доходит до утверждения, что «διάστημα есть не что иное, как само творение»74. Поскольку все творения в своем мышлении ограничены собственной диастемической перспективой, творение не может постичь предвечную (προαιωνίου) и адиастемическую природу Бога. Св. Григорий сравнивает такую попытку с альпинистом, чья нога внезапно оступается в пропасть75.
Такое резкое различие между диастемическим творением и адиастеми-ческим Творцом поднимает вопрос о том, как следует понимать вечность существ, таких как ангелы, которые не подпадают под действие временного порядка материального космоса. Каппадокийцы отвечают, разделяя вечность ангелов и вечность Бога таким образом, который, по крайней мере, на первый взгляд, предвосхищает средневековую теорию aevum. Св. Василий определяет время как сопротяженный с существованием космоса промежуток (τὸ συμπαρεκτεινόμενον τῆι συστάσει τοῦ κόσμου διάστημα), который является мерой движения76. Он добавляет, что для чувственных объектов время значит то же, что вечность для существ горнего мира, следовательно, διάστημα является общей как для времени, так и для вечности77. Очевидно, что вечность (αἰών) здесь не является свойством божественной природы, но присущим ангелам свойством сотворенного бытия.
Более подробное объяснение этого момента есть в «Шестодневе» св. Ва-силия78. До сотворения этого мира существовал «порядок, соответствующий горним силам, вневременный [ἡ ὑπέρχρονος], вечный и вечно длящийся [ἡ αἰωνία, ἡ ἀΐδιος]». К этому порядку далее добавилась последовательность времени, связанная с данным физическим миром, «всегда стремящаяся и уходящая и никогда не останавливающаяся в своем течении»79. Невидимый и умопостигаемый мир, равно как и видимый и чувственный, принадлежит «вещам, пришедшим в бытие», и превосходится его Творцом80. Далее, комментируя выражение из Быт 1:5, что «вечер и утро были одним днем», св. Василий отмечает, что Бог заставил неделю «вращаться в себе», создав ее из одного дня, вращавшегося в себе семь раз. Он добавляет: «Такова суть вечности [αἰῶνος] — вращаться в себе и нигде не кончаться». Действительно, причина, по которой Септуагинта упоминает «один день», а не «первый день», состоит в том, чтобы показать родство этого изначального дня с вечностью. Вторя Платону, св. Василий ссылается на первый день как на образ (εἰκόνα) вечности, «первый плод дней», который служит основой для всех остальных дней81. Из всего рассуждения явствует, что вечность — это модус бытия ангелов, который превосходит наше время, но присущ Богу не более, чем само время.
Оба свв. Григория также настаивают на диастемическом характере ангельской вечности и ее родстве с нашим временем. Св. Григорий Назианзин определяет αἰών как «определенное времениподобное движение и протяженность»
(τι χρονικὸν κίνημα καὶ διάστημα), сопротяженную с вечными существами (τοῖς ἀιδίοις), хотя саму по себе не делимую и не измеримую каким-либо движе-нием82. Он замечает, что считая Бога безначальным и бесконечным, разум, естественно, называет его вечным (αἰώνιον); однако, это представление о Боге, как и все остальные, суть только ментальный образ (φαντασία). Ссылаясь на Исх 3:14, св. Григорий объясняет:
«В Себе [Бог] сочетает и содержит все бытие, не имеющее ни начала в прошлом, ни конца в будущем; как некое огромное море бытия, бескрайнее и безграничное, превосходящее все представления о времени и природе, только очерченное умом, причем очень смутно и скудно — не из вещей, непосредственно касающихся Его, а из вещей вокруг него [οὐκ ἐκ τῶν κατ’ αὐτὸν, ἀλλ’ ἐκ τῶν περὶ αὐτόν]; один образ [φαντασίας] получен из одного источника, другой — из другого, и оба объединены в своего рода представление истины, которая ускользает от нас, когда мы ее обретаем, и улетает, когда мы постигли ее»83.
Различие между «вещами, непосредственно касающимися Его», и «вещами вокруг Него» примерно эквивалентно различию между божественной сущностью и Силами у Филона или между сверхсущностным божественным бытием и божественными исхождениями у сщмч. Дионисия. «Вещи вокруг Него» — это не творения, а сам Бог, проявляющийся в Его актах творения, поддержания и управления миром84. Итак, св. Григорий подчеркивает здесь, что эти акты дают нам лишь частичное и иллюзорное понимание их трансцендентного источника и что никогда не следует забывать об участии наших собственных умственных способностей в формировании даже такого ограниченного понимания.
Св. Григорий Нисский тоже считает, что наше понимание вечности неизбежно окрашено нашим временным бытием. Комментируя библейские выражения, например, что Царство Божие находится «прежде веков» (πρὸ τῶν αἰώνων) или «простирается за пределы веков» (ὑπὲρ τοὺς αἰῶνας ἐκτεινομένην), он отмечает:
«Человеческая жизнь, проходя через промежутки времени, движется вперед от начала к концу, и наша жизнь в этом мире разделена между тем, что прошло, и тем, что ожидается… поэтому мы рассуждаем подобным образом, хотя и неверно, о трансцендентной природе Бога; разумеется, не потому, что Бог в Своем собственном существовании оставляет какой-либо промежуток [διάστημα] позади или переходит к чему-то, что располагается впереди, но потому что наш интеллект может постигать вещи только в соответствии с нашей природой и измеряет вечное [ἀΐδιον] прошлым и будущим»85.
Св. Григорий, как Климент Александрийский и св. Афанасий, строго придерживается понятия адиастемического характера божественной жизни.
Однако он использует этот термин не как подразумевание своего рода точечного существования, а как указание на более высокий модус бытия, о котором мы не можем составить никакого представления. Говорить о божественной жизни как о «протяженной» каким-либо образом, даже если она простирается за пределы веков, означает неизбежную уступку временным рамкам нашего собственного понимания.
Попутно отметим также, что св. Григорий в этом фрагменте, кажется, оставляет термин ἀΐδιος для обозначения вечности Бога, которая превосходит все века. Похоже, что в целом св. Григорий придерживается этого терминологического предпочтения86. Св. Василий в какой-то момент допускает подобное различие, определяя ἀΐδιος как «более древнее, чем все время и всякая эпоха [или вечность, αἰώνος]»87. Эта тенденция у каппадокийцев, вероятно, является источником аналогичного условного различия у сщмч. Дионисия. В целом, однако, библейский прецедент описания Бога как αἰώνιος был слишком силен, чтобы эта попытка разъяснения получила широкое распространение.
Независимо от терминологии, каппадокийцы последовательно соглашаются с тем, что вечность Бога превосходит даже вневременную (но все же диастемическую) вечность ангелов. В этом есть точки соприкосновения с Западом. С другой стороны, для каппадокийцев, какую бы вечность мы ни приписывали Богу, она сама по себе не является божественной природой, а лишь одной из «вещей, окружающих Бога». Мы уже видели, что св. Григорий На-зианзин рассматривает как φαντασία описание Бога вечным: это означает не то, что такое описание ложно, а то, что оно должно быть подкреплено другими, столь же ограниченными и частичными образами, чтобы достичь «некоторого приближения к истине». Для св. Григория Нисского все божественные имена означают не божественную сущность или природу, а «вещи вокруг Бога» или, что то же самое, божественные энергии (ἐνέργειαι)88. Хотя я не обнаружил, что св. Григорий применяет эту общую концепцию конкретно к божественной вечности, он подходит близко к заявлению о том, что среди «вещей, окружающих Бога», есть бесконечность и безначальное существование Бога89. Можно предположить, что сщмч. Дионисий опирается на каппадокийцев, а также, возможно, на Климента Александрийского, в собственном понимании божественных имен как относящихся к божественным исхождениям.
Даже в том, что касается ангельской вечности, в воззрениях каппадокийцев есть важные элементы, которых нет на Западе. Мы видели, что св. Василий противопоставляет ангельскую вечность времени, которое «всегда наступает и уходит и никогда не останавливается в своем течении». Очевидно, что вечность ангелов, хотя и является диастемической, не подразумевает «настоящее как опорный момент» временной преемственности. Св. Григорий Нисский развивает эту мысль в фрагменте из своих «Проповедей на ‘‘Песнь Песней’’». Различая Бога и ангелов как два вида «умной природы», он объясняет:
«Умная природа, приведенная в бытие через творение, всегда смотрит на первопричину существ, и, по ассоциации с ее превосходящим всегда сохраняется в добре и, в определенном смысле, постоянно творится [κτίζεται] из-за возрастания в благе через ее изменение к лучшему, чтобы никогда не иметь никакого предела и не ограничиваться в своем стремлении к лучшему никакими границами. Но ее всегда присутствующее благо — сколь бы великим и совершенным оно ни казалось — это начало дополнительного и большего блага, так что в этом отношении апостольское слово представляется истинным, когда оно говорит о забвении достижений прошлого в стремлении к тому, что впереди (Фил 3:13). Ибо тому, кто всегда взыскует большего и высшего блага и обращает все внимание на свое причастие к нему, возбраняется оглядываться в прошлое, и, поскольку он наслаждается более ценным, он забывает о меньшем»90.
Для ангелов любое обретенное благо всегда является только началом еще большего блага; следовательно, они не имеют никакой потребности в памяти, ибо последнее обретенное благо всегда содержится в настоящем, даже когда они устремляются вперед к еще более полному благу. Таким образом, хотя их состояние является диастемическим (поскольку это состояние непрерывного прогресса), они не прикованы к «перевалочному пункту» настоящего. Св. Григорий дает аналогичное описание жизни блаженных на небесах, описывая ее как всеохватное, постоянно растущее наслаждение добром, при котором отпадает вся потребность в памяти или надежде91.
Это проливает некоторый свет на то, что означает понимание времени как образе ангельской вечности. Мы можем думать о времени как о сузившимся до текущего момента, словно о все возрастающем наслаждении Благом, составляющем ангельскую жизнь. Однако более точно время как образ указывает на свой небесный архетип. Время не только линейно, но является также круговым, «вращающимся вокруг себя» по образцу недели, который указывает на восьмой день, день нового творения92. Это означает, что время и вечность не являются полностью раздельными модусами бытия, но составляют, соответственно, более частную и более полную арену, на которой совершается вечное движение к Богу.
Мы можем подытожить учение каппадокийцев в следующих пунктах. (1) Бог адиастемичен, творения (включая ангелов) диастемичны. (2) Как следствие, любая концепция божественной вечности, которую мы можем сформировать — это просто мысленный образ (φαντασία), который не представляет ее истинную природу. (3) Божественная вечность — это одна из «вещей вокруг Бога», а не сама божественная природа. (4) Вечность ангелов диастемична и подобна времени, что позволяет бесконечно стремиться к Богу. (5) Ангельская вечность — это архетип, образ которого явлен во времени.
Это учение во многом является продолжением апофатизма Филона и Климента Александрийского. Его наиболее оригинальная особенность заключается в том, что в качестве архетипа и образа отождествляются не божественная вечность и время, как у Филона, а ангельская вечность и время. В свете понимания каппадокийцами божественной жизни как адиастемической, более ранний подход Филона вряд ли мог сохраниться без изменений. Хотя связь ангельской вечности и времени является по-своему плодотворной идеей, которая оказалась важной в таких областях, как мистическое богословие, она оставляет нас с тем же вопросом, который мы задавали в отношении Климента и св. Афанасия: как может адиастемическая божественная жизнь охватить или пронизывать все время? Для ответа нам придется обратиться к отцам Церкви, писавшим после сщмч. Дионисия.
-
V. По стопам сщмч. Дионисия
В сочинениях ранних отцов Церкви явно есть многое, что прямо предвосхищает сщмч. Дионисия. В частности, то, что я называю концепцией сщмч. Дионисия: его отрицание того, что можно что-либо утверждать о божественной сущности, балансирование между апофатическим и катафати-ческим, присвоение божественных имен божественным исхождениям — все это уже присутствует в сочинениях каппадокийцев, и, в меньшей степени, у Климента Александрийского и даже у Филона. То же самое относится и к его утверждению, что Бог превосходит вечность так же, как Он превосходит время. Наконец, поскольку сщмч. Дионисий рассматривает ангелов как возрастающих в познании и действующих во времени, он, вероятно, согласился бы с каппадокийцами в характеристике ангельской вечности как диасте-мической. В самом деле, поскольку он считает блаженных «равными ангелам» и «причастниками вечности», можно предположить, что он согласен со св. Григорием Нисским в понимании вечного развития, включая его применение к блаженным93.
И все же в учении сщмч. Дионисия несколько пунктов можно считать оригинальными. Во-первых, это симметричность его доктрины о том, что Бог есть и вечность, и время. Издавна Бог традиционно отождествлялся с различными совершенствами, такими как благо, бытие и премудрость, но именно сщмч. Дионисий впервые распространил этот подход на время и вечность. Он рассматривает их как божественные исхождения и, следовательно, как совершенства, которым сопричастны творения. Рассмотрение их как исхожде-ний стало решающим нововведением, поскольку это восстанавливало связь между вечностью Бога и временем творения, которая отсутствовала у предшествующих авторов. Для сщмч. Дионисия ангелы вечны, поскольку сопричаст-ны вечности, а также они (и все существа) временны, поскольку сопричастны времени. Ясно, что здесь многое нуждается в пояснении, но оригинальность и значимость идей сщмч. Дионисия нельзя отрицать94.
Как были восприняты наиболее оригинальные аспекты учения сщмч. Дионисия? Нам повезло, что мы располагаем свидетельством схолий к Арео-пагитикам, традиционно приписываемых св. Максиму Исповеднику. Давно известно, что многие из этих схолий на самом деле были созданы Иоанном Скифопольским, ярым защитником Халкидонского Собора, осуществлявшим свою деятельность примерно в первой половине VI в. Недавнее исследование Беаты Регины Сучла и др. позволяет точно определить, какие схолии были написаны Иоанном, а какие св. Максимом. Также выяснилось, что их влияние оказалось даже более значительным, чем считалось ранее, поскольку первоначальная редакция схолий (содержащая написанные Иоанном) была включена в большинство рукописных копий корпуса уже к середине VI в.95 Обратимся вначале к оригинальным схолиям, а затем рассмотрим добавленные св. Максимом.
Иоанн определяет вечность (αἰών) как «непротяженную и безграничную жизнь» (ἀδιαστάτου καὶ ἀπείρου ζωῆς) или, более полно, как «жизнь, которая непоколебима и вся вместе сразу, уже бесконечная и совершенно неподвижная, выступающая как единство»96. Здесь он, по-видимому, имеет в виду вечность Бога, а не вечность ангелов, поскольку он неоднократно отмечает, что Бог вечен (αἰώνιος), сам являясь вечностью, тогда как создания вечны, будучи причастны вечности97. Позже он замечает, что термин αἰώνιος имеет ряд значений, но только Бог абсолютно αἰώνιος98. Возможно, Иоанн понимает под этим, что существует общее различие между αἰώνιος и ἀΐδιος; если это так, то он этого не объясняет. Вместо этого, комментируя утверждение в главе 10 из «Божественных имен» (10.3), что вещи, называемые вечными в Писании, не вполне совечны (συναΐδια) Богу, Иоанн поясняет, что, хотя бестелесные силы (то есть высшие ангелы) вечны (αἰώνια), они созданы Богом и поэтому не совечны Ему99. Таким образом, он определяет два основных различия между вечностью Бога и вечностью творений: во-первых, Бог вечен, будучи вечностью, тогда как создания вечны по причастию; во-вторых, даже вечные творения имеют причину своего бытия.
Отождествление Бога с вечностью напоминает блж. Августина и Боэция. Однако Иоанн не упускает из виду и другую сторону учения сщмч. Дионисия, а именно то, что Бога также можно отождествить со временем. Сразу после только что процитированного определения вечности он продолжает:
«Так и время, когда-то пребывавшее в покое в Том, Кто есть всегда, воссияло в своем нисхождении [καθ’ ὑπόβασιν], когда позднее понадобилось при появлении видимой природы. Итак, исхождение [πρόοδον] благости Бога в творении чувственных объектов мы называем временем. Ибо движение промежутков [ἡ κίνησις τῶν διαστάσεων] по частям, периодам, ночам и дням не есть время, одноименное времени. Точно так же, как мы привыкли называть одним и тем же именем меру и то, что измеряется, так и здесь: например, когда то, что измеряется локтем, будь то фундамент или стена, мы называем локтем. Согласно стиху «да будут они знамениями и периодами и годами» (Быт 1:14), движение звезд было запущено Богом для нас ради четкого разделения и различения [времени]. Следовательно, Единый, Кто приказал им, Сам является этими вещами сверхвечно [ὑπεραιωνίος] и вневременно, как их причина»100.
Здесь есть два различных способа упоминания Бога как времени. Один относится ко времени в собственном смысле слова: «исхождение благости Бога в творении чувственного». Время в этом смысле является Богом, так же как любое из божественных исхождений есть Бог, хотя он остается за его пределами как его источник. (Действительно, оно было «когда-то в покое в Том, Кто есть всегда», до того, как оно воссияло при сотворении чувственного мира.) Во-вторых, есть время как «движение временных промежутков», то, что измеряется временем в первом значении. В этом смысле Бога также можно назвать временем, точно так же, как Его можно назвать именем любого из Его творений, поскольку они изначально существуют в Нем как их причине. По аналогии можно различать два варианта, в которых Бог может быть назван Благом: благость как божественное исхождение и «благо» как совокупное отношение к тем творениям, которые причастны Благу в первом смысле. Иоанн осторожно использовал второй вариант определения Бога как времени посредством прилагательных «сверхвечный и вневременный», чтобы было ясно, что применение имени сотворенного мира к Богу не умаляет божественной трансцендентности.
Еще более поразительным является тот свет, который этот отрывок проливает на отношение между божественной вечностью и временем. Время как божественное проявление есть разворачивание божественной вечности — жизни Того, Кто всегда есть — в акте сотворения чувственных существ101. Вопреки обыкновению, здесь у сщмч. Дионисия вечность и время явно асимметричны, поскольку вечность отождествляется с божественной жизнью, тогда как время, хотя оно в равной степени является божественным исхождением, проявляется только в том, что Бог творит. Возможно, в этом Иоанн вдохновился Пло тином, для которого вечность — это жизнь Ума, а время — жизнь Души102.
Однако, в отличие от Плотина, Иоанн не приписывает время и вечность отдельным ипостасям, но рассматривает их как разные формы божественного самопроявления. На самом деле логика Иоанна, казалось бы, требует различения между типами вечности, параллельного различию между типами времени. Во-первых, есть вечность как божественное проявление, хотя и существующее независимо от творения; во-вторых, есть вечность как «времениподобное движение и протяженность» (по выражению св. Григория Богослова), которое сопротяженно жизни ангелов. Вечность во втором смысле — это своего рода способ, которым существа причащаются вечности в первом смысле.
Обратимся теперь к св. Максиму. Одно место у сщмч. Дионисия, которое не комментирует Иоанн, — это настойчивое утверждение, что Бог «воспевается должным образом» посредством использования темпорального языка. Св. Максим добавляет к этому пространную схолию. Комментируя утверждение в главе 5 из «Божественных имен» (5.8), что «было», «есть» и «будет» является «должным воспеванием» Бога, св. Максим пишет:
«А “было” и связанное с ним, как ни подумай, оказывается соответствующим Богу и никому другому, потому что “было” созерцается в Нем прежде всякого начала. “Есть” и “будет” Он имеет как во всех отношениях неизменный и по всему непреложный, почему и называется Сверхсущественным [ὑπερούσιος]… Как же, сказав ранее: “не был, не есть, не возник, не возникает, не возникнет” [5.4.817D], автор говорит здесь: “Он воспевается по справедливости так, будто Он есть, был, будет, произошел, происходит и произойдет”. Неужели святой Дионисий противоречит самому себе? Это невозможно. Выше ведь он назвал Его Творцом всяческих существования, ипостаси, сущности, природы и времени. Он правильно применил к Нему “был” и прочее, — чтобы ты понял, что не с какого-то времени, и не во времени, и не после времени начался Бог, но что Он выше и самого бытия. Ведь он сказал, что бытие — в Нем [ἐν αὑτῶ τὸ εἶναι]. Здесь же, сказав: “Он многократно умножается соответственно всякому помыслу”, — автор справедливо применил к Нему и “был”, и “будет” и последующее, — чтобы, мысля о времени и временах, ты находил Бога и в них, и Высшим сущего, и Предсущим, и Причиной и Творцом самого сущего, и ничем из сущего, как мы уже сказали, потому что, не являясь ничем из сущего, Он пребывает во всем»103.
Св. Максим сопоставляет фрагмент, утверждающий темпоральный язык о Боге («Божественные имена» 5.8), с другим фрагментом, отрицающим его (Там же, 5.4). Он усматривает в этой паре не противоречие, а подтверждение основного тезиса сщмч. Дионисия, что Бог присутствует как во всех вещах, так и вне всех вещей. Таким образом, Бог «умножается в соответствии со всеми понятиями». Наиболее радикальное утверждение св. Максим приводит в начале отрывка, где он превосходит даже сщмч. Дионисия, говоря, что «было» и другие временные понятия «не соответствуют никому, кроме Бога». Св. Максим здесь применяет к темпоральности принцип сщмч. Дионисия, согласно которому «вещи более полно и истинно существуют в своих причинах»104. Он заключает, что Бог «был» в более высоком смысле, чем творения, поскольку вся «бытность», вся временность происходит от него.
Есть также пункт, по которому св. Максим осторожно исправляет более раннюю схолию. Иоанн понял главу 10 «Божественных имен» (10.3) как учение о том, что ангелы просто вечны (хотя они таковы только по причастию), тогда как вещи, причастные и вечности, и времени, суть небесные тела105. На самом деле в тексте нет и намека на это. Поэтому св. Максим предлагает другое прочтение, согласно которому вещи, причастные и вечности, и времени, суть ангелы и души. «Сущее», в собственном смысле вечное, он понимает как вещи «вокруг Бога», означающие, предположительно, божественные ис-хождения106. Как я предположил в разделе I, это прочтение точнее соответствует не только фрагменту из главы 10 (10.3), но и общему контексту богословия сщмч. Дионисия.
Несмотря на это различие, св. Максим и Иоанн явно полностью принимают новшества сщмч. Дионисия. Отчасти благодаря их влиянию, наследие сщмч. Дионисия стало авторитетным для восточной традиции в целом. Последние разработки этой традиции, относящиеся к нашему предмету, можно найти в трудах св. Максима, помимо схолии, в частности, в «Вопросоответах к Фалассию» (по трудным местам в Писании) и в «Трудностях» (по сложным вопросам в сочинениях св. Григория Назианзина). Здесь мы находим расширение наследия сщмч. Дионисия, включая, прежде всего, применение его к эсхатологии. В качестве центрального св. Максим использует понятие из «Божественных имен», которого мы еще не касались, а именно: понятие разумных принципов (λόγοι) существ. В важном отрывке главы 5 сщмч. Дионисий отождествляет парадигмы творений с «разумными принципами [λόγους], которые порождают субстанцию существ и предсуществуют в единстве в Боге». Он добавляет, что «богословие называет их предопределениями [προορισμούς] и божественными и благими актами воли [θελήματα], которые производят и определяют вещи, посредством которых сверхсущественное предопределило и сотворило все существа»107. Здесь сщмч. Дионисий, по сути, определяет платоновские парадигмы как божественные акты воли, которые предопределяют бытие творений.
Понимание сщмч. Дионисием божественных λόγοι легло в основу онтологии св. Максима. Св. Максим добавляет к этому еще один пункт, заимствованный у Оригена и Евагрия, о том, что λόγοι существ соединены в одном божественном Логосе108. Таким образом, он понимает их как многократно преломленное присутствие Логоса в творениях. Каждый из них в отдельности отражает намерение Творца создать конкретное существо, так что взятые вместе они составляют целостность «изреченного слова» Творца. Как пишет св. Максим в «Трудностях» VII:
«Если отложить высочайшее, апофатическое богословие Логоса (согласно которому Он неизречен, немыслим, ни вообще не является чем-либо из того, что известно вместе с другим, поскольку Он сверхсуществен и не причаствуем ничем никоим образом), единый Логос есть множество λόγοι, а множество суть едино. Единое выражается во множестве через благое, творческое и постоянное исхож-дение Единого в существа; многие суть Одно через возвратное и направленное возвышение и промышление многих к Единому, как к всемогущему принципу или центру, предсодержащему принципы лучей, исходящих от него, и как средоточию всех вещей»109.
Именно «исхождение Единого в существа» делит единый Логос на множество λόγοι, а «возвратное и направленное возвышение и промышление многих к Единому» возвращает их к единству. Несмотря на эту принципиально неоплатоническую схему, исхождение Логоса в λόγοι является не необходимой эманацией, а свободным актом божественной воли. В другом месте св. Максим говорит о нем, как о некоем «космическом воплощении» Логоса, подобном историческому воплощению во Христе (и предвосхищающем его). Через него Логос, «будучи ради нас неизреченно скрыт в λόγοι существ, обозначает Себя [ὑποσημαίνεται] соразмерно в каждой зримой вещи, словно в неких письменах»110. Это означает, что исхождение Логоса в λόγοι является таким же свободным выражением собственного бытия Бога, как и само Воплощение. Мы здесь явно очень далеки от какой-либо концепции необходимой эманации.
Для наших целей важно отметить здесь, что λόγοι — это не столько платоновские парадигмы или аристотелевские сущности, сколько динамические принципы, управляющие развитием существ в соответствии с замыслом Творца. Другими словами, они, выраженные в разнообразной форме, по сути своей временны. Имея в виду этот аспект, св. Максим чаще предпочитает говорить о «λόγοι промысла и суда», или даже проще о «λόγοι времени». Хотя св. Максим нигде прямо не определяет соотношение между λόγοι промысла и суда и λόγοι существ, кажется, что подобно тому, как последние являются намерением Творца, выраженным в многообразии творения, первые являются Его намерением, выраженным через исторические процессы. Таким образом, они представляют собой принципы, управляющие божественным присутствием в истории и в жизни каждого человека, принципы, которые являются множественным выражением его собственного бытия111. Основываясь на таком понимании λόγοι провидения и суда, можно сказать, что для св. Максима сфера темпоральности — это, прежде всего, то, в чем Бог являет Свое бытие новым способом. Таким образом, она по своей сути направлена, будучи нацеленной на кульминацию, в которой единение λόγοι в Логосе будет экзистенциально (ὑπαρκτικῶς) реализовано112.
Наиболее развернутое суждение св. Максима по этому поводу приводится в ходе аллегорической интерпретации явления Моисея и Илии во время Преображения. Он подает их как образы, соответственно, времени и природы, каждое из которых появляется, чтобы воздать честь Христу. Моисей является особенно подходящим образом времени, поскольку сам он не ступил на Святую Землю вместе с теми, кого он привел туда. Св. Максим поясняет:
«Ибо таково время, не обгоняющее или сопутствующее в движении тех, кого оно призвано сопровождать к божественной жизни грядущего века. Ибо Иисус является универсальным преемником времени и вечности. Если так или иначе λόγοι времени пребывают в Боге, тогда здесь в неявном виде проявляется вхождение [в Землю Обетованную] закона, данного через Моисея в пустыне тем, кто получает эту землю во владение. Ибо время — это вечность, когда оно перестает двигаться, а вечность — это время, когда она, устремляясь, измеряется движением; поскольку по определению вечность — это время, лишенное движения, а время — это вечность, измеряемая движением»113.
Хотя Моисей (время) не входит в Землю Обетованную, законы, данные через Моисея — т. е., λόγοι времени, — входят туда, поскольку они «пребывают в Боге». Исторически Закон вступил в Землю Обетованную именно настолько, насколько он воплотился в практике и соблюдении израильтянами. Если можно настаивать на таком истолковании аллегории, тогда λόγοι времени возвращаются к единению в Боге через свое воплощение в жизнях тех, кто вступает в «грядущий век». Хотя св. Максим не подчеркивает это прямо, это соответствует той высокой роли, которую он повсюду приписывает человеческому послушанию как средству, с помощью которого Бог «принимает форму» в мире, «призывается и появляется как человек»114. Как минимум, не может быть никаких сомнений в том, что вечность и время здесь рассматриваются как взаимосвязанные и даже почти взаимозаменяемые: время становится вечностью, когда оно прекращает движение, и вечность становится временем, когда она приводится в движение. («Стать» здесь означает определяющее отношение, когда круг «становится» сферой при вращении через третье измерение.) Иисус выходит за пределы их обоих, и не только в качестве их источника, но также в качестве их «преемника» — т. е. Того, на Кого они нацелены и в Ком они находят завершение.
Важно отметить, что для св. Максима вечность или «жизнь будущего века» хотя и не имеет движения, не является и статическим состоянием, но направлена на завершение в Боге. Св. Максим развивает эту тему в другом фрагменте. Он говорит о состоянии блаженных как о «вечно движущейся устойчивости» (ἀεικίνητος στάσις) и «устойчивой тождественности в движении» (στάσιμον ταυτοκινησίαν)115. Это происходит в «бесконечности вокруг Бога», в области, которую Бог — хотя она и не сотворена — все же бесконечно превосходит как ее источник116. Св. Максим также описывает это состояние как причастность божественной деятельности (ἐνέργεια), хотя он осторожно поясняет, что такая сопричастность ни в коей мере не отвергает (в действительности даже требует) тварного самоопределения117. Это «неподвижное движение» блаженных в «бесконечности вокруг Бога» кажется у св. Максима едва ли не версией вечного прогресса, как у св. Григория Нисского. Тем не менее, св. Максим отчетливее, чем св. Григорий, подчеркивает, что такая «устойчивая тождественность в движении» это также состояние покоя, составляющего телос тварного движения118. Подобное слияние понятий покоя и движения позволяет предположить, что «движение», которое он имеет в виду, есть ἐνέργεια. Как я уже отмечал, Аристотель разделял ἐνέργεια от κίνησις и выделял ἐνέργεια как вневременную и, по своей сути, завершенную форму деятельности. В истолковании св. Максима, жизнь блаженных — это состояние постоянно растущей сопричастности ἐνέργεια, т. е. она одновременно является покоем и субъективно переживается как бесконечное развитие.
-
VI. Сравнение Востока и Запада
Если сопоставить восточную традицию, относящуюся ко времени и вечности, со средневековым Западом, сразу бросаются в глаза по крайней мере два различия. Одно из них — это более выраженная апофатическая направленность Востока. Никто в восточной традиции не отождествляет Бога с его собственной вечностью, как это делали блж. Августин, Боэций и Фома Аквинский; напротив, настойчивый рефрен состоит в том, что Бог пребывает за пределами как вечности, так и времени. Однако это простое сравнение следует тут же оговорить. Восточные авторы без колебаний отождествляют Бога с вечностью при условии, что это отождествление понимается как относящееся к божественной силе, исхождению или энергии, а не к божественной сущности или природе. Для них суть отождествления состоит в том, чтобы прояснить, что Бог вечен сам по себе, являясь вечностью, а не участвуя в вечности, как творения. Фактически было бы справедливо сказать, что предположение о том, что творения действительно причаствуют божественной вечности, является аксиомой, которая во многом определяет их мысль. Если такое причастие имеет место, то причаствуемый должен быть в некотором смысле Богом (иначе это не божественная вечность), но не может быть божественной сущностью (поскольку причаствовать божественной сущности — значит быть Богом по природе). Отсюда вывод, что Бог проявляет себя и разделяет Себя с творениями через божественную силу, исхождение или энергию — т. е. через акт, оставаясь при этом за пределами этого акта в качестве его источника.
Поскольку использование этих терминов греческими Отцами Церкви часто озадачивало толкователей как проблематичное, мне, возможно, следует сказать несколько слов о том, почему я не считаю его таковым. Конечно, есть великая тайна в том, как Бог может отдавать Себя таким образом, чтобы существа действительно могли причаствовать Его жизни. Об этом можно сказать только то, что Бог есть Бог и он может делать это. Однако, как только факт такого дарования принят, описание его с точки зрения сущности и энергии (или сопоставимых терминов) не представляет дополнительных трудностей. Любой агент находится «за пределами» своих действий как их источник, просто поскольку он — деятель, совершающий их. Это не мешает действию стать реальным проявлением его характера. Традиционный термин для причастия действию или энергии другого — «синергия» (συνεργεία). Как я уже неоднократно отмечал, возможность богочеловеческого сотрудничества ясно высказана в Новом Завете и подробно разработана греческими отцами Церкви119. Полагаю, что греческие отцы Церкви понимали различие сущности и энергии в таких непосредственных (в основном библейских) терминах, а потому пользовались ими свободно, не чувствуя, что это требует особого разъяснения.
С восточной точки зрения представление о том, что вечность может быть «самой сущностью Бога», явно неприемлемо, поскольку это означало бы, что существа не могут действительно участвовать в вечности. Однако западный автор, такой как Фома Аквинский, обнаружил бы здесь ложную дихотомию. Аквинат так же твердо, как и греческие отцы Церкви, утверждает, что блаженные причастны божественной вечности, но он считает, что они достигают этого посредством такой формы причастности, которую, по-видимо-му, не предусматривают греки. Он считает, что в блаженном видении благословенные приемлют божественную сущность (и, следовательно, божественную вечность) как умопостигаемый вид. Аквинат объясняет в сочинении «Сумма против язычников»:
«Акты определяются их объектами. Но объектом вышеупомянутого [благого] видения является сама по себе божественная субстанция, а не ее тварное подобие, как мы показали выше. Теперь бытие божественной субстанции есть в вечности, или, точнее, в есть сама вечность. Следовательно, такое видение также состоит в причастности к вечности»120.
В основе этого фрагмента лежит аристотелевский тезис о тождестве акта понимания с его объектом. Поскольку блаженные постигли божественную сущность в интеллектуальном акте, они в некотором смысле причастны божественной сущности, но не так, чтобы они стали Богом по природе. Как объяснял Аквинат ранее, блаженные соединяются с Богом не «в акте бытия, но только в акте понимания»121. Таким образом, томистская точка зрения полностью удовлетворяет требованию, чтобы существовала форма причастности божественной вечности, не предполагающая обожения по природе.
Причина, по которой такая возможность не приходит в голову греческим отцам Церкви, заключается в том, что они не рассматривают Бога как умопостигаемый объект. Для Фомы Аквинского Бог — наивысший умопостигаемый объект; в действительности его аргумент в пользу благого видения основан именно на этом предположении122. В этом он просто следует за блж. Августином, для которого Бог является «первоформой» (prima species) и как таковой сам по себе умопостигаем, сколь бы мало мы ни были способны постичь его в нашем нынешнем состоянии123. Таким образом, разница между восточной и западной традициями в отношении причастности божественной вечности проистекает из их разного отношения к апофатизму. Каждая традиция определяет форму причастности, которая согласуется с ее собственным пониманием Бога: одна мыслит Его за пределами интеллекта, другая — как наивысший умопостигаемый объект.
Эти соображения помогают объяснить, почему, несмотря на лингвистическое родство греческого αἰών и латинского aevum, на самом деле они не вполне подобны друг другу. Фома Аквинский рассматривает блаженное видение как telos (в аристотелевском смысле) всех разумных творений и, следовательно, конечной целью, состоянием «неподвижной устойчивости», в котором все естественные желания находятся в покое124. Соответственно, он утверждает, что не может быть прогресса в блаженстве125. Это означает, что aevum для Аквината означает не то, что означает αἰών для греческих Отцов — область огромного, постоянно растущего приближения к Богу. Роль aevum ограничивается тем, что оно служит некой мерой для природных ангельских действий, т. е. их актов бытия, самопознания и их природного знания творений. Акт блаженства (видение божественной сущности и творений как видимых в божественной сущности) измеряется не aevum, а причастной вечностью, и как таковой не имеет последовательности126. Таким образом, очевидно, что Аквинат не рассматривает блаженство человека как причастность ангельской aevum. Поскольку в блаженном видении нет прогресса ни для ангелов, ни для людей, aevum не имеет отношения к блаженству.
Фактически Аквинат представляет трехуровневую вселенную, в которой Бог, ангелы и временные существа каждые занимают разные уровни. Различия между ними являются онтологическими, и поэтому на них не влияют преднамеренные изменения, такие как достижение блаженства. Следовательно, соответствующие меры их бытия — вечность, aevum и время — одинаково предустановлены и различны. Фома Аквинский кратко излагает это трехчастное различие в «Толковании на ‘‘Сентенции’’»:
«Поэтому ясно, что акт тройственен. Одному типу не присуща никакая потенциальность; таково божественное бытие и его действие, и ему как мера соответствует вечность. Есть другой акт, в котором пребывает некоторая потенциальность, но все же это есть завершенный акт, полученный посредством этой потенциальности; и ему соответствует aevum . Наконец, есть еще один, которому присуща потенциальность, необходимая для завершения акта в соответствии с последовательностью, стремящейся к достижению совершенства; и ему соответствует время»127.
Бог, ангелы и временные существа — все имеют разные виды esse (существования): одно, полностью непотенциальное; второе завершенное, но, тем не менее, содержащее некоторую потенциальность (т. е. существования), актуализированную посредством творящей причины; третье достигает завершения только через временную последовательность. Это основные онтологические различия, не допускающие перехода от одного к другому. Соответственно, хотя Фома Аквинский поддерживает традиционное представление о том, что блаженные «равны ангелам», он обычно добавляет, что они равны в славе или в акте блаженства, а не в бытии128.
Это подводит нас ко второму из основных различий между восточной и западной традициями: сознанию преемственности между временем и вечностью в восточной традиции в противоположность их разделению на Западе. Ричард Дейлз отмечает, что вопрос о том, как связаны время и вечность, оказался для схоластов XIII в. практически неразрешимым129. Когда Аквинат затрагивает их оба, как в вопросе 10 из первой части, он, как правило, просто переходит от одного к другому без того, чтобы описывать какую-либо генетическую или внутреннюю связь между ними130.
Это произвольное соединение нашло отражение и в современной философии религии. Вообще говоря, современное обсуждение взаимосвязи времени и вечности, как правило, сосредоточено вокруг трех вопросов: (1) Как может Бог, будучи вечным, действовать в определенное время? (2) Как Бог может знать обусловленные временем пропозиции (если Он действительно их знает)? (3) Как Он может обладать личными или квази-личными атрибутами, такими как жизнь, воля и интеллект? Я не могу здесь привести полный обзор литературы по этому вопросу, однако стоит осветить общие очертания традиционного западного подхода к решению этих вопросов, отличающих его от Востока.
Что касается деятельности Бога во времени, блж. Августин уже признавал, что, если Бог прост и неизменен, он не столько действует в определенное время, сколько совершает некое единичное действие, имеющее множество временных последствий131. Фома Аквинский также считает, что воля и действие Бога совершенно просты и неизменны132. Представление о том, что Бог выполняет единый вечный акт (или, вернее, Сам является им) с несколькими временными последствиями, активно поддерживают современные томисты, в частности, Элеонора Стамп и Норман Крецманн133.
Вопрос о знании Богом темпорально отмеченных пропозиций не так широко обсуждался в античных источниках, но ограничения на ответ очевидны. Блж. Августин и Фома Аквинский подчеркивают, что в божественном знании не может быть последовательности, временной или иной134. Это может означать, что Бог не может знать, скажем, какое время сейчас, поскольку последнее является неизбежно временным фактом. Кэтрин Роджерс предположила, что именно такова была точка зрения блж. Августи-на135. Согласно Роджерс, отсутствие такого знания у Бога просто указывает на то, что Он не знает (и не может знать) что-либо так, как это делают временные существа. Она утверждает, что это не является большим несовершенством, чем тот факт, что Он не может действовать, как временные существа, т. е. с муками, усилием и возможностью неудачи. С другой стороны, Стамп и Крецманн придерживаются мнения, что Бог действительно владеет знанием темпорально отмеченных пропозиций. Их аргумент основан на представлении о том, что вечность (в особом смысле, который они определяют), одновременна с каждым временным событием. Так как «с точки зрения вечности каждое временное событие происходит на самом деле», Бог знает, что сейчас 3:50, и что теперь 3:51, и что теперь 3:52, и так далее136. Приемлемо ли это решение, оставляю судить читателю. Стамп и Крецманн, безусловно, правы в том, что это единственный способ приписать такое знание Богу и при этом утверждать, что его знание не имеет последовательности.
Третий пункт, пожалуй, самый сложный из всех. Фома Аквинский утверждает, что Бог является личностным существом (это не его, а мой термин) в трех стадиях: во-первых, у Бога есть жизнь и разум; во-вторых, у Бога есть воля; в-третьих, у Бога есть свобода выбора (liberum arbitrium). Здесь нет необходимости повторять его аргументы. Для наших целей важно уточнить, что если вопрос заключается в том, является ли Бог личностным существом примерно того типа, который изображен в Библии, то первых двух свойств недостаточно. Перводвигатель Аристотеля обладает жизнью и разумом, и, действительно, Фома Аквинский заимствует здесь аргументы Аристотеля. Подобным образом, Единое у Плотина обладает волей, по крайней мере, в широком смысле, определенном Аквинатом, т. е. как разумное стремление к Благу137. И все же ни один из них не очень похож на библейского Бога. Истинную весомость имеет третий пункт: утверждение о свободном выборе. К сожалению, именно здесь возникают серьезные трудности. Фома Аквинский не без оснований полагает, что свободный выбор подразумевает возможность поступить иначе. Тогда возникает вопрос, как Бог мог поступить иначе, учитывая, что его воля и его действия идентичны его сущности. Казалось бы, если бы Он желал или делал что-либо иначе, чем Он на самом деле делает, то Он был бы другим в сущности. Это вынудило бы сущность Бога зависеть от его отношения к творениям, что совершенно неприемлемо для традиционной ортодоксии138.
По общему признанию, проблема здесь имеет самое непосредственное отношение к божественной простоте и лишь косвенно — к божественной вечности. Более непосредственным знаком того, что существует трудность примирения западного понимания вечности с божественной личностностью, является явное желание переосмыслить вечность как нечто в известной мере протяженное. Как отмечают Стамп и Крецманн, «было бы разумно полагать, что любой способ существования, который можно было бы назвать жизнью, должен включать в себя длительность», соответственно, в их собственном истолковании вечность Боэция — это «безначальная, бесконечная, бескрайняя длительность»139. Эта точка зрения подвергалась сомнению как по экзегетическим причинам, так и в отношении ее внутренней со-гласованности140. Тем не менее, трудно отрицать, что полностью лишенная протяженности и продолжительности жизнь представляется prima facie невозможной. Поразительно, что Брайан Шенли, подробно доказывая, что Аквинат не считает вечность протяженной, тем не менее полагает (вслед за Брайаном Лефтоу), что мы должны представлять ее «как неделимую, не расширяемую точку и вместе с тем как бесконечно протяженную продолжительность», что во многом напоминает представление физиков о свете как о частицах и волнах141. Данная теория кажется мне более сомнительной в плане согласованности, чем аргументы Стамп и Крецманна. Это еще одно свидетельство (если таковое вообще необходимо) того, что даже самые проницательные и исторически осведомленные ученые испытывают затруднение, пытаясь согласовать традиционное понимание вечности со сколь-нибудь убедительным представлением о Боге как о живом и личностном существе.
-
VII. Дальнейшие размышления о восточном взгляде
Урок, извлекаемый из нашего исторического обзора, заключается в том, что сама форма, которую приняли эти дискуссии, обусловлена резким различием между временем и вечностью, характерным для западной традиции. Вечность постулируется как один способ бытия, время — как другой, и это порождает вопрос: как эти два способа, будучи столь разными, могут сочетаться или пересекаться. Аналогичный вопрос закономерно возникает в отношении греческой традиции, предшествующей сщмч. Дионисию, с ее подчеркиванием адиастемического характера божественной жизни. Однако, поскольку греческая традиция не идентифицировала божественную вечность с божественной сущностью, она имела значительно больше пространства для маневра. В конечном итоге тупик был преодолен сщмч. Дионисием и его комментаторами. Признание этого факта стало решающим элементом, недостающим в современных дискуссиях о времени и вечности.
Главное нововведение зрелой восточной традиции заключается в понимании времени и вечности как божественных исхождений, которые не только параллельны и различны, но и генетически связаны. Процитируем еще раз Иоанна Скифопольского: «Время, будучи некогда в состоянии покоя в Том, Кто всегда есть, просияло в своем нисхождении, когда оно понадобилось для возникновения видимой природы. Итак, исхождение благости Бога в творении чувственных объектов мы называем временем»142. Здесь время — это исхождение, которое появляется, когда Бог создает чувственный мир; однако и до самого творения оно уже имплицитно присутствовало «в покое» в божественной вечности. Затем Иоанн продолжает различать время как исхож-дение и время как «движение промежутков к частям, периодам, ночам и дням», которое измеряется временем в первом смысле и само тоже может быть названо временем омонимически. Как я предлагал ранее, можно было бы аналогичным образом провести различие между божественной вечностью и «времениподобным движением и протяженностью», т. е. вечностью ангелов. В каждой оппозиции последний член — это модус, в котором существа сопричастны первому члену.
Собирая все элементы вместе, мы получаем четырехчастную структуру:
-
(1) (а) Вечность как божественное исхождение, «жизнь, которая непоколебима и вся вместе сразу, уже бесконечна и полностью неподвижна, выступающая как единство».
-
(б) Ангельская вечность, «времениподобное движение и протяженность», сопротяженная с жизнью ангелов.
-
(2) (а) Время как божественное исхождение, «исхождение благости Бога в творении чувственных объектов».
-
(б) Время как творение, «движение промежутков к частям, периодам, дням и ночам».
Несколько звеньев связывают эту структуру в целое. Как я уже упоминал, (2)(a) — это развертывание в творческом акте (l)(a), и в каждой паре (b) — это способ, которым существа причаствуют (a). Кроме того, согласно св. Василию, (2)(b) является образом или иконой (εἰκών) (l)(b). (Мы скоро вернемся к этому пункту.) Один из способов резюмировать эти различные отношения видится в распознавании здесь повторяющегося образца: исхождение — возвращение. (1)(а) и (2)(а) — это исхождения Бога в умопостигаемых и чувственных творениях; (l) (b) и (2)(b) — это соответствующие акты возвращения. Однако, принимая этот неоплатонический язык, нужно соблюдать осторожность, чтобы не внести никаких намеков ни на необходимую эманацию, ни на иерархию бытия, в которой нижние уровни служат только лестницей к высшим. И вечность, и время — это способы, которыми непознаваемый Бог свободно проявляет себя. Верно, что время является «иконой» вечности, но это означает только то, что оно обретает в ней свой окончательный смысл и завершение, а не то, что оно бесполезно само по себе. Учение св. Максима особенно здраво в этом отношении, особенно если (как я предположил ранее) именно через воплощение в жизнях верующих λόγοι времени воспринимаются и включаются в грядущий век.
В глазах Запада, по меньшей мере, часть этой структуры выглядит знакомой, поскольку определение божественной вечности во многом похоже на определение Боэция. В этом нет ничего удивительного, ведь оба направления, вероятно, опирались на Плотина. Однако, поскольку с восточной точки зрения божественная вечность — это не божественная сущность, а божественное исхождение, она может быть вплетена (или, точнее, развернута) в остальную структуру указанными способами. В этом состоит вся разница. Благодаря генетическим отношениям, связывающим структуру в целое, в ней нет ничего чуждого Богу. Действительно, нет ничего, что не Бог, если понимать это правильно, как форму божественного самопроявления.
Если мы вернемся теперь к трем вопросам, которые оказались столь проблематичными на Западе, мы обнаруживаем здесь, что это не столько проблемы, для которых найдено решение, сколько то, что они даже 190 Труды кафедры богословия № 1 (9), 2021
не возникают. Разумеется, Бог присутствует и действует в каждый момент времени, потому что само время — это его действие. Нет необходимости пытаться понять его различные временные действия как следствия единого вечного акта, поскольку изъята сама предпосылка, вызывавшая такую необходимость: отождествление деятельности Бога с Его сущностью. Точно так же, разумеется, Бог знает, какой момент времени сейчас, потому что Он является причиной этого момента, как и любого другого. Поскольку он действует как «все вместе сразу», т. е. как вечность, а также во времени и через его последовательность, его знание принимает обе формы. Это означает, что не стоит опасаться приписывать божественному знанию последовательность. Последовательность реальна, как само время; тем не менее, она, как и время, являет собой развертывание того, что уже предсодержится в божественной вечности143.
Третий вопрос более тонкий. Проблема, с которой западная традиция столкнулась, заключается в необходимости не допустить, чтобы доктрина божественной вечности представляла Бога как безличный первый принцип, слишком похожий на Перводвигатель. Как я уже упоминал, стратегия Аквината (будем считать ее репрезентативной) состоит в том, чтобы, в общих чертах опираясь на аристотелевскую основу, пытаться показать, что Бог также обладает и такими свойствами, как воля и свободный выбор. Эта стратегия, на первый взгляд, бесперспективна. Проблема в том, что Бог Библии — не то существо, которое можно составить путем добавления [свойств] к представлению о каком-либо меньшем существе. Библейского Бога делает «личностным» не просто обладание такими свойствами, как интеллект, воля и т. д., но то, что Он действует как суверен и абсолютно притязает на нашу любовь и послушание. Его действия являются не безучастным проявлением, а требованием стоять в Его присутствии и жить как Ему подотчетный. В этом свете Бог является личностным только в том смысле, что Он Единый, Кому мы должны предстоять. Наше представление о личности не является родом, которому Он подпадает; напротив, это просто образ (φαντασία), который мы создали, пытаясь предстать перед Ним. Его нельзя определить в терминах не только этого, но и любого другого человеческого понятия.
Поскольку христианский Восток не опирался на аристотелевскую основу, он не сталкивался с проблемой попытки «спасти» божественную личност-ность. Вместо этого проблема восточного богословия заключалась в очевидной (даже неизбежной) трудности: как осмысливать Бога, если Он за пределами всех человеческих представлений. Ответом послужило равновесие (точнее, осторожное переплетение) апофатического и катафатического. Как я уже отмечал, такая система позволяет естественно сформулировать понятие библейского откровения144. С восточной точки зрения, Бог — это не столько личность, обладающая жизнью, разумом и волей, сколько Тот, Кто пронизывает человеческую сферу таким образом, который мы можем постичь, частично и неадекватно, через эти понятия. Как выразился св. Григорий Назианзин, они суть образы, которые необходимо «объединить в своего рода представление истины, которая ускользает от нас, когда мы ее поймаем, и улетает, когда мы ее постигли».
Отреагировать на эту точку зрения можно, например, усмотрев в ней совет отчаяния. Если Бог столь радикально превосходит человеческие представления, а наши наиболее тщательно составленные описания Его столь далеки от истины, то можно ли вообще надеяться, что мы способны узнать, каков Он есть? Обращение к посмертной жизни просто отодвигает проблему на задний план, потому что даже в жизни-после-смерти мы по-прежнему остаемся конечными умами, действующими в рамках своих представлений. К тому же, греческие отцы Церкви отрицают прямое познание божественной сущности в посмертной жизни. В соответствии с апофатизмом словесные описания Бога, которые они предлагают, часто остаются без каких-либо подтверждающих объяснений. Мы видели, что Иоанн Скифопольский принимает неоплатоническую концепцию божественной вечности как «жизни, которая непоколебима и вся вместе сразу, уже бесконечна и совершенно неподвижна, выступающая как единство». Однако, в отличие от западных авторов, он не пытается прояснить значение этого довольно парадоксального описания через метафоры, например, чего-то вроде линии, точки и т. п. Он позволяет этому оставаться тайной.
Как ни странно, никто в восточной традиции, кажется, не чувствовал потребности в дальнейших разъяснениях. Если мы хотим понять эту точку зрения, мы должны искать не на концептуальном уровне, а на уровне практики. Здесь решающее значение приобретает знаковое отношение между временем и вечностью. Вместо концептуального руководства в понимании божественной вечности греческие отцы Церкви предлагают образ жизни, в котором время переживается как выражение вечности, так что на собственном опыте можно предвосхитить непосредственную причастность божественной вечности будущего века. Эта практическая ориентация очевидна в том фрагменте сочинения «О Святом Духе», где св. Василий говорит о времени как о выражении вечности. Контекст состоит в том, что он объясняет важность неписаных традиций, которые передаются от апостолов в тайне (ἐν μυστηρίωι, Кор 2:7). Одна из них — это молитва без коленопреклонения по воскресеньям.
«В первый день недели мы молимся стоя, но не все знают, в чем причина этого.
Ибо не только потому, что мы воскресаем со Христом и должны стремиться к высшему, в день Воскресения мы вспоминаем о благодати, данной нам, стоя для молитвы; но также, я думаю, потому, что этот день в некотором роде является образом [εἰκών] будущего века. Вот почему также, будучи первым принципом [ἀρχή] дней, Моисей назвал его не “первым”, а “одним”. “Был, — говорит он, — вечер и утро, один день”, как если бы он постоянно возвращался сам по себе. Вот почему это одновременно один и восьмой, то, что на самом деле является одним и поистине восьмым, о котором псалмопевец говорит в заголовках некоторых псалмов, обозначая этим состояние, которое будет следовать за веками, днем без конца, другую эпоху, в которой не будет ни вечера, ни последовательности, ни прекращения, ни старости. Таким образом, именно в силу авторитетного утверждения
Церковь учит своих детей молиться стоя в этот день, чтобы, постоянно вспоминая вечную жизнь, мы не могли пренебрегать средствами, которые ведут нас к ней»145.
Молиться, не преклоняя колен, по воскресеньям — это не только память о Воскресении, но предвкушение жизни будущего века, выражением которого и является воскресенье. В таком акте человек сознательно живет в рамках иконического значения времени, принимая время как выражение в нашем нынешнем чувственном существовании безмерной полноты вечной жизни.
То, что верно в отношении этого отдельно взятого акта, также верно, в более широком масштабе, для всего литургического этоса Восточной Церкви. Вот еще один фрагмент об иконической природе времени, на этот раз от св. Григория Назианзина. Он обсуждает праздник Октавы Пасхи, когда новокрещенные сняли белые одежды, в которые они облачались после крещения в Святую Субботу. Этот праздник имел гораздо большее значение в древней Церкви, чем сегодня, поскольку он рассматривался как символическое признание перехода из земного времени в новое творение.
«Это воскресенье [Пасха] — это воскресенье спасения, это годовщина спасения; это была граница между погребением и воскресением; это полностью второе творение, так что, поскольку первое творение началось в воскресенье (это совершенно ясно: суббота наступает через семь дней после него, будучи отдыхом от дел), второе творение началось в тот же день, который одновременно является первым по отношению к тем, которые идут после него, и восьмым по отношению к тем, что были до него, более возвышенным, чем возвышенный день, и более прекрасным, чем прекрасный день: ибо он связан с жизнью горней. Это то, что, как мне кажется, божественный Соломон хочет символизировать, когда приказывает (Еккл 11:2) отдать часть, семь, некоторым, то есть этой жизни; а другим — восемь, то есть будущей жизни: он говорит о добрых делах здесь и о восстановлении жизни за ее пределами»146.
Согласно древним правилам счета, первое воскресенье после Пасхи также является восьмым днем после Пасхи. Это делает его «более возвышенным, чем возвышенный день, и более прекрасным, чем прекрасный день», поскольку он первым выходит за пределы семидневного цикла нашего настоящего времени в жизнь грядущую. Св. Григорий, опираясь на раввинистиче-скую традицию, связывает этот праздник с Еккл 11:2: «отдай часть этого семи и даже восьми»147. Первая часть, которую должно отдать семи, т. е. этой жизни, это добрые дела; «восьмерка», которую нельзя отдать, но можно только получить, — это воскресение. В этом довольно странном экзегетическом отступлении св. Григорий усматривает в празднике не только празднование жизни будущего века, но и напоминание о том, как следует жить, чтобы достичь его.
Эти два фрагмента типичны для чувства времени, которое пронизывает восточную традицию. Значение времени следует искать не в его внешних характеристиках, таких как его способность служить мерой движения, а, скорее, в возможности, которую оно предоставляет для предстояния в присутствии Бога. Такое «предстояние» может быть очень активным, как в совершении добрых дел, упомянутых св. Григорием, но в не меньшей степени это образ бытия, который превращает наше временное существование в выражение чего-то более высокого. Вот почему для Востока божественная вечность — это не философское понятие, требующее объяснения, а тайна, которую можно познать, только живя в ней.
Список литературы Время и вечность в сочинениях греческих отцов церкви
- Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. С толкованиями преп. Максима Исповедника. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2010. 464 с.
- Плотин. Третья Эннеада / Пер. с древнегреч. Т. Г. Сидаша; вступ. ст. Т. Г. Сидаша, Д. Ю. Сухова. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2016. 478, [1] с.
- Ante-Nicene Fathers. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1986.
- Aristotle. On the Heavens / Trans. by W. K. C. Guthrie. (Loeb Classical Library 338). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1939.
- Balas D. L. Eternity and Time in Gregory of Nyssa's Contra Eunomium // Gregor von Nyssa und Die Philosophie / Ed. by H. Dorrie, M. Attenburger, U. Schramm. Leiden: E.J. Brill, 1976. P. 128-155.
- Basil of Caesarea. Against Eunomius // PG. Vol. 29. Col. 497-670.
- Basil of Caesarea. On the Hexaemeron // PG. Vol. 29. Col. 5-208.
- Basil of Caesarea. On the Holy Spirit // PG. Vol. 32. Col. 67-218.
- Berthold G. C. Did Maximus the Confessor Know Augustine? // Studia Patristica. 1982. Vol. 17. P. 14-17.
- Blowers P. Maximus the Confessor, Gregory of Nyssa, and the Concept of 'Perpetual Progress // Vigiliae Christianae. 1992. Vol. 46. P. 151-171.
- Blowers P.M. Exegesis and Spiritual Pedagogy in Maxin1us the Confessor. Notre Dame, 1991.
- Boethius. On the Hebdomads // Idem. Theological Tractates. The Consolation of Philosophy (Loeb Classical Library). Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1973.
- Boethius. On the Trinity // Idem. Theological Tractates. The Consolation of Philosophy (Loeb Classical Library). Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1973.
- Boethius. The Consolation of Philosophy // Idem. Theological Tractates. The Consolation of Philosophy / Trans. by S.J. Tester. (Loeb Classical Library). Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1973.
- Bradshaw D. In What Sense Is the Prime Mover Eternal? // Ancient Philosophy. 1997. Vol. 17. P. 359-369.
- Bradshaw D. The Divine Energies in the New Testament // St. Vladimir's Theological Quarterly. 2006. Vol. 50. P. 189-223.
- Bradshaw D. Aristotle East and West: Metaphysics and the Division of Christendom. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Bradshaw D. The Divine Glory and the Divine Energies // Faith and Philosophy. 2006. Vol. 23. P. 279-298.
- Bradshaw D. The Vision of God in Philo of Alexandria // American Catholic Philosophical Quarterly. 1998. Vol. 52. P. 483-500.
- Cj P. Participated Eternity in the Vision God: A Study of the Opinion of Thomas Aquinas and His Commentators on the Duration of the Acts of Glory. Rome: Gregorian University Press, 1964.
- Clemens Alexandrinus: Stromata Buch I-VI / Ed. by O. Stählin. Berlin: Akademie Verlag, 1960.
- Collins J. The Thomistic Philosophy of the Angels. Washington, D. C.: The Catholic University of America Press, 1947.
- Commentary on the Timaeus / Ed. by E. Diehl. Leipzig: Teubner, 1903-1906.
- Corpus Dionysiacum / Ed. by B.R. Suchla, G. Heil, A.M. Ritter. Berlin, N.Y.: Walter de Gruyter, 1990-1991.
- Courcelle P. Late Latin Writers and Their Greek Sources. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969.
- Craig W.L. The Eternal Present and Stump-Kretzmann Eternity // American Catholic Philosophical Quarterly. 1999. Vol. 73. P. 521-536.
- Dales R. Time and Eternity in the Thirteenth Century // Journal of the History of Ideas. 1988. Vol. 49. P. 27-45.
- Danielou J. The Bible and the Liturgy. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1956.
- Danielou J. The Angels and Their Mission. Westminster, Md.: Newman Press, 1957.
- Dekkers D.E. Les traductions grecques des écrits patristiques latins // Sacris Erudi. 1953. Vol. 5. P. 193-233.
- DillonJ. The Middle Platonists, 80 B.C. to A.D. 220. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1977.
- Dillon J. The Transcendence of God in Philo: Some Possible Sources. Berkeley: Center for Hermeneutical Studies, 1975.
- Exegesis and Spiritual Pedagogy in Maxin1us the Confessor. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1991.
- Golitzin A. Dionysius Areopagita: A Christian Mysticism? // Pro Ecclesia. 2003. Vol. 12. P. 161-212.
- Golitzin A. Et introibo ad altare Dei: The Mystagogy of Dionysius Areopagita. Thessalonica: Patriarchikon Idruma Paterikon Meleton, 1994.
- Golitzin A. The Experience of God in Eastern Orthodox Christianity // Pro Ecclesia. 1999. Vol. 8. P. 159-186.
- Gregorii Nysseni Opera / Ed. by W.Jaeger et al. [= GNO]. Leiden: E.J. Brill, 1960-1996.
- Gregory Nazianzen. Orations 38 // PG. Vol. 36. Col. 311-334.
- Jones J. (Mis?)-Reading the Divine Names as a Science: Aquinas's Interpretation of the Divine Names of (Pseudo) Dionysius Areopagite // St. Vladimir's Theological Quarterly. 2008. Vol. 52. Is. 2. P. 143-172.
- Jones J. An Absolutely Simple God? Frameworks for Reading Pseudo-Dionysius the Areopagite // The Thomist. 2005. Vol. 69. P. 371-406.
- Louth A. Denys the Areopagite. London: Geoffrey Chapman, 1989.
- Louth A. Maximus the Confessor. London, New York: Routledge, 1996.
- Meijering E.P. Hv поте оте oùk |v о YLôç: A Discussion of Time and Eternity // Meijering E. P. God Being History: Studies in Patristic Philosophy. Amsterdam: North Holland Publishing, 1975. P. 81-88.
- Origen. Commentary on John // Origenes Werke / Ed. by E. Preuschen. Vol. 4. Leipzig: J. C. Hinrichs, 1903.
- Origen. On First Principles / Trans. G.W. Butterworth. Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1973.
- Otis B. Gregory of Nyssa and the Cappadocian Conception of Time // Studia Patristica. 1976. Vol. 14. Is. 3. P. 327-357.
- Patterson R. On the Eternality of the Platonic Forms // Archiv für Geschichte der Philosophie. 1985. Vol. 67. P. 27-46.
- Philo / Ed. and trans. by F. H. Colson, G. H. Whitaker. (Loeb Classical Library). Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1929-1962. 10 vols.
- Plotinus. Enneads / Trans. by A. H. Armstrong. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1966-1988.
- Porphyry. Elements of Theology / Ed. by E. Dodds. Oxford: Clarendon Press, 1963.
- Porphyry. Sententiae / Ed. by E. Lamberz. Leipzig: Teubner, 1975.
- Porro P. Angelic Measures: Aevum and Discrete Time // The Medieval Concept of Time: Studies on the Scholastic Debate and Its Reception in Early Modern Philosophy / Ed. by P. Porro. Leiden: Brill, 2001. P. 131-159.
- RistJ. M. Stoic Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
- Rogers K. St. Augustine on Time and Eternity // Idem. The Anselmian Approach to God and Creation. Lewiston, N. Y.: Edwin Mellen Press, 1997. P. 131-149.
- Rogers K. Eternity Has No Duration // Religious Studies. 1994. Vol. 30. P. 1-16.
- Rogers K. The Traditional Doctrine of Divine Simplicity // Religious Studies. 1996. Vol. 32. P. 165-186.
- Rorem P., Lamoreaux J. John of Scythopolis and the Dionysian Corpus: Annotating the Areopagite. Oxford: Clarendon Press, 1998.
- Sciuto I. II concetto di aevum nel pensiero medioevale // Il tempo in questione: Paradigmi della temporalita nel pensiero occidentale. Milan: Geurini e Associati, 1997. P. 130-141.
- Shanley B. Eternity and Duration in Aquinas // The Thomist. 1997. Vol. 61. P. 525-548.
- Sherwood P. The Earlier "Ambigua" of Saint Maximus the Confessor and his refutation of Origenism. Rome, 1955.
- St. Maximus the Confessor. On the Cosmic Mystery of Jesus Christ / Trans. by M. P. Blowers, R. L. Wilken. Crestwood, N.Y.: St. Vladimir's Seminary Press, 2003.
- Steel C. The Neoplatonic Doctrine of Time and Eternity and Its Influence on Medieval Philosophy // The Medieval Concept of Time: Studies on the Scholastic Debate and Its Reception in Early Modern Philosophy / Ed. by P. Porro. Leiden: Brill, 2001. P. 3-31.
- Steel C. Dionysius and Albert on Time and Eternity // Die Dionysius-Rezeption im Mittelalter / Ed. T. Boiadjieic, G. Kapriev, A. Speer. Turnhout: Brepols, 2000. P. 317-341.
- Stump E, Kretzmann N. Eternity // Journal of Philosophy. 1981. Vol. 78. P. 429-458.
- Stump E., Kretzmann N. Absolute Simplicity // Faith and Philosophy. 1985. Vol. 2. P. 353-381.
- The Nicene and Post-Nicene Fathers. Series 1 / Ed. by P. Schaff. Grands Rapids, Mich.: Eerdmans, 1980.
- Theological Dictionary of the New Testament / Ed. by G. Kittel. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1964.
- Thomas Aquinas. Sent. / Ed. by P. Mandonnet. Paris: P. Lethielleux, 1929-1947.
- Thomas Aquinas. Summa contra Gentiles / Trans. by A. Pegis. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1975.
- Thunberg L. Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of Maximus the Confessor. Lund: C. W. K. Gleerup and Ejnar Munksgaard, 1965.
- Tzamalikos P. Origen and the Stoic View of Time // Journal of the History of Ideas. 1991. Vol. 52. P. 535-561.
- Tzamalikos P. The Concept of Time in Origen. New York: Peter Lang, 1991.
- Verghese T.P. Aiaax^pa and Siäaxaai^ in Gregory of Nyssa: Introduction to a Concept and the Posing of a Problem // Gregor von Nyssa und die Philosophie. Zweites Internationales Kolloquium über Gregor von Nyssa. Freckenhorst bei Münster, 18-23 September 1972 / Ed. by H. Dörrie, M. Altenburger, U. Schramm. Leiden, 1976. P. 243-260.
- Whittaker J. Philological Comments on the Neoplatonic Notion of infinity // The Significance of Neoplatonism / Ed. by R. Baine Harris. Norfolk, Va.: Old Dominion University, 1976. P. 155-172.