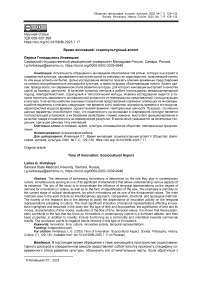Время инноваций: социокультурный аспект
Автор: Иливицкая Л.Г.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
Актуальность обращения к инновациям обусловлена той ролью, которую они играют в современной культуре, одновременно выступая одной из значимых ее характеристик, позволяющей понять те или иные аспекты ее бытия. Целью исследования является показать влияние временных представлений на степень востребованности инноваций в культуре, а также на форму объективизации нового. Акцент сделан, прежде всего, на современном этапе развития культуры, для которого инновации выступают в качестве одной из базовых ценностей. В качестве основных методов в работе использованы междисциплинарный подход, компаративистский, структурный и типологический методы. Новизна исследования видится в попытке прояснить зависимость инновационной активности от темпоральных представлений, господствующих в культуре. В качестве наиболее значимых показателей представлений о времени, влияющих на инновации, в работе выделены и описаны следующие: тип времени и его свойства, значимость времени и его модусов, характеристика модусов времени, оценка течения времени, темпоральные ценности. Показано, что именно данные параметры способствуют тому, что нацеленность на инновации в современной культуре является господствующей установкой, а их базовыми свойствами, помимо новизны, выступают функционирование в качестве товара и нацеленность на коммерческий результат. В заключение указывается на негативные тенденции, присущие данному типу инноваций.
Инновации, время, культура, инновационное общество, темпоральные представления
Короткий адрес: https://sciup.org/149148795
IDR: 149148795 | УДК: 008+001.895 | DOI: 10.24158/fik.2025.7.17
Текст научной статьи Время инноваций: социокультурный аспект
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России, Самара, Россия, ,
,
многочисленным и весьма разнообразным вариантам его (этапа) терминологического обозначения («информационное общество» (Э. Тоффлер), «постиндустриальное общество» (Д. Белл), «научное общество» (М. Понятовский), «телематическое общество» (Д. Мартин), «технотронное общество» (З. Бжезинский) и др.), то все они в той или иной степени предполагают, что в качестве одной из главных характеристик современного общества выступают высокие темпы изменений. У. Эко, рассуждая о самой возможности сравнения нашей эпохи и эпохи Средневековья, в качестве главного критерия, их разделяющего, указывал именно на динамику изменений. «Всякая попытка установить полное соответствие [между современной эпохой и Средневековьем] была бы наивной хотя бы потому, что мы живем в период невероятно ускоренных процессов, когда происходящее за пять наших лет может порой соответствовать происходящему тогда за пять веков…»1. По мнению В.С. Степина, отличительными чертами современной цивилизации выступают изменение и прогресс, которые одновременно являются ее базовыми ценностями. «Она [цивилизация] вроде двухколесного велосипеда, который тогда устойчив, когда движется, а как только остановится – упадет. Инновации здесь – главная ценность» (Степин, 2006: 26).
Наглядным подтверждением значимости инноваций для современной культуры служат, в частности, многочисленные рейтинги, измеряющие уровень развития и оценивающие степень успешности различных образований глобального или локального характера. Так, на международном уровне для стран рассчитываются: Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index), индекс инновационной способности экономики (National Innovative Capacity Index), рейтинг инновационных экономик мира (Bloomberg Innovation Index). Внутри той или иной страны уже отдельные области сравниваются по уровню инновационности. В России, в частности, составляют рейтинг инновационного развития субъектов и рейтинг инновационных регионов. Города также спорят между собой за право лидерства в этой области, что отражается, например, в рейтинге инновационной привлекательности мировых городов (HSE Global Cities Innovation Index) или глобальном рейтинге инновационных городов мира (2thinknow, Австралия).
Материалы и методы . Акцент, сделанный на взаимосвязи инноваций и современной культуры, уже позволяет ввести временной параметр в проблематику инноваций. Вопрос, который отражает в данном случае присутствие времени, звучит следующим образом: являются ли инновации феноменом, соотносимым, прежде всего, с современностью? То есть речь идет о присутствии, вернее, степени присутствия инноваций на исторической шкале. Ответ на обозначенный вопрос требует обращения к понятийному оформлению инноваций, по крайней мере, в рамках двух дисциплинарных областей: культурологической и экономической. На то, что они существенным образом расходятся в понимании данного феномена, указывает целый ряд авторов (Бразевич, 2014; Орлова, 2013; Царев, 2010).
Культурологический подход небезосновательно претендует на лидерство в плане использования понятия «инновация». Термин получает свое обоснование в ходе дискуссий о развитии культуры. В работах Ф. Боаса, Ф. Гребнера, Б. Малиновского, М. Мида и других он выступает антонимом понятию «традиция». В инновациях видится основной источник изменений в культуре. Такая весьма широкая трактовка инноваций позволяет использовать данное понятие применительно к любому типу общества и любому периоду культуры. Следует также отметить, что культурологический взгляд на первых этапах в меньшей степени сосредотачивал свое внимание на исследовании того, что, по сути, представляют собой инновации, каковы их базовые черты. В центре внимания находилось изучение закономерностей их возникновения и распространения.
Экономические дисциплины заимствуют данное понятие для своих объяснительных моделей в начале XX века. Они трансформируют его содержательное наполнение, значительно сужая его. При этом вопрос о сущности инноваций становится не менее значимым, чем о закономерностях. Так, в работах одного из основоположников инновационной теории Й. Шумпетера под инновацией понимаются такие комбинации «вещей и сил», которые связаны с изготовлением нового продукта, внедрением нового метода производства, освоением нового рынка сбыта, открытием нового источника сырья и проведением реорганизации (Шумпетер, 1982). С точки зрения экономического подхода, не любое изменение и не всякое новшество может быть определено как инновация. Необходимо соблюдение трех условий, а именно: научно-технической новизны, удовлетворения рыночного спроса, нацеленности на коммерческий результат. При этом не динамика культуры ставится во главу угла при обращении к инновациям, а экономическая эффективность общества.
Позиция, согласующая данные подходы, предполагает, что инновации, как источник развития цивилизации, обнаруживают себя на любом этапе развития человечества (в противном слу- чае данное развитие не могло бы состояться). Способность к изменениям, продуцированию нового является неотъемлемой характеристикой любой культуры. Однако форма представленности инноваций может быть различной: откровение, открытие, изобретение, новация и т. д.1 Для современного этапа развития новое объективизируется в культуре как инновация, понимаемая как раз в технико-экономическом контексте.
Обсуждение . И здесь уже возникает другой вопрос: какие факторы определяют количество инноваций, форму их воплощения, а также степень востребованности. Безусловно, в исследованиях можно встретить достаточно широкий перечень показателей культуры, оказывающих самое существенное влияние на данные аспекты.
Так, Г. Хофстеде, опираясь на выделенные им четыре измерения культуры (дистанция власти, индивидуализм/коллективизм, маскулинность/феминность, избегание неопределенности), предполагал, что большая степень инновационной активности присуща культурам с высоким уровнем индивидуализма и низким уровнем дистанции власти (Hofstede, 1980). В исследовании Г. Джонсона и Дж. Герберта к этим показателям добавились низкий уровень избегания неопределенности и высокий и средний уровни маскулинности (Jones, Herbert, 2000).
С точки зрения Л. Харрисона, стремление к прогрессу присуще разным культурам также не в одинаковой степени. В книге «Культура имеет значение» он обосновал 25 параметров, влияющих на склонность культур к прогрессу. Он объединил их в четыре группы: взгляд на мир, ценности и добродетели, экономическое поведение, социальное поведение (Культура имеет значение…, 2002).
В других исследованиях акцент сделан не на показателях, определяющих уровень востребованности инноваций, а на факторах, обуславливающих тип их воплощения в различных культурах. Так, А.В. Теркина выделяет три компоненты инновационного процесса, которые влияют на форму явленности инноваций: субъект, творчество и труд2.
Основные результаты . Мы сосредоточим свое внимание на представлениях о времени, сложившихся в той или иной культуре, и попытаемся показать, каким образом они влияют на инновационную активность, и почему именно технико-экономическая ипостась инноваций становится актуальной формой для современного этапа развития культуры. Наш выбор не случаен, так как в сами инновации уже вшит временной код, трансформирующий привычную триаду модусов времени «прошлое – настоящее – будущее» в ее «инновационный» вариант: «старое – современное – новое». В свою очередь, отношение к изменениям и новизне выступает составной частью образа времени в культуре.
Темпоральные представления ‒ это комплекс значений, смыслов, ценностей, связанных со временем. В качестве базовых параметров данного комплекса нами будут рассмотрены следующие:
– тип времени и его свойства;
– значимость времени и его модусов;
– характеристика модусов времени;
– оценка течения времени;
– темпоральные ценности.
Тип времени указывает на форму его представления. Время может быть задано «в виде круга, колеса, коловращения, отрезка прямой, бесконечной прямой и т. д.» (Ярская, 1987: 157). В зависимости от преобладающего в культуре типа времени, последнее приобретает те или иные характеристики. Оно может мыслиться конечным или бесконечным, обратимым или нет, однородным или иерархичным и т. п. Так, например, традиционная культура опирается на циклическую модель времени с ее вечным круговоротом и возвращением. А эпоха модерна мыслит время как линейный, необратимый процесс.
Значимость времени отражает его значение и ценность. В разных культурах она варьируется от полного безразличия до признания времени определяющим фактором общественной жизни. В частности, К. Леви-Стросс в своих исследованиях показывает, что в примитивных обществах разделение прошлого, настоящего и будущего практически отсутствует (Леви-Стросс, 1994). Современная же культура испытывает на себе постоянный «деспотизм времени», реализуемый с помощью календарей, часов, ежедневников, дедлайнов и т. д.
Значимость времени определяет также наиболее существенный и аксиологически важный временной модус. Так, например, Ф. Артог, рассуждая о типах исторического мышления, выделяет пассеизм, презентизм и футуризм. Пассеизм предполагает, что будущее находится не впереди, а позади. Такое его положение определяется тем, что оно должно соответствовать образцам, характерным для прошлого. Между прошлым, настоящим и будущим не существует отличий. Презен-тизм абсолютизирует настоящее. Он представлен в двух вариантах: пассивно-потребительское отношение к реальности и активно-созидательное. Футуризм на первый план ставит будущее. Оно уже не повторяет прошлое, а служит ориентиром для настоящего (Hartog, 2003). По сути, акцент на том или ином модусе указывает на место обретения «полноты времени».
Выбор одного из модусов времени в качестве приоритетного не означает игнорирование других. Им также приписываются определенные значения, указывается характер связи между будущим, настоящим и прошлым. В частности, черты и свойства будущего могут быть различны в разных культурах. Оно может мыслиться как продолжение настоящего, как его ухудшение, или, наоборот, улучшение. Будущее может быть оценено с точки зрения его предсказуемости: быть либо открытым и неопределенным, либо заранее известным, не предполагающим каких-либо неожиданностей.
Оценка течения времени указывает на то, какая скорость изменений является предпочтительной и как оцениваются различные моменты протекания времени. Согласно исследованиям К. Леви-Стросса, культуры можно классифицировать на основании восприимчивости к изменениям. Он выделял «холодные» и «теплые» культуры (Леви-Стросс, 2001). Первые характеризуются тем, что им присуща «нулевая чувствительность к историческому развитию». Они признают значимость стабильности и стремятся сохранить существующий порядок жизни неизменным. Вторыми же приветствуется мобильный образ жизни, история рассматривается ими через призму развития. Р. Левин в своей знаменитой работе «География времени» указывал на различия в отношении к праздности, периоду «ничего-не-делания» у представителей западной и восточной культуры. Первыми такие периоды оцениваются как пустая трата времени. Вторые такой момент времени считают «подлинным сокровищем; в нем видят творческую, продуктивную силу, а не просто перерыв в деятельности» (Цит. по: Якимова, 1999: 115).
В темпоральных ценностях находят отражение эталоны должного, определяющие смысл бытия человека, его отношение к действительности. Темпоральные ценности включают в себя широкий перечень ценностных ориентиров. Речь может идти о постоянстве и повторении или о развитии и преобразовании, устремленности в прошлое или в будущее, динамизме или статичности. Важной составляющей ценностного аспекта времени является и отношение к новизне, ее принятие или непринятие.
Востребованность инноваций связана с линейным типом времени. Циклическая модель по своей сути атемпоральна. Она не предполагает движения вперед, настоящее и будущее здесь детерминировано прошлым. Новое отвергается, его принятие возможно лишь в том случае, когда оно мимикрирует под старое и традиционное. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что линейность времени также не является гарантом инновационности. Так, христианство, мысля время как стрелу, берущую свое начало в точке творения мира и движущуюся к точке «Омега» (П. Тейяр де Шарден): искуплению и очищению, не порождает всплеск инновационной активности. Время здесь – результат творения Бога, и его ход по линии «прошлое – настоящее – будущее» – это проявление Божьего промысла, а не отражение усилий самого человека.
Только начиная с культуры модерна, с присущей ему концепцией линейного необратимого времени, инновации становятся собственно потребностью культуры. С ними связываются надежды на преобразование и прогресс. В инновациях отражается стремление «устроить мир лучше, чем он устроен»1. В качестве этого лучшего мира видится будущее, которое мыслится как воплощение наилучших и светлых надежд. Оно трактуется как идеал, который должен прийти на место «старому» и «наличному», не отвечающему предъявляемым требованиям. Наступление будущего, безусловно, должно быть форсировано. Однако специфика этого будущего такова, что оно возможно только «потом», оно принадлежит следующим поколениям. В настоящем ему не суждено сбыться. Настоящее для него лишь трамплин. А инновации – условие для его возникновения. По сути, складывается парадоксальная ситуация, когда творец инноваций находится в настоящем, а их адресат, потребитель – в будущем. И в этом случае говорить о коммерческом успехе или ориентации на рынок представляется крайне затруднительным.
В современной культуре настоящее и будущее оцениваются иначе, между ними выстраиваются другие взаимоотношения и приоритеты. Это фиксируется уже в самом обозначении настоящего периода времени: «постмодерн», «постсовременность», «постиндустриальность» (а в последнее время уже и постпостмодерн). По сути, за этими названиями стоит стремление настоящего присвоить себе будущее. Будущее больше не мыслится в качестве недостижимой цели. Время ожидания его как идеала истекло. Кроме того, оно значительно изменило свой об- лик. На место положительной однозначности пришла амбивалентность. С одной стороны, будущее сохраняет присущий ему еще с Нового времени посыл, согласно которому в нем, если и не заключен идеал, то хотя бы присутствуют те или иные его аспекты в виде передовых достижений науки и техники. Выражение «они намного опередили свое время» является тому подтверждением. С другой стороны, будущее больше не обладает положительной определенностью (оно вообще может не состояться). Свидетельством такого пессимизма выступают прогнозы специалистов о наступлении самых различных видов кризисов (культурного, политического, экономического), философские предположения о приближающемся или наступившем конце истории, смерти Бога, субъекта и т. п. В массовой культуре данный факт находит отражение в ожиданиях конца, предсказанных в различных пророчествах, а также в катастрофических описаниях будущего, преобладающих в литературе и киноиндустрии.
В этих условиях настоящее абсолютизируется, а смысл инноваций меняется. Они становятся не условием, а свидетельством будущего, вернее, его оптимистического варианта. Инновации позволяют ему проявить себя «здесь и сейчас», сделать его реальным уже сегодня, так как завтра неопределённо, а послезавтра – тем более. Как следствие, чем более отдаленное будущее представлено в инновациях, тем они ценнее. Ценность получает свое отражение в цене, так как и инноватор, и потребитель в данном случае находятся в одном времени – в настоящем. Инновации как вестник будущего претендуют уже на коммерческий успех у той или иной целевой аудитории. Они выступают не только инструментом преобразования мира, но и товаром, функционирующим на потребительском рынке.
Ценность (цену) инновациям придает не только их нацеленность на улучшение нашей жизни через присвоение будущего. Инновации предоставляют нам возможность управлять временем. З. Бауман в своей книге «Текущая современность» утверждает, что одной из возможных точек отсчета современной эпохи является «освобождение времени от пространства, его подчинение человеческой изобретательности и техническим возможностям, а следовательно, противопоставление его пространству в качестве инструмента его завоевания» (Бауман, 2008: 122).
Настоящее для человека по своему размеру не безгранично. Оно задано временем его жизни, тем или иным ее периодом. Как следствие, значимость времени для человека многократно возрастает. Оно мыслится как ресурс, которым он располагает и который позволяет ему извлекать различные блага, наличествующие в настоящем. Как отмечает А.Н. Павленко, для современного человека характерен такой «метод жизни», который предполагает обладание большим за меньшее время (Павленко, 2010). Присутствующий в настоящем огромный спектр возможностей порождает стремительное ускорение жизненного темпа.
Для современного человека спешка является одним из показателей социального статуса. Шведский социолог С. Линдер в своей книге «Спешащий праздный класс» отмечает, что для современного общества характерна ситуация, при которой высокий уровень жизни провоцирует необходимость спешки (Linder, 1975). Кроме того, спешка тесно связана с успехом: победа достигается теми, кто успевает быстрее других. Ярко иллюстрирует эту мысль цитата Черной королевы из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла: «…приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!»1.
Высокая скорость движения становится символом современности. Она позволяет охватить как можно больше за наименьший промежуток времени. Распространение фастфуда (скоропита-ния), скоростных средств передвижения (скородвижение), компьютера (скородействие и скоро-коммуникация) и т. д. выступает отражением ценности скорости движения. Идеал культуры модерна ‒ машина времени ‒ теряет актуальность. Она уступает место «маховику времени» (Дж.К. Роулинг), позволяющему одновременно находиться в разных местах и выполнять различные действия в одном временном интервале.
Инновации в этом контексте как раз и позволяют обеспечить достижение желаемого результата в максимально короткое время, создавая ощущение управления последним. Это возможно, как минимум, двумя путями. Первый – обеспечение максимальной скорости протекания тех или иных процессов. Одной из главных характеристик инновационных товаров в этом случае становится быстродействие. Второй – возможность осуществления большого количества действий в единицу времени. В этом случае в приоритете могут быть разные характеристики инновационной продукции, например, автономность (независимость от участия человека) или компактность (в случае с информационными технологиями).
Заключение . Несмотря на то, что инновации отвечают запросам современной культуры на постоянное движение и изменение, они способны порождать негативные последствия. Так, например, зачастую складывается ситуация, когда большим значением обладает сама возможность продуцирования нового, а не присущая последнему качественная наполненность. Как точно заметил З. Бауман, «по существу, нет больше ни “вперед”, ни “назад”; ценится лишь умение не стоять на месте» (Бауман, 1995: 135). Иными словами, инновации становятся ценными сами по себе, их привлекательность в качестве товара утрачивает связь с содержанием.
Кроме того, многие исследователи отмечают, что мир, стремительно меняющийся благодаря инновациям, способен лишиться своего единства для человека. Он больше напоминает «калейдоскоп разорванных фрагментов, живущих очень короткой жизнью» (Емелин, Тхостов, 2015: 20). Существование человека в таком мире зачастую сопровождается дискомфортом и вызывает ощущение непонятности, опасности, непредсказуемости.