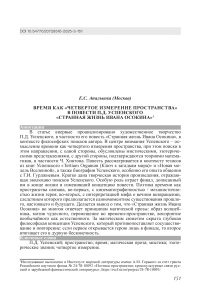Время как «четвертое измерение пространства» в повести П.Д. Успенского «Странная жизнь Ивана Осокина»
Автор: Е.С. Апалькова
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые проанализировано художественное творчество П.Д. Успенского, в частности его повесть «Странная жизнь Ивана Осокина», в контексте философских поисков автора. В центре внимания Успенского – осмысление времени как четвертого измерения пространства, при этом поиски в этом направлении, с одной стороны, обусловлены мистическими, эзотерическими представлениями, с другой стороны, подтверждаются теориями математиков, в частности Ч. Хинтона. Повесть рассматривается в контексте тезисов из книг Успенского «Tertium Organum (Ключ к загадкам мира)» и «Новая модель Вселенной», а также биографии Успенского, особенно его опыта общения с Г.И. Гурджиевым. Кратко дана творческая история произведения, отражающая эволюцию поисков Успенского. Особую роль играет финал, дописанный им в конце жизни и изменивший концепцию повести. Поэтика времени как пространства связана, во-первых, с кинематографичностью / механистичностью жизни героя, во-вторых, с интерпретацией мифа о вечном возвращении, следствием которого предполагается единомоментное существования прошлого, настоящего и будущего. Делается вывод о том, что «Странная жизнь Ивана Осокина» во многом отвечает принципам магической прозы: образ волшебника, мотив чудесного, перемещение во времени-пространстве, восприятие необычайного как естественного. За магическим сюжетом скрыта глубокая философская концепция Успенского, который противопоставляет сосуществование и повторение: если первое открывается герою лишь в финале, то второе втягивает его в дурную бесконечность.
П.Д. Успенский, пространство, время, магическая проза, мистика, эзотерические знания, четвертое измерение
Короткий адрес: https://sciup.org/149149384
IDR: 149149384 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-151
Текст научной статьи Время как «четвертое измерение пространства» в повести П.Д. Успенского «Странная жизнь Ивана Осокина»
P.D. Uspensky; space; time; magic prose; esotericism; fourth dimension.
П.Д. Успенский (1878–1947) – мистик, оккультист, теософ, ученик г. И. Гурджиева, автор нескольких художественных произведений: книги «Разговоры с дьяволом: Оккультные рассказы» (1911), включающей две новеллы «Изобретатель» и «Добрый черт», и повести «Странная жизнь Ивана Осокина» (<1917>). Мистические поиски Успенского уже достаточно изучены (см., например: [Ровнер 2019; Журавлева 2016 и др.], однако его творчество остается на периферии исследовательского внимания. В настоящей статье мы сосредоточимся на рассмотрении концепции времени и пространства Успенского и ее отражении в повести «Странная жизнь Ивана Осокина».
Русская философская мысль начала XX в. была направлена на поиски новых смыслов, появилось множество журналов, кружков, обществ, в которых развивались мистические идеи. Свою уникальную концепцию Успенский изложил в книгах «Четвертое измерение» (1909), «Tertium Organum (Ключ к загадкам мира)» (1912), «Новая модель Вселенной» (1931), «В поисках чудесного» (1949), «Четвертый путь» (1957). Он строит свои поиски на синтезе науки, религии, философии, что было характерно также для Е.П. Блаватской, Н.К. Рериха и др. Вопросы, которые в первую очередь интересуют Успенского, связаны с осмыслением времени, пространства и возможностей человека, в основе его суждений - математическое представление о четвертом измерении.
В 1905 г. появилась специальная теория относительности А. Эйнштейна, которая позже, в 1916 г., получила развитие в общей теории относительности. Тезисы о пространственно-временном континууме, способном как растягиваться, так и сжиматься, сейчас считаются общепризнанными. Вселенная, согласно Эйнштейну, имеет три пространственных измерения, а время выступает как четвертое.
Несмотря на открытия Эйнштейна параллельно продолжали существовать теории многомерного пространства, утверждавшие, что есть еще одно – или даже несколько – измерений (cм., например: [Никонов 2010; Шахматова 2020] и др.). Среди них можно назвать идеи не только физиков и математиков, но и философов, эзотериков, религиозных мыслителей и др.: Р. Бартини, Ч. Хинтона, Г. Римана, Г. Минковского, Н. Лобачевского, Н. Морозова, М. Матюшина, П. Флоренского и др. В 1909 г. Успенский сформулировал свое понимание категории пространства в «Четвертом измерении», а позже развил эти идеи в книге «Tertium Organum (Ключ к загадкам мира)». Эта концепция отвергает евклидово представление о трехмерности пространства, в которое вторгается координата времени. Согласно Успенскому, « вечность не есть бесконечное протяжение времени, а линия, перпендикулярная ко времени ; потому что, если вечность существует, то каждый момент вечен». Следовательно, у времени есть два измерения: «Второе измерение т.е. вечность будет пятым измерением пространства» [Успенский 2022b, 53]. С точки зрения вечности, время стоит в одном ряду с такими пространственными категориями, как длина, ширина, высота. Как в любом пространстве существуют вещи, недоступные взгляду человека, так и «во времени “события” существуют прежде чем к ним прикоснулось наше сознание» [Успенский 2022b, 53]. Поэтому «время является четвертым измерением пространства » [Успенский 2022b, 54].
Работы Успенского были широко известны в дореволюционной России и часто публиковались. Например, его труды о природе пространства и времени «Четвертое измерение. Опыт исследования области неизмеримого» (1910, пе-реизд. 1914, 1918); «Tertium Organum. Ключ к загадкам мира» (1911, переизд. 1916) и др. Вопрос влияния философских поисков Успенского на русских писателей начала XX в. довольно сложен и до сих пор системно не исследован. Однако неоднократно отмечалось отражение идей Успенского в творчестве ряда писателей и художников: Н. Гумилева [Шелковников 2016], Е. Замятина [Любимова 2014], В. Набокова [Степанова 2012], В. Хлебникова [Бёминг 2018; Вестштейн 1995], П. Филонова [Ершов 2020], К. Малевича и др. Успенский и его работы упоминаются в декларации «Новые пути слова» (1913) и в сборнике «Трое» (1913) А. Крученых. Книга «Tertium Organum. Ключ к загадкам мира» стала «фундаментальным источником» воззрений на время Д. Хармса [Сажин 1997, 477]. В.А. Лихачев утверждает, что Успенский стал «прообразом героя мистической дилогии» А.В. Барченко «Доктор Черный» (1913) и «Из мрака» (1914), в которой автор, ориентируясь на жанр авантюрно-приключенческого романа, излагает «некоторые теософские идеи Успенского» [Лихачев 2015, 9]. Размышления о многомерности пространства – тема стихотворения В.Я. Брюсова «Мир N измерений» (1924), четвертое измерение упоминает М.А. Булгаков в повести «Записки на манжетах» (1923), а о возможностях пятого речь идет в романе «Мастер и Маргарита» (1928–1940). Модель четвертого измерения, одним из популяризаторов которой в России стал Успен- ский, продуктивна и в зарубежной литературе, в частности американской (см.: [Николаев 2024, 97]).
Для Успенского особенно важна фигура американского математика, мистика и популяризатора идеи «четвертого измерения» Ч. Хинтона, под которой он подразумевал время («Что такое четвертое измерение?», 1880). Русскоязычное издание его работы «Воспитание воображения и четвертое измерение» (1915) предваряет статья Успенского «Идеи Хинтона и их приложение к жизни». Гиперпространство, согласно Хинтону, доступно человеку при условии развития им интуиции и сознания. Успенский увидел в его книгах «Новая эра мысли» и «Четвертое измерение» ответ на вопрос о возможном постижении многомерности, открывающем «новые горизонты» и более полное восприятие реальности [Успенский 2022b, 26]. Эти мысли оказались созвучны поискам Успенского, которого интересовало, как развить в себе чувство четвертого измерения (т.е. сверхспособности). На книгу Хинтона в переводе Успенского ссылается П. Флоренский, говоря о способах раскрытия «высшего сознания» (см.: [Флоренский 2007, 430]). Само восприятие времени как пространства , или «опространствливания времени» близко Успенскому. То, что мы привыкли считать временем в силу ограниченности своего сознания, на самом деле является аспектом неизвестного пространства .
Понять тенденцию развития взглядов Успенского невозможно без обращения к основным моментам его биографии. Он получил математическое образование, занимался изучением биологии и психологии, т.е. интересовался как физическими, так и психическими возможностями человека. С 1907 г. погрузился в изучение теософии и оккультных наук, познакомился с идеями Е. Блаватской, А. Безант и др. и начал проводить публичные лекции в 1910– 1912 гг. в Москве и Петербурге. В 1915 г. произошел переломный момент в его судьбе: он познакомился с Гурджиевым, система которого строилась по принципу восточных школ, что означало беспрекословное подчинение ученика учителю. Успенский пребывает под руководством Гурджиева до 1918 г., в 1924 г. их пути расходятся.
Повесть «Странная жизнь Ивана Осокина» имеет сложную творческую историю, которая отражает этапы эволюции поисков Успенского. К ее написанию он приступил в 1905 г., а напечатал позже, причем издание 1917 г. имеет название с подзаголовком «Кинемодрама (не для кинематографа). Оккультная повесть из цикла идей “Вечного возвращения”» [см. Успенский 1917]. Вновь Успенский обращается к этому тексту уже в конце жизни и переписывает его на английском языке, давая нынешнее название и значительно перерабатывая финал. Новый вариант повести был опубликован в 1947 г. в Лондоне (cм.: [Ous-pensky 1947]), в России он появился только в 1995 г. (см.: [Успенский 1995]). Итак, Успенский начал работать над повестью еще до знакомства с Гурджиевым, а завершил текст уже значительно позже, имея опыт общения с учителем и расхождения с ним.
Произведение Успенского – это художественное воплощение его концепции многомерного пространства, идеи реинкарнации и открытия четвертого пути. Он использует традиционный сюжет: история несостоявшейся любви девушки-дворянки с властным характером и бедного учителя фехтования и поэта, в котором узнаются черты «лишнего человека» XIX в. Но он, в отличие от канона, не обладает выдающимися способностями, а, напротив, представляет собой человека слабого, безвольного, неспособного принимать решения. В образе героя есть нечто романтическое, на стене в его комнате висит портрет
Байрона, о себе он говорит: «Я среди них чужой, и посторонний, и ненужный» [Успенский 2022a, 14].
Реалистичное, на первый взгляд, повествование прерывается магическим вмешательством . Судьба (в лице волшебника) дает Осокину возможность вернуться на двенадцать лет в прошлое. Перемещение во времени – традиционный сюжет фантастической литературы (классический пример – «Машина времени» (1895) Г. Уэллса). Но чудо перемещения героя скорее магическое, чем фантастическое: возвращение в прошлое становится возможным благодаря действиям волшебника . Успенский использует приемы магического повествования как внешнюю форму для выражения философской идеи (как и С.Д. Кржижановский в новеллах «В зрачке», 1927; «Странствующее “Странно”», 1930 и др.).
По ходу развития сюжета мы понимаем, что истинного чуда не происходит. Вернувшись в возраст гимназиста, Иван шаг за шагом совершает ошибки прошлого и осознает, что он не в силах противиться судьбе. В финале волшебник дает ему наставление: «И прежде, чем надеяться изменить свою жизнь, нужно измениться самому» [Успенский 2022a, 117]. Герой настроен решительно: «Я буду жить» [Успенский 2022a, 118]. Согласно А.Ф. Лосеву, чудо – «модификация смысла фактов и событий, а не самые факты и события» [Лосев 2001, 187]. Герой духовно слеп, поэтому не видит конкретных путей выхода из «ловушки» бессмысленного круговорота жизни: «Пока не изменится наше отношение, ничто не может измениться. <…> Значит, нужно жить. Но как я буду жить, я не знаю» [Успенский 2022a, 118]. Для магической прозы характерно восприятие необычайного как естественного . С одной стороны, Осокин верит в возможность вернуться в прошлое: «Если бы я знал, что из этого выйдет, разве бы я не остановился?» [Успенский 2022a, 18]; с другой – он ощущает нереальность произошедшего, ему все кажется сном. Как отмечает Ц. Тодоров, герой «колеблется, спрашивает себя (как и читатель вместе с ним), правда ли все, что с ним происходит, реально ли то, что его окружает <…> или же это просто иллюзия» [Тодоров 1999, 24]. Однако читатель не сомневается в возможности перемещения во времени, автор описывает это как естественный процесс. Важнее другое: волшебник уверен, что знание будущего ничего не изменит в поступках человека. М. Бёминг, рассматривая концепции «времени в пространстве» Хлебникова, отмечает, что «его сочинения, посвященные теме передвижения по времени, более близки к жанру “чисто чудесного”, чем к жанрам “чудесно-фантастического” или “научно-чудесного”» [Бёминг 2018, 88]. Это в полной мере справедливо и по отношению к повести Успенского.
В финале раскрывается мистический смысл сюжета, связанный с образом дьявола. По словам волшебника, именно дьявол мешает человеку на пути поиска смысла жизни. Как и было указано выше, эта беседа дописана Успенским позже, уже после общения с Гурджиевым в роли его ученика. Художественный образ волшебника обогащается чертами реального учителя-наставника. Он ставит Осокина перед выбором: для выхода за пределы порочного круга он должен отказаться от собственной воли, т.е. своего эгоистического начала. Это, по сути, должен быть четвертый путь, практика по саморазвитию, разработанная Гурджиевым и Успенским. Всего есть четыре пути: факира, отказывающегося от физических благ; монаха, подавляющего страсти; йоги-на, управляющего умом; мага, хитреца, максимально осознанного и объединяющего предыдущие три. По мнению Гурджиева, чтобы выйти из состояния «бодрственного» сна, людям необходимо внутреннее развитие и постижение истинных возможностей, но этого нельзя достичь самостоятельно: необходим учитель [Успенский 2019, 180]. Переосмысляя свое взаимодействие с Гурджиевым в поздней книге «Новая модель Вселенной», Успенский утверждает: «Но одно мне очевидно: в одиночку я не могу сделать ничего» [Успенский 2002, 10].
Первоначальное название повести включает два важных понятия, отражающих пространственно-временные поиски Успенского: «кинемодрама» и «вечное возвращение». Произведение состоит из трех частей («Иван Осокин»; «Жизнь (Линга Шарнира)»; «Старое и новое»), каждая из которых строится как сериал с рядом эпизодов со своими подзаголовками (о приемах кино в повести см.: [Шелковников 2015]). Приписка «не для кинематографа» навевает на мысль об аналогии жизни героя и кинопленки, которую можно промотать и посмотреть, как фильм, заново, однако, зная развитие сюжета, зритель не в силах ничего изменить. В связи с этим любопытно вспомнить теорию шестимерного пространства Бартини, который сравнивал пространственно-временное измерение с кинолентой, полагая, что оно состоит из отдельных кадров, разделенных пустотой. Если человек находится только в материальном мире, он ограничен духовно. Эту концепцию он изложил в художественном тексте «Цепь. Киноповесть в трех частях» (1952–1974). Осокин в повести Успенского стремится вновь прожить определенный отрезок своей жизни, чтобы избежать совершенных экзистенциальных ошибок и кардинально изменить свою судьбу.
Успенский осмысляет природу пространства в «Tertium Organum», обращаясь к кинематографу. По его мнению, мы представляем себе мир как «бесконечную сферу», которая меняется каждый миг: «Она для нас как бы экран кинематографа, через который быстро бегут отражения картин» [Успенский 2022b, 136]. Жизнь человека подобна просмотру фильма, каждый сменяющийся момент – новый кадр. Но главный вопрос состоит в том, откуда берутся эти картины. Успенский приводит следующий пример: Представим себе человека, сидящего в обыкновенном кинематографическом театре. Представим себе, что он совершенно не знает устройства кинематографа, не знает о существовании фонаря за его спиной и маленьких прозрачных картин на движущейся ленте. Представим себе, что он хочет изучать кинематограф и начинает изучать то, что происходит на экране: записывать, фотографировать, наблюдать порядок, вычислять, строить гипотезы и т.п. К чему он может прийти? [Успенский 2022b, 136–137].
Этот «кинематограф» можно расшифровать, проникнув в свое сознание , изучив « причины появления картин на экране » , только потом можно переходить к реальным ситуациям из жизни [Успенский 2022b, 136–137].
Эта метафора художественно реализуется в повести «Странная жизнь Ивана Осокина». Главный герой находится на грани отчаяния, ощущает полную неудовлетворенность жизнью, готов совершить самоубийство из-за намерения его возлюбленной Зинаиды выйти замуж за другого, но получает возможность вернуться в гимназические годы. Он находится во власти механистичности. Герой все делает не так, как бы ему хотелось: хочет поехать вместе с Зинаидой, но не едет; не хочет отвечать ее брату на вопросы, но отвечает и т.д. Уже с первых страниц ощущается рок, который ведет Осокина по определенному пути и которому он не может противостоять. Оказавшись в прошлом, он смотрит на «картины» своей жизни внешним взглядом, не зная своего сознания. Поэтому герой бессилен что-либо изменить: все обречено на тотальное повторение. Миф о вечном возвращении в этом контексте говорит о дурной бесконечности, из которой Осокин не может вырваться. Ф. Ницше в книге «Так говорил Заратустра» (1883–1885) задается вопросами:
Не должно ли было все, что может случиться, уже однажды случиться, сделаться, пройти? <…> и не должны ли мы вернуться и пройти этот другой путь впереди нас, этот длинный жуткий путь, – не должны ли мы вечно возвращаться [Ницше 1990, 112–113].
М. Хайдеггер отмечает метафизическое содержание трагической идеи Ницше, которая «поражает и пугает» [Хайдеггер 2007, 254]. В книге «Новая модель Вселенной» Успенский рассматривает подобную фатальную обреченность критически, ставя на первый план поиски пифагорейцев, мифологию, индийские учения и т.д. Для него «именно существование четвертого и иных измерений стало недостающим звеном в доказательной базе вечного возвращения» [Журавлева 2016, 46].
Кольцевая композиция как бы подчеркивает обреченность: заключительные главы буквально воспроизводят первые. В беседе с волшебником герой снова задается теми же вопросами: как найти выход из бессмысленной «ловушки», «вращения в колесе» под названием жизнь [Успенский 2022a, 125]. Но теперь ответ, кажется, найден: сам человек не в состоянии изменить ничего. В своем стремлении обрести подлинную свободу он должен найти учителя, которому доверит свою жизнь.
Успенский утверждает, что вечность – это не бесконечное повторение одного и того же, а бесконечное существование каждого момента . Повесть служит иллюстрацией сосуществования и повторения – двух вариантов вечности в человеческом представлении. При этом сосуществование требует параллельного пространства, а повторение – иного, независимого течения времени – «по завершении данного частного цикла, т.е. этой отдельной жизни, или после же каждого мгновения» [Успенский 2002, 485].
Только изменение восприятия времени приведет к преображению сознания, и «наши воззрения на вещи и на самих себя уже не смогут остаться такими, какими были» [Успенский 2002, 482]. В повести много рефлексии героя, его рассуждений, осмысления того, как он ощущает происходящее: «Иногда мне кажется, что я что-то забыл. Иногда кажется, что все было, когда-то раньше, прежде… Странно! – Потом он оглядывается кругом и словно пробуждается» [Успенский 2022a, 12]. Пока Осокин не понимает глубинных законов движения мира, он обречен на вечное повторение одних и тех же ошибок.
Ключевую роль играет вставная новелла в восьмой главе «Действительность и сказка». Это авторский перевод Успенским повести Р. Стивенсона «Песнь о завтрашнем дне». Осознание Осокиным реальности происходящего – действительно ли он переместился в прошлое или это сон? – начинается с припоминания им текста этого произведения на английском языке, который герой не знал в гимназические годы. Ведьма говорит принцессе, что она живет, как все простые люди, и не думает о завтрашнем дне, поэтому не имеет власти над часом. В сказке настоящее, прошлое и будущее сосуществуют. Принцесса – одновременно и ведьма, она встречает саму себя, а человек в капюшоне – метафора иллюзорности времени. В сказке, как и в жизни Осокина, происходят странные вещи: «Это был самый пустынный берег между двумя морями, и странные вещи происходили здесь в древние времена» (курсив наш – Е.А. ) [Успенский 2022a, 52].
Согласно точке зрения Успенского, мы находимся на оси времени, на которой невозможно увидеть прошлое или будущее, но если отодвинуться в сторону от этой оси (т.е. в пятое измерение – сознание), то мысль человека «может подняться над плоскостью времени и увидеть сзади весну и впереди осень, увидать одновременно распускающиеся цветы и созревающие плоды». Этот взгляд «может заставить слепого прозреть и увидеть дорогу, ту которую он прошел, и ту которая лежит перед ним» [Успенский 2022b, 47]. Интересно, что философское рассуждение Успенского оказывается удивительно близко «остранению» В.Б. Шкловского, разработанному в статье «Искусство как прием» (1919) и заключающемуся в «выводе вещи из автоматизма восприятия» [Шкловский 1983, 15]. Осокин пока не смог достичь такого раскрытия сознания, он оказывается не способен выйти за пределы механистичности. Но в дополненных в последней редакции главах его мировоззрение меняется. Так описано его состояние после беседы с волшебником и внезапного понимания того, что Зинаида не могла бы выйти замуж за Минского: «и неожиданно его охватывает, все сметая, необычайно отчетливое ощущение: если бы его здесь не было, то все оставалось бы в точности таким же» [Успенский 2022a, 133]. Здесь, т.е. в настоящем, значит, Осокин почувствовал единовременность настоящего, прошлого и будущего, вошел в состояние «Вечного Теперь». В первой части повести Зинаида говорит ему: «Я понимаю только настоящее» [Успенский 2022a, 12]. В книге «В поисках чудесного» Успенский приводит следующее высказывание своего учителя Гурджиева: «Чтобы знать будущее, необходимо, во-первых, знать настоящее во всех его деталях, равно как и прошлое. <…> Если вы хотите, чтобы “завтра” было иным, вы должны изменить “сегодня”» [Успенский 2019, 128]. Таким образом, герой приходит к пробуждению с момента осознания механистичности жизни. Только «идея обратного движения во времени» дает «возможность “эволюции” в истинном и полном смысле этого слова» [Успенский 2002, 502]. Успенский пишет о сращении времени и пространства в четвертом и пятом измерениях, ощущение этого единства открывается исключительно благодаря психическим способностями. Время, по Успенскому, это внутреннее ощущение пространства высшего измерения.
Итак, «Странная жизнь Ивана Осокина» – это философская повесть с элементами магической прозы, основная идея которой заключается в том, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Верное понимание природы пространства и времени открывает путь к духовной эволюции посредством вечного возвращения как сосуществования, противопоставленного повторению. В произведении в художественной форме выражена философская концепция времени как четвертого измерения. Пробуждение сознания главного героя начинается с осознания механистичности всего происходящего, а самосовершенствование – с ее преодоления. Творческая история повести, в частности изменение финала, свидетельствует о поисках самого Успенского ответов на сложные философские вопросы. Если в первом варианте конкретного ответа нет, то во втором ответ появляется благодаря образу волшебника-учителя. В книге «В поисках чудесного» приведены слова Гурджиева: «Когда человек начнет узнавать себя, он увидит в себе много такого, что приведет его в ужас. Пока человек не пришел от себя в ужас, он ничего о себе не знает» [Успенский 1992, 250]. Именно это и происходит с Осокиным. В повести в полной мере отражены главные вопросы, которые интересовали Успенского: природа пространства и времени и психологические возможности человека.