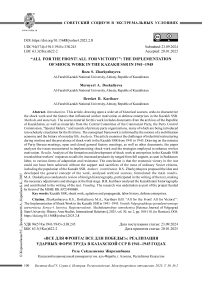«Все для фронта! Все для победы!»: реализация ударных форм труда в Казахской ССР в 1941–1945 годах
Автор: Жаркынбаева Р.С., Доскалиева М.А., Карибаев Б.Б.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Статья в выпуске: 2 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В рамках изучения широкого комплекса исторических источников в статье предпринята попытка охарактеризовать ударные формы труда и факторы, оказывавшие влияние на трудовую мотивацию работников оборонных предприятий Казахской ССР. Методы и материалы. Источниковая база работы – документы архивов Республики Казахстан, материалы ЦК КП(б)К, Комиссии партийного контроля, «Особых папок» и первичных партийных организаций, в большинстве своем вводимые в научный оборот впервые. Концептуальной основой послужили теории мобилизационной экономики и истории повседневности. Анализ. В статье показаны трудности перестройки промышленности на военный лад и распространение ударных форм труда в 1941–1945 годах. На основе исследования протоколов заседаний партбюро, открытых и закрытых общезаводских собраний и других документов проанализированы проблемы в реализации ударных форм труда и способы повышения мотивации труда. Результаты. В ходе анализа процессов становления и развития ударных форм труда на предприятиях Казахской ССР установлено, что реакции рабочих на призывы к повышению производительности труда варьировались от полной поддержки, нашедшей свое выражение в стахановском труде, до разных форм приспособления и сопротивления. В заключение сделан вывод о том, что экономическая победа в войне не могла бы состояться без поддержки и жертв со стороны большинства обычных советских людей, в том числе и населения Казахской ССР. Вклад авторов. Р.С. Жаркынбаева предложила идею и разработала общую концепцию работы, осуществила анализ архивных источников, сформулировала основные результаты. М.А. Доскалиева осуществила обзор зарубежной историографии, участвовала в написании текста, внесении необходимых корректировок и изменений на завершающем этапе. Б.Б. Карибаев провел анализ казахстанской историографии и принимал участие в написании текста. Финансирование. Исследование выполнено в рамках реализации научно-исследовательского проекта по гранту МНВО РК AP23490680.
Казахская ССР, ударные формы труда, агитация и пропаганда, рабочая история, оборонные предприятия
Короткий адрес: https://sciup.org/149147751
IDR: 149147751 | УДК: 94(574)«1941/1945»:338.245 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.2.8
Текст научной статьи «Все для фронта! Все для победы!»: реализация ударных форм труда в Казахской ССР в 1941–1945 годах
W
DOI:
Цитирование. Жаркынбаева Р. С., Доскалиева М. А., Карибаев Б. Б. «Все для фронта! Все для победы!»: реализация ударных форм труда в Казахской ССР в 1941–1945 годах // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 2. – С. 100–110. – DOI:
Введение. Вызовы XXI в. ставят перед постсоветскими республиками задачи реиндустриализации в рамках четвертой промышленной революции. В этой связи нарастает интерес к проблемам изучения трудовой мотивации и повышения производительности труда. 80-летний юбилей окончания Великой Отечественной войны актуализирует дискуссии по поводу механизмов, при помощи которых государство мобилизовало своих граждан на самоотверженный труд и лишения, приведшие к победе.
В советской историографии исследование вопросов реализации ударных форм труда было представлено серьезными работами с акцентом на всеобщий трудовой энтузиазм масс [3]. В современной российской историографии движение ударничества рассматри- вается в более сложном контексте взаимоотношения власти и общества. М.Ю. Мухин, анализируя массовый характер движения двухсотников у советских авиастроителей, отмечает, что оно нередко страдало от ошибок заводского и цехового менеджмента [8]. Исследуя стахановское движение, Р.Е. Романов представляет его как «социальный конструкт, собранный из нетиповых элементов» [31, с. 71].
В казахстанской историографии 1990-х гг. особо стоит отметить труд М.К. Козыбаева и Н.Е. Едыгенова. По мнению авторов, «состязательность в труде», возникшая в 1930-е гг., в дальнейшем становилась регулируемой, а в трудовых коллективах развернулась «сплошная стахановизация». В некоторых случаях создавались «тепличные условия» для уста- новки производственных рекордов [7, с. 100]. В современной казахстанской историографии можно выделить работы, посвященные женскому трудовому вкладу и героизму в тылу [5]. В коллективной монографии казахстанских и российских авторов рассмотрены проблемы повышения мотивации труда и развитие соцсоревнований в оборонной промышленности [15].
Тенденции, сложившиеся в западной историографии, представляют широкий спектр подходов к изучению различных форм ударничества и методов его стимулирования. Л. Сигельбаум, исследуя природу ударного труда и стахановское движение как одну из форм его выражения, видит в нем как государственную политику, так и социальное явление [45]. Изучению труда и трудовых практик в годы войны посвящены работы С.А. Барнса, Д. Фильцера, В. Голдман [39; 42; 43]. С. Коткин отмечает, что труд был важной составляющей советского общества, отношение к труду, формы его реализации не только носили материальный смысл, но и были гражданским долгом [44]. Исследование ударничества тесно переплетено с вопросами реализации агитационно-пропагандистской работы в Советском Союзе [40; 41].
Таким образом, отмечая большой пласт исследований по изучению ударных форм труда в современной историографии, следует указать, что реализация этой практики в военный период остается недостаточно исследованной проблемой.
Цели исследования – охарактеризовать ударные формы труда и факторы, оказывавшие влияние на трудовую мотивацию работников оборонных заводов Казахской ССР, как местных, так и прибывших в эвакуацию (№ 231, № 175, № 317 и Алма-Атинского завода тяжелого машиностроения (далее – АЗТМ)).
С начала войны до конца 1942 г. на территории КазССР разместилось около 150 эвакуированных предприятий, которые послужили основой для развития оборонной промышленности [7, с. 43]. Характерными особенностями республики были обширность территории, удаленность промышленных центров друг от друга, слабо организованные транспорт и связь, низкая плотность населения, многонациональность, высокий удельный вес спецконтингента. К 1946 г. спецпересе-ленцев и ссыльно-высланных насчитывалось 987 533 человека. Кроме того, в республике находилось около 200 тыс. чел. ссыльно-высланных, срок ссылки которых завершился, и 49 229 военнопленных [35, л. 1–2].
Методы и материалы. Основная группа источников – это документы центральных и региональных архивов Республики Казахстан. Материалы республиканской Комиссии партийного контроля, «Особых папок» и фондов первичных партийных организаций позволяют увидеть разные аспекты реализации ударных форм труда.
Понятие «ударный труд» будет трактоваться как интенсивная трудовая деятельность отдельных работников или коллективов, ориентированная на перевыполнение норм в установленный промежуток времени.
В основу методологии исследования легли принципы историзма, объективности и системности. Принцип историзма позволяет рассмотреть ударные формы труда на оборонных предприятиях в соответствии с конкретно-историческими условиями, обусловленными хозяйственными и культурными особенностями Казахской ССР. Принципы научной объективности и системности представляют возможность изучить данный феномен, показав не только успехи и достижения, но возникавшие проблемы и противоречия. Концептуальной основой послужили теории мобилизационной экономики и истории повседневности.
Анализ. Перестройка промышленности на военный лад и распространение ударных форм труда. Тяжелая ситуация на фронтах в начальный период войны вынудила государство принять экстренные меры по восполнению рядов Красной армии и отраслей народного хозяйства, в которых возникла острая нехватка в квалифицированных рабочих.
Наряду с широкомасштабной мобилизацией, проводимой государством, можно выделить и самомобилизацию населения. Появилось много новых героев тыла, которые стали символами самоотверженного труда и образцами для подражания.
В Лениногорске работал известный на всю страну бурильщик Г. Хайдин, 16 октября 1941 г. установивший республиканский ре- корд [29, л. 118]. При этом Г. Хайдин писал: «Все ли сделал я для фронта? Нет, не все! <...> Я должен достичь 25 норм в смену и закрепить эту выработку на все время, до полного разгрома и уничтожения врага» (цит. по: [6, с. 455]).
Символом казахской женщины-шахтера стала Ж. Муканова. В партийных документах особо отмечалась эффективность ее выступлений: «...иду работать навалоотбой-щицей. Знаю, что это нелегкая работа, но труднее будет, если придется стоять на коленях перед германским фашизмом» [36, л. 209 об]. Ф.К. Даненова, заведующая отделом Карагандинского обкома партии, вспоминала: «Тов. Муканова неграмотная, она говорила своим простым языком, и это доходило до наших женщин. Ее примеру последовали многие женщины города» [36, л. 209 об]. В апреле 1942 г. в г. Алма-Ата появились первые тысячницы-женщины. Л. Селеменова, токарь электротехнического завода, систематически добивалась повышения производительности труда. 7 апреля 1 942 г. она выполнила задание на 1160 %. [5, с. 19–20].
Мы солидарны с точкой зрения А.А. Антуфьева, изложенной в одной из «знаковых» работ по истории оборонного комплекса Урала [14, с. 763], что трудовой подвиг военных лет представлял собой не мгновенный жертвенный порыв, а физически тяжелую работу [1, с. 295].
В первые месяцы войны не все местные предприятия республики смогли сразу же перестроить свою работу на военный лад. К примеру, Чимкентским свинцовым заводом (далее – ЧСЗ) мобилизационный план выпуска свинца был выполнен в III квартале на 93,4 % [33, л. 95–100]. Изношенное и аварийное состояние оборудования и механизмов было характерно для многих предприятий цветной металлургии республики, построенных еще в годы первой пятилетки.
Тем не менее большинству предприятий удалось в сжатые сроки перестроить свою работу [7, с. 97]. Секретарь ЦК КП(б)К Ж. Шаяхметов в октябре 1941 г. приводил в пример Карсакпайский завод: «Старый, со старым оборудованием, которое чуть ли на веревках держится. Сейчас он становится пер- вым заводом по выполнению заданий. 120– 125–130 процентов выполняет, особенно за последние два месяца, при наличии того же оборудования...» [37, л. 33]. Ж. Шаяхметов отмечал, что в условиях войны нужно работать не 8, а все 12 часов, а жены рабочих должны в это время обеспечить подачу еды, указав на то, что некоторые смены «даже в столовую не ходят» [37, л. 33].
Предприятия прикладывали большие усилия для выполнения и перевыполнения поставленных перед ними планов [9]. Так, прибыв в г. Алма-Ата поздней осенью 1941 г., АЗТМ уже с марта 1942 г. приступил к выпуску боеприпасов. Установка оборудования завода закончилась раньше, чем строительство здания. В сентябре 1942 г. АЗТМ стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования и был удостоен переходящего Красного знамени Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов и наркомата тяжелого машиностроения [6, с. 460]. Однако, как будет показано далее, высокие производственные показатели было нелегко удержать.
Основные проблемы в реализации ударных форм труда. Осенью 1943 г. в ходе проведения фронтового месячника (20 сентября – 17 октября) на АЗТМ высокие темпы труда, полученные в первой декаде, не были закреплены во второй декаде и производственные показатели стали ухудшаться. В качестве причин ухудшения работы традиционно указывалась недостаточная агитационно-пропагандистская работа [20, л. 365].
На этом заводе существовала и другая тенденция, выражавшаяся в том, что в первой и второй декадах сохранялись спокойные темпы, а в третьей начиналась «штурмовщина». Ситуацию с «ритмичностью» работы главный инженер АЗТМ сравнил с температурой тифозного больного [27, л. 101]. Неравномерный темп работы предприятия сохранялся и в 1945 году. На заседании партбюро в марте констатировалось, что в первые две декады коллектив разворачивался, а в последней декаде штурмовал [24, л. 67].
В 1943 г. большинство цехов завода № 175 также отставало по графикам. К примеру, цех № 1 за 10 дней июля 1943 г. выдал товарной продукции всего лишь на 19,3 % [19, л. 140]. В результате для выполнения производственной программы цеху нужно было за 20 дней выдать 80 % продукции.
Вызывали неудовлетворение у работников система «уравниловки» и отсутствие четких критериев отнесения к стахановцам и ударникам.
Согласно распространенной на предприятиях шкале определения стахановцев и ударников, норма в 100 %, перевыполняемая на не менее 40 %, позволяла рабочему считаться ударником труда, выше 40 % – стахановцем [15, с. 334]. При этом на заседании парткома завода № 175 весной 1943 г. отмечалось, что не все знают и понимают, кто же может считаться стахановцем. В этой связи решено было издать специальный приказ, включающий сведения о критериях определения стахановцев и ударников труда [16, л. 70]. Рабочие, в свою очередь, причины невыполнения взятых обязательств видели в отсутствии социальной справедливости и соответствующей дифференциации даже в питании [28, л. 26–27].
Неудовлетворение выражали и работники АЗТМ. В сентябре 1942 г., несмотря на то, что завод стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования, работниками высказывались претензии в адрес комиссии по заработной плате и к недостаточно «хорошему» руководству соцсоревнования [30, л. 61].
В сентябре 1943 г. на заседаниях партбюро завода № 231, эвакуированного из г. Ленинград, отмечалось снижение производительности труда большинства работников, работавших в Уральске хуже, чем в Ленинграде. Объяснялось это также плохой агитационной работой и «уравниловкой»: «Нет почета стахановцам, нет позора не выполняющим нормы» [18, л. 36]. Работники эвакуированных предприятий открыто критиковали администрацию, требуя не только социальной справедливости и признания трудовых достижений, но и наказания для тех, кто не справлялся с нормами выработки.
Важнейшими факторами, приводившими к сдерживанию роста ударных форм труда среди работников эвакуированных предприятий, были обусловленные эвакуацией более тяжелые производственные и жилищные условия. Бытовая неустроенность приводила ко вторичной занятости, так называемой работе «на стороне», влиявшей на рост производительности труда. По заявлениям начальников цехов завода № 175, с 1943 г. почти 90 % рабочих, работавших во вторую смену, в дневную смену работали на других предприятиях города (мясокомбинат, саксаульная база, ликеро-водочный трест и т. д.). Многие начальники цехов обосновывали свою «терпимость» к этим явлениям тем, что рабочие плохо питались, плохо снабжались, не получали топлива и поэтому вынуждены были работать на стороне [15, c. 308].
Пропаганда ударного труда на предприятиях республики. В экстремальных условиях войны государство использовало пропаганду ударного труда, в том числе и соцсоревнование как мощный мобилизационный инструмент.
В инициировании ударных форм труда координирующая роль была у партийной организации республики. Секретарь ЦК КП(б)К Ж. Шаяхметов в октябре 1941 г. указывал на то, что некоторые агитаторы, будучи комсомольцами и коммунистами, сами не выполняют норм: «Скажите, с какими глазами они агитируют? ...Хорошо, что им не указывают на это» [37, л. 28]. Серьезное внимание отводилось печати, в том числе и стенной. В то же время партийные органы, выполняя роль контролирующей инстанции, предостерегали редакции газет от публикации однозначно пафосных панегирических материалов [15, с. 332].
Повышению производительности способствовали и общественные смотры труда, которые проводились под лозунгом «С меньшим количеством рабочих при наличии имеющегося оборудования увеличить выпуск продукции и перевозки для фронта». Подготовку и смотр необходимо было освещать в газетах, стенной печати, боевых листках, по радио, в плакатах, выпускать бюллетени [10, л. 42 об.]. ЦК КП(б)К давались задания партийным и профсоюзным организациям регулярно проводить общественные смотры труда на всех предприятиях [12, л. 173].
Одним из способов повышения мотивации и производительности труда и привлечения к соцсоревнованию был «метод красных флажков». На заводе № 317 метод отметки красным флажком станков стахановцев был широко распространен и считался положительным стимулом [4, л. 139]. Однако на заводе № 231, по мнению ряда работников, он, напротив, себя дискредитировал, так как не имел материальной базы [18, л. 35]. Показательным был случай на АЗТМ, где было решено летом 1942 г. изготовить 150 флажков для лучших стахановцев. 50 флажков забрали по цехам, 100 остались в шкафу [25, л. 26].
При этом партийные органы уделяли внимание не только вопросам агитации, но и обратной связи с рабочими. Так, политотдел Тур-ксиба в июле 1941 г. докладывал, что в беседах с агитаторами со стороны рабочих выражалась готовность пойти на еще большие лишения: «...пусть хлеба будем получать меньше, но Гитлера надо добить» [34, л. 8].
Таким образом, традиционно на партийных собраниях в качестве главного средства повышения производительности труда указывалась агитационно-пропагандистская работа, меньшее внимание уделялось вопросам материального стимулирования, что в условиях нехватки ресурсов было вполне объяснимо. В целом происходила абсолютизация роли и значения пропаганды в инициировании и поддержании ударных форм труда.
Меры материального стимулирования. В целях повышения производительности труда на предприятиях оборонной промышленности наряду с агитационно-пропагандистскими мероприятиями применялись и меры материального стимулирования, а в некоторых случаях и достаточно нестандартные подходы.
Если заработок основной массы рабочих и служащих советского тыла составлял от 300 до 500 руб. в месяц [15, с. 165], то некоторые стахановцы получали зарплату свыше 2 000 рублей. В частности, слесарь-модаль-щик завода № 175 И. Перемелицин, выполняя норму на 260–270 %, в 1944 г. зарабатывал 2 500–2 900 руб. [26, л. 72]. Для сравнения: в 1944 г. среднемесячная заработная плата на ЧСЗ составляла около 450 руб. [2, л. 24].
Партийное руководство и администрации предприятий понимали, что основным ресурсом является работник и от умения направлять этот ресурс максимально эффективно зависе- ло выполнение производственной программы и в конечном итоге исход войны.
В большинстве своем ударники труда и стахановцы пользовались социальными привилегиями, премировались, награждались орденами и медалями, получали путевки для поправки здоровья, талоны на промтовары и усиленное питание. Перевыполнение норм отражалось на снабжении стахановцев, «гвардейцев тыла». Однако в архивных документах зафиксированы многочисленные примеры того, что ударный труд не всегда был достойно оценен. К примеру, на заводе № 175 статус стахановца, особенно у молодых рабочих, не гарантировал материальное благополучие [23, л. 158].
Высокие стандарты труда, заданные стахановцами и ударниками, не всегда приветствовались остальными рабочими. Нередко в стахановцах видели причину повышения норм выработки и чрезмерной интенсификации труда. В качестве одного из видимых свидетельств неприязни, испытываемой к стахановцам, может быть указан случай в цехе № 4 АЗТМ, когда в октябре 1943 г., вследствие невыхода дежурного по цеху коммуниста, были «испачканы» портреты стахановцев [22, л. 309]. В данной ситуации нельзя исключать и действия учащихся школ фабрично-заводского обучения. На заводе № 231 в июне 1943 г. выражалась обеспокоенность тем, что стало тяжело с проведением наглядной агитации: «плакаты и лозунги срывали, в фотовитрине даже алмазом вырезали стекла. Поэтому во дворе ничего вешать нельзя» [18, л. 33].
Материально-бытовые проблемы нередко вынуждали людей совершать и противоправные действия. Рассекреченные архивные документы и исследования последних лет доносят до нас многочисленные примеры не только самоотверженного труда, но и проявлений девиантного поведения и нарушений трудовой дисциплины [15].
Ударники производства получали более высокую заплату, чем их мастера и начальники цехов, в этой связи они нередко противились повышению в должности. В январе 1945 г. один из мастеров АЗТМ жаловался в партийную организацию на то, что когда он был токарем, то зарабатывал до 1 500 руб., а став мастером, – 800 [17, л. 78].
Признанием того, что на производительность труда работников влияли не только агитационно-пропагандистская работа и материальное стимулирование, стали попытки организации отдыха и досуга для рабочих, включая и достаточно нестандартные походы. К примеру, в июле 1943 г. директором одного из предприятий было предложено организовывать для рабочих-передовиков «вылазки за город с пивом». Предложение было принято секретарем парткома завода с оговоркой, что нужно практиковать не только «вылазки», но и расширять культурно-массовую работу в целом [21, л. 153].
Можно отметить и резонансный банкет, организованный представителями номенклатуры для «руководства, старых рабочих и стахановцев цветной металлургии» в Лениногор-ске в 1943 г., в котором приняло участие до 120 человек. Комиссия партийного контроля требовала от ЦК КП(б)К осудить подобные действия, поскольку «это извращало существо социалистического соревнования» [32, л. 174]. Через 3 дня информация была обсуждена на заседании Бюро ЦК КП(б)К, где было строго указано на неправильность и недопустимость подобного рода мероприятий [11, л. 173].
В 1941 г. Лениногорскому свинцовому заводу удалось выполнить план по всем показателям [7, с. 102], однако к 1942 г. ситуация ухудшилась. Коллектив предприятия не смог выполнить в полном объеме взятые обязательства. Партийными органами было указано на то, что невыполнение обязательств со стороны отдельных работников является «обманом общественного мнения и государства» [38, л. 257–258]. В этой связи, вероятно, банкет преследовал цель повысить мотивацию труда и поощрить ударников и стахановцев.
Несмотря на условия военного времени, в республике прорабатывались вопросы организации досуга для эвакуированных рабочих. В 1943–1944 гг. в постановлениях ЦК КП(б)К давались задания освободить одно из зданий кинотеатра, занятое под склад, и организовать в нем зал для рабочих завода № 175 [13, л. 185], выделять билеты в театры города, организовывать специальные закрытые спектакли [12, л. 175].
Таким образом, для выполнения высоких производственных планов военного вре- мени и стимулирования мотивации рабочих партийным руководством и администрациями предприятий реализовывались меры как традиционного плана, с использованием средств пропаганды и агитации, материального поощрения, так и нетрадиционного.
Результаты . Несмотря на тяжелые производственные условия военного времени, работники оборонных предприятий республики внесли свой достойный вклад в победу. Часть эвакуированных предприятий производили продукцию, в буквальном смысле, под открытым небом и одновременно с возведением стен. Местные предприятия, в большинстве своем запущенные в производство в начале 1930-х гг., также находились в сложном положении: оборудование было изношенным и в аварийном состоянии. Стоит учитывать и сбои в поставке материалов, комплектующих, нехватку квалифицированных кадров и мн. др.
Содержание архивных документов не позволяет нам выделить специфику ударного труда на местных и эвакуированных предприятиях. В годы войны на всех предприятиях республики широкое распространение получили ударные формы труда в контексте соцсоревнований, стахановских вахт, фронтовых месячников и др. На развитие ударных форм труда оказывал влияние сложный спектр факторов, включающий в себя как патриотический порыв и пропаганду ударного труда, так и экономические стимулы и стремление выжить.
В реализации ударных форм труда общим как для эвакуированных, так и для местных предприятий была неравномерность производственного процесса. Однако работники эвакуированных предприятий находились в более сложном положении. Недостаточный уровень зарплат вкупе с бытовой неустроенностью приводили к так называемым «чемоданным» настроениям и к «вторичной» занятости, что не могло не отразиться на производительности труда.
Несмотря на все сложности, ударные формы труда получили широкое распространение в республике. Однако за фасадом ударного труда крылось немало проблем и противоречий. Всеобщий энтузиазм мог сменяться простоями, а выполнение плана происходило в одной из декад авральным путем.
Казахская ССР, имея свою специфику развития и существования, накануне и в годы войны находилась в общем контексте происходивших в СССР событий. Соответственно, для трудового поведения населения республики были характерны общесоюзные тенденции. С одной стороны, подчинение всем законам и требованиям военного времени и ударный труд, с другой – нестандартные практики адаптации и выживания в экстремальных условиях войны.
Тем не менее для подавляющей массы населения республики был характерен настрой во что бы то ни стало помочь воюющей Родине – дать отпор агрессору. Это выражалось в повышенных трудовых обязательствах, в помощи фронту со стороны большинства населения. В конечном итоге победа в войне не могла бы состояться без поддержки и жертв со стороны большинства обычных советских людей, в том числе и жителей Казахской ССР.