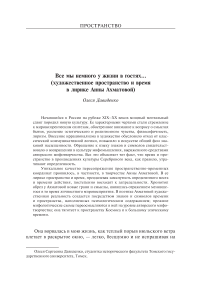Все мы немного у жизни в гостях: художественное пространство и время в лирике Анны Ахматовой
Автор: Давиденко Олеся Сергеевна
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Пространство
Статья в выпуске: 1, 2005 года.
Бесплатный доступ
Начавшийся в России на рубеже XIX-XX веков мощный ментальный сдвиг породил новую культуру. Ее характерными чертами стали стремление к мировоззренческим синтезам, обостренное внимание к вопросу о смыслах бытия, усиление эстетического и религиозного чувства, философичность, лиризм. Внесение иррационализма в художество обусловило отход от классической коммуникативной логики, повысило в искусстве общий фон знаковой насыщенности. Обращение к языку знаков и символов свидетельствовало о возвращении в культуру мифомышления, выраженного средствами авторского мифотворчества. Все это объясняет тот факт, что время и пространство в произведениях культуры Серебряного века, как правило, утрачивают определенность. Уникальное качество пересопряжения пространственно-временных координат проявилось, в частности, в творчестве Анны Ахматовой. В ее лирике пространство и время, преодолевая замкнутость определенного места и времени действия, постепенно восходят к запредельности. Хронотоп обрел у Ахматовой новые грани и смыслы, явившись отражением менявшегося в то время личностного мировосприятия. В поэтике Ахматовой художественная реальность создается посредством знаков и символов времени и пространства, наполненных психологическим содержанием; прежние мифологические схемы переосмысляются в ней на уровне авторского мифотворчества; она тяготеет к пространству Космоса и к большому эпическому времени.
Короткий адрес: https://sciup.org/14911901
IDR: 14911901
Текст научной статьи Все мы немного у жизни в гостях: художественное пространство и время в лирике Анны Ахматовой
то разрешение. Закружила, очаровала, успокоила незатейливым напевом своей «песенки о вечере разлук»…И вот уже на протяжении шести лет, с того самого памятного дня, когда мама подарила мне небольшой черный томик, я пытаюсь разгадать загадку глубоко запавшей в душу лирики Анны Ахматовой. Но Ахматова, похоже, до сих пор не торопится приоткрыть для меня завесу тайны, которую не дано (наверное, к счастью) до конца постичь никому в этом мире, — тайны своего художественного мастерства. Или — тайны невероятной силы женской души, и по сей день безошибочно подбирающей ключ к сердцу каждого своего читателя?
Как бы ни было, я искренне благодарна Анне Ахматовой за подаренные мне минуты вдохновения и тайну. Своих наставников благодарю за поддержку и понимание. А моим родителям спасибо за терпение и веру в меня.
I
Время и пространство — определяющие параметры существования мира и основополагающие формы человеческого опыта. Эти универсальные понятия в каждой культуре взаимосвязаны и образуют своего рода «модель мира», сетку координат, при посредстве которых люди воспринимают действительность и строят в сознании образ мира. «Моделью мира», сложившейся в данном обществе, человек руководствуется в своем поведении. С помощью составляющих ее категорий он отбирает импульсы и впечатления, идущие от внешнего мира, и преобразует их в данные своего внутреннего опыта.
Временные и пространственные реалии, запечатлеваемые в литературе, представляют собой некое единство, которое вслед за М. М. Бахтиным принято называть хронотопом (от др.-гр. chronos — время и topos — место, пространство, в дословном переводе — «время-пространство»). «Хронотоп, — утверждал Бахтин, — определяет художественное единство литературного произведения в его отношении к реальной действительности»1. Хотя собственно художественно-смысловые моменты не поддаются одним только пространственно-временным определениям, уяснение их смысла обязательно происходит через посредство хронотопа.
На рубеже XIX–XX веков писатели особенно интенсивно используют специальные, необычные средства пространственно-временной организации как особый, осознанный художественный прием. Начинается своего рода игра со временем и пространством. Ее смысл «состоит в том, чтобы, сопоставляя разные времена и пространства, выявить как характеристические свойства “здесь” и “теперь”, так и общие, универсальные законы бытия, осмыслить мир в его единст-ве»2. Примечательно, что такое стремление к мировоззренческим синтезам, предельное внимание к проблемам бытия и вопросу о месте в нем человека стали характерными особенностями не только поэзии, прозы и русской философской мысли начала XX столетия. Эти тенденции, наряду с другими, о которых речь пойдет далее, нашли свое выражение во всех культурных процессах рубежа веков, или эпохи Серебряного века русской культуры.
Подобного рода «пересопряжение» пространственно-временных форм проявилось, в частности, и в творчестве Анны Ахматовой. Пожалуй, ни у одного поэта XX века так драматично не складывались отношения со временем и пространством, как у нее. Ахматову дважды исключали из времени: в 1923–1939 годах она была отлучена негласно, неофициально (перестали печатать ее стихи); в 1946–1955 годах последовало второе, уже официальное отлучение. Было по сути уничтожено и предано забвению пространство ее жизни: ее дом, ее сад, ее Петербург. Но она вопреки всему продолжала жить и творить в своих особых времени и пространстве, и те оказались не подвластны никаким политическим и идеологическим вторжениям. Представляется, что одна из главных тайн Ахматовой заключается в умении владеть тем надмирным, что мы называем Бытие и Вечность.
Цель настоящей работы — анализ художественного времени и пространства в их единстве и противоречивости, в их притяжениях и отталкиваниях в лирике Ахматовой 3. В лирике разной: ранней — «простой» и «вещной» в 1910–1920-е годы, поздней — возвышенной и сложнозашифрованной в 1930–1960-е. Конечно, авторитетные филологи — В. В. Виноградов, В. М. Жирмунский, Е. С. До-бин, И. Гурвич — так или иначе затрагивали в своих трудах вопрос о специфике ахматовского хронотопа. Однако это делалось ими, как правило, в рамках статей и монографий, посвященных поэтике и творчеству Ахматовой в целом 4. Специальные исследования по интересующей автора проблеме отсутствуют, опубликованные разрозненные факты и наблюдения нуждаются в обобщении. Кроме того, учитывая возросший в последнее время в гуманитарных науках интерес к ментальной и духовной истории общества, а также стремление к интеграции знания и методов истории, лингвистики, психологии, социологии и т. д., представляется значимым и своевременным заново обратиться к осмыслению хронотопа Ахматовой, рассмотреть его в контексте общей культурной ситуации Серебряного века. При таком подходе литературное «время-пространство» обнаруживает не только связи личной биографии поэта с историей, но и раскрывает сам исторический тип мировосприятия, в нашем случае — мировосприятия, присущего новой творческой интеллигенции конца XIX — начала XX века. Созданная именно этой небольшой группой поэтов и философов, художников и композиторов культура «русского духовного ренессанса» (термин употребляется в качестве синонима понятию Серебряный век), по сути, представляла собой своеобразную модель, мыслимую ими одним из возможных вариантов развития общества.
В статье будет предпринята попытка соединения литературоведческого и историко-культурологического анализа.
II
Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли, Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ.
Эпоха Серебряного века в России совпала с моментом вступления на престол последнего императора Николая II, с последующими событиями русско-японской войны, с обострением социально-политического кризиса в стране, с взрывом первой революции в ответ на непоследовательную внутреннюю и внешнюю политику правительства. Но ускорение при этом темпов технической модернизации, стремительное развитие научной мысли, преодоление культурой географических границ и характерного для XIX столетия европоцентризма, открытие цивилизаций с совсем иным видением мира — все эти внешние, порой противоречащие друг другу обстоятельства усугубляли внутреннее состояние неопределенности, дискомфорта, которое обычно переживает личность на стыке больших хронологических пластов. В такие исторически насыщенные и напряженные периоды, зачастую провоцирующие изменения и в общественном самосознании, человек становится особенно чуток к метаморфозам, происходящим в окружающем мире — в пространстве, строит прогнозы, стремится заглянуть в будущее, предугадать дальнейшие пути своего развития — во времени .
Начавшийся в России на рубеже XIX–XX веков подобный мощный ментальный сдвиг затронул самые потаенные уголки человеческого сознания. Взоры творческой элиты — людей, наиболее восприимчивых к такого рода переменам и первыми откликающихся на них, — по-новому устремились к постижению сути человеческого бытия. Идеи разночинной интеллигенции второй половины XIX столетия переосмысляются, развиваются, дополняются. В противовес настроениям нигилизма, политическому радикализму разночинцев, проецировавшимся в том числе и на область культуры (что нашло отражение в господстве натуральной школы в искусстве, позитивизма и утилитаризма в философии), творцы Серебряного века увидели необходимость не столько политического и социально-экономического освобождения личности, сколько ее духовного раскрепощения. Смена ценностных ориентиров вносит коррективы в сферу взаимоотношений человека и Бога. Причем начавшееся в это время возрождение религиозности носило отнюдь не догматическую окраску — оно проявилось эстетически , зазвучав в произведениях искусства темами Бога, Жизни и Смерти. Философ Ф. А. Степун подчеркивал, что единство взглядов деятелей «русского духовного ренессанса» «держалось борьбой за свободу личности и свободу творчества, за новую, если и не подлинно христианскую, то все же, так сказать, духоверческую культуру»5.
Одним словом, преображенный идейный мир, входивший в культурную жизнь России, усилил тягу к иррациональным началам и создал новое образное поле, насыщенное «не видимыми, а мыслимыми духовными категориями»6. За счет этого «происходит усложнение художественных форм в сторону большей обобщенности, повышения смысловой емкости, концентрированности, инте-грационности, генерализации, укрупнения всех свойств художественного образа, рождающего новое качество искусства XX века»7 — философичность . Но, подобно театру, эпосу, разнообразным жанрам прозы, сама философия оказалась пропитанной возобладавшим тогда над всем в искусстве лиризмом . К концу XIX века начавшаяся в третье его десятилетие эпоха прозы, в соответствии с закономерной периодичностью литературного процесса, сменяется менее продолжительным периодом господства поэзии. Ибо только философии и лирике оказалось под силу разгадать порывы «метафизического» в человеке той поры.
Внесение иррационализма в художество объясняет отход на рубеже веков от традиционной сюжетно-повествовательной логики, обеспечивающей последовательный ход высказывания и повествования. Искусству становятся нечуждыми «невнятщина, затемнен-ность, загадочность»8, что объясняет усиление в культуре общего фона знаковой насыщенности. Последнее также отвечало, с одной стороны, сознательным эстетическим установкам деятелей Серебряного века, поскольку знаки и символы размывали границы однозначной семантики любого культурного текста и предполагали активное соучастие читателя (зрителя) в его восприятии, требовали самостоятельного домысливания.
С другой стороны, обращение к языку знаков и символов явилось показателем возвращения в культуру мифологического мышления . Художников привлекала свойственная традиционным культурам мифологическая концепция мира, целостное и гармоничное его восприятие. Сквозной мотив эпохи порубежья — мотив смерти старого и возможности рождения обновленного мира — претворил космогонию мифа собственно в авторское творчество. Обращение к семантике мифа, его переживание предполагают выход из времени хронологического, профанного, возвращают ко времени мифическому, исходному, сакральному, задающему соответствующее пространство, заряженное особой энергией. Время и пространство мифа актуализируют легендарные события, которые приближают к «началу начал», когда события «произошли впервые». Сознание оставляет мир обыденности и перемещается в мир преображенный. «Возвращение индивидуума к своим истокам понимается как возможность обновления и возрождения его существования»9. Поэтому «время и пространство в произведениях искусства рубежа веков обычно теряют свою определенность, конкретность, приобретая универсальность; сюжетность сменяется эмоциональным содержанием. Художник, “формулируя” действительность наступающего века, творит новый миф… Художественный вымысел становится своеобразной легендой о жизни, способом постижения ее скрытых основ и законов»10.
Итак, кардинальная перестройка личностного самосознания на рубеже XIX—XX веков и сопутствующая ей смена ценностной парадигмы породили новую культуру. Ее характерными чертами стали: углубление вопроса о смыслах бытия; сквозные философичность и лиризм; усиление религиозного, но при этом не догматического чувства; обострение эстетического начала, высокая знаковая насыщенность и жизнетворчество как вариант особого авторского мифотворчества. Эти обозначенные в общем тенденции эпохи дают возможность глубже понять своеобразие хронотопа лирики Ахматовой: он не является только индивидуальной особенностью ее поэтического склада, во многом обусловлен всей культурной ситуацией времени.
III
Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Для экспозиции лирического «я» Ахматовой с самого начала значимо измерение временное и пространственное. В ее стихах пульсирует само время, сначала зачастую «простое», «бытовое», календарное: « В среду, в три часа!» ; «гадала я в канун Крещенья »; « Ровно полдень. Воскресенье». Временная перспектива служит фоном почти всех ранних стихотворений Ахматовой, но уже тогда ею задается эмоциональный тон часов, дней, месяцев — « Дни томлений острых прожиты / Вместе с белою зимой »; « блаженный миг чудес »; « тихий день апреля ».
Новую выразительность обретает в лирике Ахматовой циклическое время — времена года, время суток. В нем отразились и мистические верования, и мифологические воззрения. Времена года традиционно ассоциировались в искусстве с земледельческим циклом: осень — время умирания, весна — возрождения. Развивая эту мифологическую схему или отталкиваясь от нее, Ахматова создает индивидуальные образы времен года, исполненные психологического смысла: «Еще весна таинственная млела »; « Самые темные дни в году / Светлыми стать должны» («9 декабря 1913 года»). Устойчивая семантическая система, в которой утро — это время пробуждения и начало нового дня, день — время труда, вечер — успокоения и отдыха, ночь — покоя или наслаждения, на рубеже веков также попадает вод влияние новой тенденции к индивидуализации эмоционально-психологического смысла времени суток. Например, ночь у Ахматовой становится временем напряженных раздумий и тревоги:
Двадцать первое. Ночь. Понедельник. Очертанья столицы во мгле.
Ряд номинаций — назывных предложений — в первом стихе задает ритм времени: гулкий и напряженный. В парном стихе — фрагмент смутного пространства. Так передается то ощущение зыбкости, неопределенности, в котором пребывает лирическая героиня.
Безусловно, тема любви доминирует в книгах молодой Ахматовой, но ее героиня никогда не выражает чувства, испытываемые или уже пережитые ею, — она всегда рассказывает о них. Поэтому большинство ранних ахматовских стихотворений — это маленькие новеллы, сказки, подслушанные «у самого моря», лирические повести о застывшем миге. Такой эффект достигается за счет про-спекции и ретроспекции — временных «прыжков» из прошлого в настоящее и наоборот. Героиня словно меняет обстановку и план рассказа, переходя неожиданно от одного времени повествования к другому. Обстоятельства-символы, поставленные рядом, но проецируемые в разные временные плоскости, не двигают «действия»; они — лишь клочки разнородных движений, соединяющихся в одном фиксированном миге, в котором прошлое и настоящее как бы «наплывают» друг на друга и время закручивается подобно воронке 11. Как подчеркивает в своей работе С. И. Кормилов, «проекция стихов на план прошедшего времени говорит о том, что происходящее осмысливается с временной дистанции. В этом своеобразная эпичность лирики Ахматовой. Лирика обычно создает иллюзию сиюминутного эмоционального присутствия…ее время — настоящее, тогда как основное время эпоса — прошедшее»12.
Пространство у Ахматовой-акмеистки первоначально заполняется ничего не значащими на первый взгляд бытовыми вещами: « Хлыстик и перчатка »; « гладкое кольцо»; « На блюде устрицы во льду ». Место действия ее ранних стихов — комната, сад, дорога, — казалось бы, ограничено: «Я на солнечном восходе / Про любовь пою, / На коленях в огороде / Лебеду полю» — так начинается стихотворение 1911 года «Песенка». А вот его концовка: «Надо мною только небо , / А со мною голос твой». С первых же строк особая психологическая наполненность пространственных координат, задающаяся через обстановку и детали, выводит стихи в бесконечное пространство мира. (« На кустах зацветает крыжовник и везут кирпичи за оградой… / Как светло здесь и как бесприютно, / Отдыхает усталое тело…»; «Сладок запах синих виноградин …/ Дразнит опьяняющая даль »).
Восприняв от поэзии Серебряного века искусство словесного символа, Ахматова приспособила его к выражению собственных переживаний, простых и земных. Пафос ее стихов, по мнению К. В. Мочульского, рождается из того, что каждое явление внешнего мира возбуждает в поэте мускульно-осязательное ощущение пространства, его измерений и отношений. Впечатления локализуются в пространстве и времени. Кажется, что Ахматова притрагивается к ним, осязает и взвешивает их. Зная их природу, она воздвигает устойчивые архитектонические композиции. Психологические состояния, чувства и настроения оформляются ею пространственно, движения души реализуются в царстве зримых, осязаемых форм 13:
Так много камней брошено в меня, Что ни один из них уже не страшен , И стройной башней стала западня , Высокою среди высоких башен.
Как видно, художественное время и пространство изначально становятся у Анны Ахматовой знаковыми категориями и предметами рефлексии, философскими лейтмотивами стихотворения. Поэт преодолевает смысловую замкнутость отдельных стихотворений, свойственную поэзии до начала XX века: авторское мифотворчество Ахматовой проявляется в создании своеобразного «времени-пространства», придающего лирическим миниатюрам сходство с драматичной новеллой. При этом мифоэпические установки Ахматовой отличаются тем, что многоплановость ее образов опирается «на выверенную веками, устоявшуюся символику, расшифровка которой не требовала специального символистского или акмеистического контекста»14.
Уже с первых книг сцепление «нечаянных деталей», четко врезанных в стихи, создает особые пространства. Среди них выделяется «сад». «Сад» у Ахматовой «сверкает и хрустит». И вместе с ним леденеетвсе вокруг. Холодные руки, летаргия, вороний крик, предчувствуемое вдовство — знаковые мотивы, модные в поэзии начала XX века. Но их соединение, сцепление, слияние у Ахматовой уникально — и свет темен, и тьма светла:
Я места ищу для могилы. Не знаешь ли, где светлей? Так холодно в поле. Унылы У моря груды камней.
А она привыкла к покою И любит солнечный свет. Я келью над ней построю, Как дом наш на много лет.
Келья над могилой, дом над бездной…В стихах 1911 года уже задано пространство, которое будет потом преследовать поэта до последних мгновений. Как и когда оно возникло? Возможно, случилось это в годы Первой мировой войны, а окончательно оно утвердилось к 1917 году, когда впервые раздался голос, зовущий ниоткуда, как будто вещающий из надчеловеческой выси. И ответ туда же: в бездну, в небытие, в никуда.
Мне голос был. Он звал утешно, Он говорил: «Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию навсегда».
«Мне голос был» — сказано так, словно речь идет о божественном откровении. Вообще, как отмечали современники, «в России давно не было поэта, который поминал бы имя Господне так часто»15: «Отчего же бог меня наказывал…»; «Я у бога вымолю прощенье»; «Неистощима только синева / Небесная и милосердье бога ». Но если, например, у символистов религиозное чувство несло с собой некое «мистическое настроение, непосредственное и глубоко индивидуалистическое переживание бесконечности, всегда неспокойное, взволнованное, колеблющееся между взлетами и падениями»16, то у Ахматовой, напротив, религиозность вписывается в пространство ежедневного существования, «прорисовывается» через простоту быта: « Протертый коврик под иконой »; «Ав Библии красный кленовый лист / Заложен на Песни Песней »; «Небо мелкий дождик сеет / На зацветшую сирень . / За окном крылами веет / Белый, белый Духов день ». Особенно насыщенным религиозной образностью, словами молитв и обращениями ко Всевышнему оказался третий сборник Ахматовой «Белая стая» (1917). Может быть, это связано с убеждением в сопричастности величайшим тайнам бытия?
Приведенное выше стихотворение «Мне голос был. Он звал утешно…» звучит с пророческой интонацией. В нем ясно слышится готовность к худшему. В исторической перспективе маячил большевистский переворот, за ним последовали эпопея гражданской войны, сталинский террор, потрясения Второй мировой войны. Получается, что остаться в этом пространстве — географическом пространстве России и земного мира в целом — означало непременно принять поражения и обиды, кровь и стыд, скорбь и горечь. И только так, по-ахматовски, — максималистски.
Если в строках Ахматовой первого десятилетия действие совершалось в трех видимых измерениях, на четко очерченной площадке и в строго назначенный час, то с конца двадцатых годов в ее лирике все больше намеков, недосказанности, того, что нельзя определить, а можно только угадать: «Смотрю взволнованно на темные палаты …/ И вижу дивный град …»; «Я была на краю чего-то , / Чему верного нетназванья…»; «Ая иду — за мной беда, / Не прямо и не косо ,
/А в никуда и в никогда , / Как поезда с откоса». Но одновременно о художественном мире Ахматовой можно сказать и так: гравюрно резкое отражение перевернутой реальности. Ибо «нежизнь» становится для поэта формой жизни. Даже в сильнейших стихах военных лет («Клятва», «Мужество», «Победителям») образы разрознены: «Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, / Внуки, братики, сыновья!»; отсутствуют срединные координаты страны: исторические, социальные, геополитические. Душа, являющаяся «ниоткуда», какой видит ее Л. Аннинский, облекается в жизнь народа, а обозначению поддаются лишь запредельные координаты отлетающей жизни 17: «И время прочь , и пространство прочь …/ Но и ты мне не можешь помочь».
Не только пространство и его отношения, но и время восходит к запредельности в поэтике Ахматовой: «И я не узнала — ты враг или друг, / Зима это или лето »; «И чудилось: рядом шагают века »; « Конец ли дня, конец ли мира, / Иль тайна тайн во мне опять». Иногда жизнь видится Ахматовой с разных временных точек одновременно , как будто со стороны, откуда-то сверху, как, например, в одном из последних циклов «Северные элегии» (1945, 1955, 1962–1965). Из «Предыстории» (так называется первая элегия), из России Достоевского, Некрасова и Салтыкова поэт переносится в десятые годы (вторая элегия): «И никакого розового детства…/ Веснушечек, и мишек, и игрушек…», а затем вновь обращается к настоящему (четвертая элегия): «Так вот он — тот осенний пейзаж , / Которого я всю жизнь боялась : / И небо — как пылающая бездна , / И звуки города — как с того света ». Перетекание прошлого в настоящее и наоборот создает здесь «двойную экспозицию», а порой — и «тройную», когда рядом с прожитой жизнью вырисовывается воображаемая, параллельная (пятая элегия): «Мне подменили жизнь. В другое русло , / Мимо другого потекла она …». Так, через новую соотнесенность времен в поэтическом сознании Ахматовой выкристаллизовалась тема памяти 18.
Из всех своих современников Ахматова в наибольшей степени оказалась причастна той таинственной «“лермонтовской” прапамя-ти, которая из земной юдоли уводит в “никуда” и возвращает в жизнь “ниоткуда”. Чем дальше отлетает пережитое, тем горше ощущение бытийной опустошенности, оплакать которую не хватает слез и слезы эти миру невидимы»19. Тайной поэтического бытия стала запредельность. Тайной этого , земного, бытия — обреченность. Так Анна Ахматова вышла к Бытию и Вечности.
***
Мы видим, что на протяжении всего своего творчества Ахматова выстраивала хронотоп как некую обобщающую образную категорию. Будучи порождением и отражением менявшегося на рубеже веков видения мира, он обрел у нее новые грани и смыслы, стал сквозной нитью бытия. В ее лирике это проявилось в создании художественной реальности посредством знаков и символов пространства и времени, наполненных психологическим содержанием; в переосмыслении прежних мифологических схем на уровне авторского мифотворчества; в тяготении к всеобщему пространству Космоса (как божественному творению) и к большому эпическому времени. К этому всеобщему пространству и к этому большому времени Ахматова приходит, преодолевая замкнутость определенного места и определенного времени действия.
Список литературы Все мы немного у жизни в гостях: художественное пространство и время в лирике Анны Ахматовой
- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по истори ческой поэтике//М. М. Бахтин. Эпос и роман. СПб., Азбука, 2000. С. 176.
- Есин А. Б. Время и пространство//Введение в литературоведение: Лите ратурное произведение: основные понятия и термины. М., 1999. С. 58.
- Виноградов В. В. О поэзии Анны Ахматовой (Стилистиче ские наброски)//Поэтика русской литературы. Избранные труды. М., Наука, 1976. С. 369-459;
- Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой. Л., Наука, 1973
- Добин Е. С. Поэзия Анны Ахматовой. Л., Советский писатель, 1968; Гурвич И. Художественное открытие в лирике Ахматовой//Вопросы литературы. 1995. Вып. III. С. 153-174.
- Степун Ф. А. Россия накануне 1914 года//Вопросы философии, 1992. № 9. С. 91.
- Сарабъянов Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., Сов. художник, 1980. С. 173.
- Акелъкина Е. А. В поисках цельности духа, Бога и вечности (Пути развития русской философской прозы конца XIX века)/Омский гос. ун-т. Омск, 1998.
- Элиаде М. Аспекты мифа. М., Академический Проект, 2000. С. 24.
- Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века: Со циокультурные факторы формирования общественного сознания российской куль турной элиты рубежа XIX-XX веков. Томск, Изд-во Томского ун-та, 2003. С. 83.
- Кормимое С. И. Поэтическое творчество Анны Ахматовой. М., Изд-во МГУ, 1998. С. 43-44.
- Мочулъский К. В. Поэтическое творчество Анны Ахматовой//Литератур ное обозрение, 1989. № 5. С. 51.
- Чуковский К. И. Ахматова и Маяковский//Вопросы литературы, 1988. № 1. С. 180.
- Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм//Теория литературы. По этика. Стилистика. Л., Наука, 1976. С. 119-120.
- Аннинский Л. Серебро и чернь//Литература, 1995. № 2. С. 3.