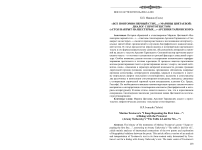«Все повторяю первый стих...» Марины Цветаевой: диалог с прототекстом («Стол накрыт на шестерых.» Арсения Тарковского)
Автор: Иванюк Борис Павлович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
История обращений к стихотворению Марины Цветаевой «Все повторяю первый стих.» - ответном стихотворению Арсения Тарковского «Стол накрыт на шестерых...» сводится преимущественно к исследованию интертекстуальных связей обоих произведений и изучению биографических взаимоотношений поэтов. В статье предлагается версия анализа и интерпретации цветаевского текста в его формосодержательном единстве, обусловленном авторской установкой на диалог с текстом Арсения Тарковского. Основной вектор прочтения цветаевского текста - от поэтики и семантики его речевой фактуры к смысловой структуре. Особое внимание уделено поэтике и содержанию полемического парафразирования прототекста и поэтике адресации. В процессе анализа прослежены мотивы редактирования текста и редактирования жизни / смерти, числовой лейтмотив «семь», изменения в характере авторской модальности, ролевая градация лирической героини (незваная, самозванка, призванная), обозначены жанровые признаки антистрофы, литературного апокрифа, миракля и входящего в систему мортальных жанров «последнего стихотворения», выделены и сопоставлены две различимые в композиции стихотворения мизансцены, выявлены, связанные с сотворенным лирической героиней чудом воскрешения, аллюзии (Св. Грааль, Голгофа). По необходимости введены комментирующие процесс аналитического восприятия и интерпретации стихотворения контексты (биографический и историко-литературный). В конце статьи делается вывод о том, что в адресованном содержании стихотворения заключена умолчанная заявка Цветаевой на поэтическую реинкарнацию.
Марина цветаева, арсений тарковский, диалог с прототекстом, мифологические аллюзии, «последнее стихотворение»
Короткий адрес: https://sciup.org/149141264
IDR: 149141264 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-203
Текст научной статьи «Все повторяю первый стих...» Марины Цветаевой: диалог с прототекстом («Стол накрыт на шестерых.» Арсения Тарковского)
Марина Цветаева
***
«Я стол накрыл на шестерых...»
Все повторяю первый стих И все переправляю слово: -«Я стол накрыл на шестерых»... Ты одного забыл - седьмого.
Невесело вам вшестером.
На лицах - дождевые струи... Как мог ты за таким столом Седьмого позабыть - седьмую...
Невесело твоим гостям, Бездействует графин хрустальный. Печально - им, печален сам, Непозванная - всех печальней.
Невесело и несветло.
Ах! не едите и не пьете. -
Как мог ты позабыть число?
Как мог ты ошибиться в счете?
Как мог, как смел ты не понять, Что шестеро (два брата, третий -

Ты сам - с женой, отец и мать) Есть семеро - раз я на свете!
Ты стол накрыл на шестерых, Но шестерыми мир не вымер. Чем пугалом среди живых -Быть призраком хочу - с твоими
(Своими...) Робкая как вор, О - ни души не задевая! -За непоставленный прибор Сажусь, незваная, седьмая.
Раз! - опрокинула стакан!
И все, что жаждало пролиться, -Вся соль из глаз, вся кровь из ран -Со скатерти на половицы.
И - гроба нет! Разлуки - нет!
Стол расколдован, дом разбужен, Как смерть - на свадебный обед, Я - жизнь, пришедшая на ужин.
.. .Никто: не брат, не сын, не муж,
Не друг - и все же укоряю:
-
- Ты, стол накрывший на шесть - душ,
Меня не посадивший - с краю [Цветаева 1991, 357-358].
Арсений Тарковский
Меловой да соляной
Твой Славянск родной, Надоело быть одной -Посиди со мной...
Стол накрыт на шестерых, Розы да хрусталь, А среди гостей моих Горе да печаль.
И со мною мой отец, И со мною брат.
Час проходит. Наконец У дверей стучат.
Как двенадцать лет назад,
Холодна рука
И немодные шумят Синие шелка.
И вино звенит из тьмы, И поет стекло:
«Как тебя любили мы, Сколько лет прошло!»
Улыбнется мне отец,
Брат нальет вина,
Даст мне руку без колец, Скажет мне она:
-
- Каблучки мои в пыли,
Выцвела коса,
И поют из-под земли
Наши голоса [Тарковский 1991, 371-372].
Диалог с прототекстом в формате разговорного 4-стопного ямба начинается с настойчивой, оформленной эпанафорой («Все» - «И все»), правки его первого стиха. Он произносится дважды. Как наружный эпиграф-тезис, опровергаемый всем стихотворением с очевидными признаками антистрофы (жанр диалогической лирики, полемическое произведение-ответ на чужой текст), и как внутристрофная отредактированная цитата: замена безличного «стол накрыт» на местоименное «Я стол накрыл...» возлагает на адресата стихотворения персональную ответственность за неприглаше-ние Цветаевой, тем самым оправдывает ее жанровый пафос. Таким образом, «первый стих», воспринимается не ошибочным, а замышленным, хотя по косвенным свидетельствам Цветаева, присутствовавшая на чтении стихотворения [Белкина 1988, 170], воспроизвела его по памяти.
Содержание правки «первого стиха» Тарковского, маркированного аллитерацией первого стиха Цветаевой («повторяю первый»), определяется срединной вертикальной рифмой, связывающей два созвучных этой аллитерации глагола (повторяю - переправляю) в единое действие. Предмет правки - количество застольников. Рифменная позиция числительных и в особенности подчеркнутая тире ритмико-интонационная пауза выделяют итоговое для строфы и ключевое для всего стихотворения слово «седьмого», полемического в отношении к цитируемому числительному. Оба связанных числительных в дальнейшем варьируются, образуя речевые фигуры - эпитимесис (стилистическая фигура, изменение или уточнение ранее сказанного) «Седьмого позабыть - седьмую...» (вторая строфа) и полиптотон (грамматическая фигура, повтор одного и того же слова в разных падежных формах) «седьмую» (вторая строфа) и «седьмая» (седь-

мая строфа); метаклисис (повтор, изменяющий слово) «вшестером» (вторая строфа), «шестеро» (пятая строфа), «шестерыми» (шестая строфа) и «шесть» (десятая строфа). Эти повторы участвуют в осуществлении двуединой целевой установки стихотворного дискурса - убедить адресата в своей правоте и тем самым вызвать у него чувство вины.
Но вернемся к четвертому стиху. Его назначение заключается в том, что он открывает мотив редактирования жизни, который воспринимается таковым в сопоставлении с предыдущим стихом. И если субъектом текстовой редакции является биографический автор, то субъектом жизненной -лирическая героиня как персонажная объективация поэта. Этот мотив разворачивается в предлагаемых Тарковским жизненных обстоятельствах, воспроизводимых в новой редакции.
В обоих стихотворениях различимы две мизансцены. Первая - до при-шелицы. У Тарковского мизансцена ее ожидания, охватывающая вторую и первый период третьей строфы, - экспозиционная по значению, статичная по характеру, непрерывная и экономная в описании. Как и у Тарковского, в первой мизансцене у Цветаевой обездвиженные персонажи, обозначенные глаголами бездействия («не едите и не пьете»), объединены («вшестером») эмфатическим «таким столом» и соответствующим ему настроением, определяемым анафорой «невесело» и подкрепленным изобразительными деталями в каждом 2-м стихе второй - четвертой строф. При этом заимствуется у Тарковского с опредмечиванием и глагольным уточнением, соответствующим характеру мизансцены, метонимический «хрусталь» («бездействует графин хрустальный»). От соседствующего же с «хрусталем» выразительного слова «розы» у Тарковского остается за-текстовый след: оно образует аллюзивную рифму со словом «слезы», замещенного перифразом «На лицах - дождевые струи» (традиционное для русской поэзии уподобление, к примеру, у Ф.И. Тютчева: «Слезы людские, о слезы людские <...> Льетесь, как льются струи дождевые...» [Тютчев 1966, 112]. Причем, в сравнении с отстраненным рассказом Тарковского о событии изображенная мизансцена у Цветаевой дискретная, перемежающаяся рефлексивными репликами, варьирующими числовой лейтмотив «семь». В стихотворении он реализуется как сквозной, но парцеллированный монолог, в структуре строф, в последних (ем) стихах - как относительно самостоятельный компонент, лишь в пятой строфе занимая все текстовое пространство. Монолог, представляющий собой восходящую градацию авторской экспрессии с опорными глаголами «забыл» и его дериватом «позабыть», «ошибиться», «не понять», завершается авторской расшифровкой числа «семь».
Тарковский называет среди «шестерых» только мертвых гостей (стихотворение написано в 1940 г, к этому времени трое из шестерых уже умерли: старший и единственный брат Валерий в 1919г, отец - в 1924 г, возлюбленная, прототип пришелицы, - Мария Фальц в 1932 г; фраза «как 12 лет назад» точно указывает дату их последней встречи - 1928 г). Цветаева же - частично меняет состав и количество участников встречи: жи- вые «мать» и «ты сам с женой», мертвые «отец» и «два (? - Б.И.) брата». Как видим, в списке не значится возлюбленная поэта, словно замещенная вторым несуществующим братом, хотя она является главным событийным участником стихотворения Тарковского. Это умолчание - вполне выразительное, чтобы искать ему биографическое объяснение. (К примеру, Н. Савельева: «Марина Ивановна не поняла - или не захотела понять, - что на ужин к Тарковскому приходит его умершая возлюбленная. Может быть, зная это, она не написала бы ему эти ответные стихи, которые звучат не только как укор, но и как надежда на поворот к лучшему в их отношениях» [Савельева 2001]). Но в границах текста цветаевские подсчет и перечисление присутствующих у Тарковского оправданы пока что декларативной правотой «непозванной» (чужой) быть к ним причастной, что аргументируется ею суггестивным тождеством «шестеро <...> есть семеро».
Числовая парентеза («два брата, третий - ты сам с женой, отец и мать») обрамлена обращением к Тарковскому, которое завершает восходящую градацию его обвинения. При последовательной выборке стихов, объединенных расширенной анафорой (трижды - во второй и четвертой строфах «Как мог ты», в пятой - «Как мог, как смел ты»), это подтверждается соответствующей интонацией, структурированной в стилистических фигурах с закрепленными за ними пунктуационными знаками (речевой обрыв, выраженный многоточием во второй строфе, риторические вопросы - в четвертой и - риторическое восклицание - в пятой).
Обвинение «другого» синхронизировано с самоутверждением, которое в пятой строфе достигает такого же градационного предела. Если предыдущие строфы кумулировали отсутствующее присутствие «непозванной», то в этой - неоднократная метонимия «седьмая» увязывается, наконец, со своим отсроченным, но ожидаемым субъектом, интонационный эффект провозглашения которого («раз я на свете!») подготовлен упомянутой ре-тардационной парентезой.
Пятой строфой завершается первая мизансцена, что подчеркнуто первым стихом следующей строфы «Ты стол накрыл на шестерых», контрастирующим с эмоциональным предыдущим. Он, закольцованный с началом стихотворения, обозначает исходную ситуацию, обусловленную цитируемой строчкой Тарковского, но уже без продолжения первой мизансцены с сопутствующей ей обвинительной риторикой.
Отталкиваясь от первого стиха-зачина, Цветаева разыгрывает вторую, собственную и событийную, мизансцену в седьмой - девятой строфах с предварительным ее обоснованием в этой же, переходной по назначению, шестой строфе, обращенной, как и предыдущие, к Тарковскому. Она состоит из двух периодов. Остановимся на первом периоде (1 -й-2-й стихи), на уточнении слова «шестерых» подхватным, маркированным аллитерацией, содержащим полемичное утверждение стихом «Но шестерыми...». В отличие от оживления мертвых Тарковским Цветаева умерщвляет живых, тем самым обусловливает желанное ею причащение смерти во втором периоде строфы: в З-м-4-м стихах обозначены коллизия волевого выбора -
быть «пугалом среди живых» или «Быть призраком хочу - с твоими».
Переход лирической героини из чужого мира живых в свой мир мертвых совершается по местоименным, обозначающим строфическое пограничье, антонимам «твоими» - «своими». Первое слово седьмой строфы «своими» обособлено скобками с имплицитным значением «присвоение», тождественным значению последующего словосочетания - «робкая как вор». Мотивированное самозванством лирической героини (в отличие от приглашенной Тарковским гостьи), это словосочетание диагностирует ее внутреннее самочувствие и определяет характер ее первичного, в театральной терминологии, «физического действия», означивающего преодоление ею несобственного отчуждения от «твоих» и приобщение к «своим». С этого робкого (как и речевая поступь в начале стихотворения) поступка начинается вторая, в полуобновленном хронотопе, мизансцена -в «посмертном» времени, но в том же, описанном «с порога», интерьере и с теми же - по умолчанию - участниками. Назовем эту мизансцену домашним Элизиумом.
В отношении к прототексту первая мизансцена является ремейком, вторая - сиквелом. Причем, лирическая героиня в обеих воображаемых ею мизансценах выступает в роли живого призрака с той лишь разницей, что в первой он (призрак) как чужак «в предлагаемых обстоятельствах» -рефлектирующий персонаж, а во второй - действующий, что обусловливает прерывный характер первой мизансцены и цельный - второй. Изобразительная цельность обеспечивается единством действа, охватывающего восьмую и первый период девятой строфы и развивающегося по каузальному (правдоподобному) алгоритму: исходный жест, контрастирующий с робким вхождением лирической героини, энергичный, ритмически маркированный ударением «Раз!» и усиленный «эхо» («раз-луки», «расколдован», «раз-бужен»), и два его, последовательно связанных между собой анафорическим союзом «и», следствия («И все, что жаждало...» - «И гроба нет...»). Динамический эффект действа усилен статичностью первой мизансцены и выражен четким темпоритмом стихов, что достигается комплексным использованием обозначенных тире эллипсисов («Вся соль из глаз, вся кровь из ран - / Со скатерти - на половицы») и синтагм-полустиший из простых предложений (подлежащее + сказуемое), объединенных синтаксическими параллелизмами («И - гроба нет! Разлуки - нет! / Стол расколдован, дом разбужен»), а также фразовым, соответствующим стиховым, членением текста (отсутствием анжабеманов). Цельности всей мизансцены способствует и звуковая «прошивка» текста: «расколдован, дом», «свадебный обед», «жизнь, пришедшая на ужин.
Содержание же действа определяется аллюзией легенды о Св. Граале, - священном сосуде с жертвенной кровью Христа, собранной Иосифом Аримафейским на Голгофе, легенды, которая, как известно, не приобрела сюжетного инварианта и канонического толкования, что и позволяет разночтения, допустимые ее смысловым потенциалом - жертвенное искупление Христом первородного греха, дарующее человеку возможность спасения, духовного анабасиса и бессмертия. Эта мифологема, адаптированная к стихотворной реальности, конкретизируется крестоподобным «пугалом» - Голгофой Цветаевой - и обытовлением Св. Чаши ритуализированным стаканом из «непоставленного прибора» и пролитием сакральной субстанции «Со скатерти на половицы». Можно сказать, что эта авторизованная мифологема реализуется в жанре поэтического апокрифа.
Происходит метаморфоза и с лирической героиней. Она уже не незваная и самозванка, но призванная собственноручно править не только текст, но и судьбы. Ее самоутверждение оформлено пуантом «Я - жизнь, пришедшая на ужин», завершающим действо с жанровыми признаками миракля и осмысляемого в антитетической связке с предшествующим стихом («Как смерть - на свадебный обед»).
Сотворенное лирической героиней чудо воскрешения отсылает к традиционным сюжетным мотивам, разработанным на основе мифологемы умирания-воскрешения и распространенным в религиозной, фольклорной и литературной практике разных народов. Прежде всего - к мотиву из пасхального тропаря «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ / и сущим во гробех живот даровав». В этом контексте формируется рецептивная мысль о смертном самопожертвовании лирической героини ради жизни своих, мысль, обосновывающее ее право быть своей среди своих и тем самым правоту обвинения своего Тарковского. Обоснование конкретизируется в завершительной строфе.
Она открывается речевым обрывом, отчеркивающим, прерванное мизансценой, прямое обращение Цветаевой к Тарковскому. Оно начинается зевгмой «никто», объединяющей типичные варианты мирских связей людей, и именно отсутствие таковых между Цветаевой и Тарковским оправдывает, по мнению Цветаевой, ее неприглашение им. Обвинение же исходит из ментальных отношений поэтов. Оно номинировано словом «укоряю», который завершает ряд глаголов той же модальности («забыл», «позабыть», «ошибиться в счете», «смел ты не понять»), является их семантическим знаменателем непонимания, но уже не атрибутированным в отличие от них Тарковскому. Но главное, слово «укоряю» проясняет причинный смысл обвинения, заключенный в рифмованном с ним словосочетании «с краю» во втором периоде строфы, связанном с первым пояснительным двоеточием.
Второй период начинается стихом, перекликающимся общей словоформой «душа» с соответствующим стихом седьмой строфы («О - ни души не задевая») (курсив автора, если не указано иначе -Б.И.у Оба, производные от этой словоформы, слова, выделенные курсивом, имеют общее значение, определяемое предсказуемым эпитетом «родственные», но в стихе «О - ни души не задевая!» - речь идет о душах мертвых, а в стихе «Ты стол накрывший на шесть душ» - и живых, и мертвых. Лексическое же сходство однокоренных словоформ «не посадивший» и «сажусь» обосновывает возвратное сопоставление последнего стиха последней строфы («Меня не посадивший - с краю») с последним стихом той же седь- мой строфы («Сажусь незваная, седьмая»). Их внешняя семантическая разница очевидна: самовольный поступок лирической героини, с одной стороны, и не-поступок Тарковского, с другой, оправдываемый, как было сказано, мирской и необъяснимый ментальной причинами. И в этом, авто-логическом, плане словосочетание «с краю» воспринимается избыточным уточнением место-неположения «седьмой» в изображенной мизансцене. Но в нем, обособленном тире, придвигающем его к краю текста, заключен смысловой подтекст, не исчерпываемый поминальным локусом, но позволяющий прояснить экзистенциальное местоположение Цветаевой, диагностируемое традиционной метафорой «на краю жизни».
Предчувствие / знание вынужденного или добровольного ухода из жизни является жанровой темой «последнего стихотворения» (здесь: жанр мортальной поэзии) с нередко вплетенными в него мотивами прощания и прощения со значением субъектного отторжения от жизни, иногда сопровождаемого чувством элегического превосходства над живыми - оборотным чувству высшей несправедливости. В анализируемом же тексте таковые отсутствуют, как и другие типичные, в частности, жанровые мотивы, к примеру, молитвы, обращенной к трансцендентному (-ым) существу (-ам), и завещания, обращенного к земному (-ым). Феноменальность же «последнего стихотворения» Цветаевой заключается в промежуточном, между жизнью и смертью, ее ментальном (не физическом) состоянии, которое выражено в двойственной поэтике адресации: с одной стороны, она (поэтика) провоцирует конкретного и знаемого современника на живой диалог, а с другой, в ней отсутствуют признаки ожидания и, главное, необходимости возвратного слова. Иначе говоря, это диалог, замыкающийся на субъекте, который отторгает своего адресата монологическим обвинением.
В жизненной же реальности диалог разомкнется покаянными «Я слышу, я не сплю, зовешь меня, Марина...» и др. разновременными стихотворениями Тарковского, собранными в цикл «Памяти М.И. Цветаевой», ставший ее мнемоническим воскрешением.
Однако в цветаевском тексте можно усмотреть еще один из характерных для «последнего стихотворения» жанровый мотив, имплицированный во второй мизансцене - композиционной вставке изображенного действа в структуре монологической речи. Чудо воскрешения, на наш взгляд, является не только аргументом обвинения, т.е. имеет окказиональное значение. В нем заключена, превосходящая адресованное содержание стихотворения, умолчанная заявка Цветаевой на поэтическую реинкарнацию, мотив которой вписывается в традицию «Памятника», начатую горацианской одой «К Мельпомене».
Список литературы «Все повторяю первый стих...» Марины Цветаевой: диалог с прототекстом («Стол накрыт на шестерых.» Арсения Тарковского)
- Белкина М.И. Скрещение судеб. Москва: Книга, 1988. 448 с.
- Боровикова М. Цветаева и Ахматова (вокруг последнего стихотворения Марины Цветаевой) // Ruthenia. URL: http://www.ruthenia.ru/document/528720.html (дата обращения 24.01.2022).
- Делаланд Н. Отрывок из исследования о Марине Цветаевой, а также о душе, смерти и жизни. URL: https://rrosrp.livejournal.com/124872.html (дата обращения 24.01.2022).
- Кривомазов А.Н. Арсений Тарковский и Марина Цветаева. URL: https://omiliya.org/article/arseniy-tarkovskiy-i-marina-cvetaeva-ankrivomazov (дата обращения 24.01.2022).
- Савельева Н. Марина Цветаева и Арсений Тарковский. URL: http://moloko.ruspole.info/node/61 (дата обращения 24.01.2022).
- Тарковский А.А. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 1. Стихотворения / Сост. Т. Озерской-Тарковской; Вступ. ст. К. Ковальджи; Примеч. А. Лаврина. Москва: Художественная литература, 1991. 462 с.
- Тютчев Ф.И. Лирика. Т. I / Под. ред. К.В. Пигарева. Москва: Наука, 1966. 447 с.
- Цветаева М.И. Стихотворения. Поэмы / Вступ. ст, сост. и комм. А.А. Саакянц. Москва: Правда, 1991. 688 с.