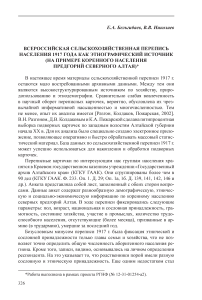Всероссийская сельскохозяйственная перепись населения 1917 года как этнографический источник (на примере коренного населения предгорий Северного Алтая)
Автор: Бельгибаев Е.А., Николаев В.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521880
IDR: 14521880
Текст статьи Всероссийская сельскохозяйственная перепись населения 1917 года как этнографический источник (на примере коренного населения предгорий Северного Алтая)
В настоящее время материалы сельскохозяйственной переписи 1917 г. остаются мало востребованными архивными данными. Между тем они являются высокоструктурированным источником по хозяйству, природопользованию и этнодемографии. Сравнительно слабая вовлеченность в научный оборот переписных карточек, вероятно, обусловлена их чрезвычайной информативной насыщенностью и многочисленностью. Тем не менее, опыт их анализа имеется [Разгон, Колдаков, Пожарская, 2002]. В.Н. Разгоном, Д.В. Колдаковым и К.А. Пожарской сделана пятипроцентная выборка подворных карточек по западным волостям Алтайской губернии начала XX в. Для их анализа было специально создано электронное приложение, позволяющее оперативно и быстро обрабатывать массовый статистический материал. База данных по сельскохозяйственной переписи 1917 г. может успешно использоваться для накопления и обработки подворных карточек.
Переписные карточки по интересующим нас группам населения хранятся в Краевом государственном казенном учреждении «Государственный архив Алтайского края» (КГКУ ГААК). Они сгруппированы более чем в 90 дел (КГКУ ГААК. Ф. 233. Оп. 1. Д. 29; Оп. 1а, 1б. Д. 139, 141, 142, 146 и др.). Анкета представляла собой лист, заполненный с обеих сторон вопросами. Данные анкет содержат разнообразную демографическую, этническую и социально-экономическую информацию по коренному населению северных предгорий Алтая. В ходе переписи фиксировались следующие параметры: пол, возраст, национальная и сословная принадлежность, грамотность, состояние хозяйства, участие в промыслах, количество трудоспособного населения, отсутствующие (более месяца), призванные в армию (в трудармию), умершие за последний год.
Безусловным минусом переписи 1917 г. была фиксация этнической и сословной принадлежности только главы семьи и хозяйства, что не позволяет точно определить общую численность аборигенного населения региона. Кроме того, записи, видимо, основывались на личном определении респондента. На это указывает то, что родственники порой имели разную сословную и этническую принадлежность. Еще одним недостатком стал неполный охват территории страны. Помимо оккупированных Германской империей и ее союзниками земель вне обследований остались труднодоступные территории (например, большая часть аилов и улусов челканцев). Именно этим объясняется отсутствие интереса к материалам переписи у этнографов в предыдущие годы.
В материалах сельскохозяйственной переписи 1917 г. отразился многоуровневый характер этнического самосознания коренного населения региона. Переписчики регистрировали сословную и национальную принадлежность главы семьи со слов респондента. Если с сословной идентичностью аборигены определялись четко: «инородец» или «крестьянин» (иногда в графе «сословие» фиксировалась национальность, что можно связать с невнимательностью корреспондента), то графа «национальность» предлагает весь спектр этнонимов Алтая – «алтаец», «кумандинец», «инородец», «татарин», «верхний или нижний кумандинец», «кузен» и т.д. Как видим, приведенные наименования относятся к разным таксономическим уровням идентичности этнических групп предгорий Северного Алтая, позволяя реконструировать их иерархию и локализовать территориально.
Графа о составе семьи включала сведения об имени, возрасте, семейном положении, трудоспособности и причастности к той или иной хозяйственной деятельности. Помимо христианских имен переписчики в некоторых случаях фиксировали традиционные имена автохтонного населения предгорий Северного Алтая, что пополнило сведения по антропонимии и наряду с фамилиями позволило определить территорию их бытования.
Сведения о семье позволяют рассчитать демографические показатели для коренного населения: количество поколений и супружеских пар в семьях, число детей, тип семьи, соотношение возраста мужа и жены, состояние в браке по возрастным группам, смертность и рождаемость (эти данные неполные, но отражают общую картину) и т.д. При составлении возрастных пирамид необходимо учитывать неточность информации. Большинство цифр округлено (5, 10, 15, 20 лет и далее). Отчасти при переписи фиксировались сведения о миграционной активности как пришлого, так и аборигенного населения.
К настоящему времени нами скопировано более четверти всего материала, что составило более 1 тыс. домохозяйств Нижне-Кумандинской, Верх-Бийской и Лебедской волостей Бийского уезда Томской губернии. Параллельно создается база данных, позволяющая исследовать различные аспекты хозяйственного и этнодемографического развития коренного тюркоязычного населения северных предгорий Алтая на уровне отдельных населенных пунктов и волостей.
В основу базы данных положена структура подворной анкеты сельскохозяйственной переписи 1917 г. [Разгон, Колдаков, Пожарская, 2002, с. 22–23]. Примером возможностей ее использования может служить предварительный анализ хозяйственного развития отдельных населенных пунктов Верх-Бийской (аилы Терегеч, Пыжа, Таш-Торгон и Ново-Троицк) и
Нижне-Кумандинской (с. Пильно) волостей (КГКУ ГААК. Ф. 233. Оп. 1а. Д. 143. Л. 1–8, 10–13, 15, 16, 1821–36,38–45, 46–51; Д. 194. Л. 10, 12, 13, 15–21, 42, 55–61, 63–65, 70–81, 89, 90).
Важные сведения по хозяйственной деятельности коренного населения северных предгорий Алтая содержатся в целом ряде таблиц базы данных: «Землевладение», «Посевы», «Сельскохозяйственный инвентарь», «Обеспеченность скотом» и др. Анализ всех этих материалов позволит реконструировать хозяйство и систему природопользования автохтонов рубежа XIX–XX вв. Они несомненно уже находилась в состоянии модернизации под влиянием различных факторов – природно-ландшафтных условий, интенсивности взаимодействия с крестьянским населением, степенью вовлеченности в товарно-денежные отношения и т.д.
Сопоставление систем природопользования населения Верх-Бийской (тубалары) и Нижне-Кумандинской (кумандинцы) волостей позволило выделить две модели хозяйства.
Первую модель можно условно назвать горно-таежной . Хозяйство носило комплексный характер. Основными видами деятельности являлись земледелие с использованием примитивных плугов, стойловое скотоводство, охота и сбор орехов. При этом, как и в кумандинских поселках, земля находилась исключительно в общинном землепользовании. Общий объем посевной площади в 44 тубаларских домохозяйствах составил немногим более 17 дес., в том числе 12 дес. отводилось под ячмень (72,7 % всех культивируемых злаков). Важную роль в хозяйстве играло скотоводство. Об этом свидетельствует тот факт, что в косьбе принимало участие 96,5 % мужчин (55 чел. из 57) и 65,5 % женщин (38 чел. из 58) в возрасте от 14 до 60 лет. Лошадей разводили в 40 хозяйствах (90,9 %; всего 158 голов), а крупный рогатый скот – в 39 (88,6 %, среди которых 74 % коров, т.е. 131 голова). Мелкий рогатый скот в рассматриваемых домохозяйствах не зафиксирован. Значительное место в жизнеобеспечение тубаларов занимала охота. Промыслами занимались 37 чел. (65 % мужского населения).
Вторую модель условно можно назвать лесостепной . Помимо куман-динцев в с. Пильно проживало много русских, что отразилось на этнокультурных связях. Анализ таблиц в подворных карточках указывает на наличие у кумандинцев в начале XX в. развитого земледельческо-скотоводческого хозяйства. В сельскохозяйственный оборот было вовлечено 234,5 дес. земли. При этом земледельческой деятельностью занимались 29 из 35 домохозяйств. В среднем на одно домохозяйство приходилось 8,1 дес. земли. Более разнообразным был также удельный вес высеваемых злаков. На первом месте стояла яровая пшеница (51,1 %). Важным показателем развития земледелия являлось использование при обработке пашен и уборке урожая сельскохозяйственного инвентаря. Уже в начале XX в. широко использовались однолемешные плуги. В 11 домохозяйствах (31,4 %) отмечено использование передовых для того времени сложных машин – веялок и сортировок, жнеек-самосбросок, конных молотилок.
Наравне с пашенным земледелием у пильненских кумандинцев было развито стойловое скотоводство. Население разводило лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, свиней. Численность домашних животных составила 661 голову. При заготовке сена участвовало все трудоспособное население – 99 чел. обоего пола (44,4 % всего населения). Ведущее место в скотоводстве занимало коневодство. Лошадей разводили в 34 хозяйствах из 35. Зафиксировано 197 лошадей (29,8 % всего домашнего стада), т.е. в среднем 5,5 голов на одно домохозяйство. Крупный рогатый скот разводили во всех хозяйствах (26,6 % всего домашнего стада). При этом удельный вес коров от общего поголовья скота равен 107 головам (26,6 %). Их разведение стимулировалось наличием маслоделательного завода. К тому же основная масса кумандинцев состояла в маслодельном кооперативе. В отличие от таежных районов, в домашнем стаде большое место занимали овцы, козы и свиньи. Так, доля мелкого рогатого скота в домашнем стаде составляла 28,4 , свиней – 15,1 %. Что касается присваивающих форм экономики (прежде всего охоты), то они не зафиксированы.
Таким образом, важность вовлечения в научный оборот и анализ такого информативного источника по этнографии коренного населения предгорий Северного Алтая, как сельскохозяйственная перепись 1917 г., трудно переоценить. К тому же в настоящих условиях традиционными методами сбора материала уже невозможно получить аналогичную информацию у респондентов на начало XX в. Вместе с тем остро встает проблема создания общей базы данных по переписным карточкам, в т.ч. автохтонного населения.