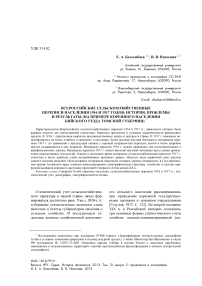Всероссийские сельскохозяйственные переписи населения 1916 и 1917 годов: история, проблемы и результаты (на примере коренного населения Бийского уезда Томской губернии)
Автор: Бельгибаев Ержан Адильбекович, Николаев Василий Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 5 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Характеризуются Всероссийские сельскохозяйственные переписи 1916 и 1917 гг., проведение которых было важным опытом для отечественной статистики. Переписи проходили в условиях ограниченности финансовых средств. В 1916 г. переписчики выявляли продовольственные запасы и ресурсы в стране. В 1917 г. внимание акцентировалось на типах хозяйств и сведениях о населении. Более высокая научная значимость материалов переписи 1917 г. по сравнению с предыдущей связана с хорошей сохранностью опросных листов и более широким кругом содержащихся в них вопросов. Материалы переписи 1916 г. можно привлекать как сопоставительные и верификационные данные. Материалы переписи 1917 г. имеют высокий научный потенциал при условии привлечения компьютерных технологий. Однако в настоящее время материалы сельскохозяйственной переписи 1917 г. относятся к числу наиболее слабо востребованных архивных данных. Имеется лишь первичный опыт анализа данного массива сведений. Использование материалов переписей, которые хорошо сохранились в Государственном архиве Алтайского края, позволит реконструировать демографическую структуру, хозяйство и систему природопользования коренного населения предгорий Северного Алтая начала XX в.
Северный алтай, коренное население, сельскохозяйственные переписи 1916 и 1917 гг., статистический учет, демография, этнографический источник
Короткий адрес: https://sciup.org/147218843
IDR: 147218843 | УДК: 314.02
Текст научной статьи Всероссийские сельскохозяйственные переписи населения 1916 и 1917 годов: история, проблемы и результаты (на примере коренного населения Бийского уезда Томской губернии)
Статистический учет сельскохозяйственного характера в нашей стране начал формироваться достаточно рано. Уже с 1830-х гг. губернские статистические комитеты стали включать в отчеты губернаторов сведения о сельском хозяйстве. В последующем отдельные аспекты хозяйственной деятельно- сти сельского населения рассматривались при проведении переписей государственными органами и земскими учреждениями [Гозулов, 1972. С. 125]. Во второй половине XIX в. в Российской империи сложились три основные формы статистического учета хозяйств: казенно-административный (ад-
Исследование выполнено при поддержке РГНФ
(проект «Трансформация этнокультурных ландшафтов
Алтая в условиях изменения природной и социокультурной среды»), а также Министерства образования и науки РФ (соглашение № 14.B37.21.0483 «Коренные народы Сибири в составе России и население зарубежных завоеванных и колонизованных территорий: способы противодействия фальсификациям в области исторической демографии»).
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 5: Археология и этнография © Е. А. Бельгибаев, В. В. Николаев, 2013
министративно-полицейский учет, сельскохозяйственная статистика), земский (изучение крестьянских хозяйств), ведомственный (различные хозяйственные вопросы) [Гозу-лов, 1972. С. 100–101].
Отсутствие земских структур на Алтае в XIX в. предопределило ведомственный характер подворной переписи на рубеже XIX–XX вв., проводившейся статистиком Главного управления Алтайского округа С. П. Швецовым [Горный Алтай…, 1900; 1901; 1903а; 1903б]. Эта перепись и позднейшее статистическое исследование начальника Алтайского округа В. П. Михайлова [Отчет…, 1910], осуществленное в 1910 г., проводились в условиях подготовки размещения переселенцев из европейской части России и землеустроительных работ в этой связи. С. П. Швецовым и В. П. Михайловым было охвачено все население Горного Алтая и некоторых прилегающих районов.
Логическим продолжением развития системы статистического учета данного рода в России стала подготовка с 1913 г. намеченной на 1915 г. Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Ее проведение обусловливалось низким качеством данных административно-полицейского учета. Первая мировая война изменила планы, сместив сроки проведения переписи с декабря 1915 на лето 1916 г. и связав ее организацию с нуждами продовольственных кампаний. Собственно материалы переписи 1916 г. по Томской губернии аккумулированы в Государственном архиве Томской области в виде карточек, в которых указаны только фамилия, имя, отчество главы хозяйства и количество членов семьи мужского и женского пола, или в обработанном виде с разбивкой данных по населенным пунктам и волостям 1.
Полученные цифры 1916 г., заниженные, по мнению властей, подтолкнули к повторному проведению переписи – уже в 1917 г. [Гапоненко, Кабузан, 1961. С. 105–106]. Кроме того, смена государственного строя в феврале 1917 г. поставила на повестку дня аграрный вопрос, решение которого считалось невозможным без соответствующих сведений о землевладении и землепользова- нии [Там же. С. 107]. Поэтому при проведении новой переписи ее формуляр был значительно расширен, и она охватила не только сельское, но и городское население [Там же. С. 110]. В результате перепись 1917 г. стала сельскохозяйственной, поземельной и городской.
А. И. Гозулов четко разграничил сельскохозяйственные переписи 1916 и 1917 гг. [1972. С. 130–131]. Если в 1916 г. переписчики выявляли продовольственные запасы и ресурсы в стране, то в 1917 г. внимание акцентировалось на типах хозяйств и сведениях о населении. Отмечалось также, что перепись 1917 г. проводилась в условиях ограниченности финансовых средств. Данное обстоятельство обусловило разновременность переписи в разных регионах (а в отдельных случаях и незавершенность), продолжительность переписного периода до нескольких месяцев, изменения в формулярах и т. д. [Гапоненко, Кабузан, 1961. С. 111–113]. Для Томской губернии помимо отмеченных выше недостатков В. Я. Нагни-беда указывал на совпадение переписного периода (конец августа – конец октября) с полевыми работами, а также враждебностью и инертностью населения, ограниченностью «интеллигентных сил» для организации переписи на местах [1920. С. 13]. В то же время в Кузнецком уезде и отчасти в других отмечалось уклонение инородцев от регистрации, обусловленное страхом быть призванными на военную службу. Во многом схожие трудности отмечались Е. К. Антоновой [2010] для Томского переселенческого района.
Исследование коллективом новосибирских ученых материалов переписи 1916 г. по Томской губернии с привлечением ЭВМ продемонстрировало наличие и других негативных явлений, в частности разное толкование переписчиками вопросов опросных листов [Материалы…, 1969. С. 16]. Отмечались и опасения части крестьян относительно возможности реквизиций сельскохозяйственной продукции после статистических обследований. Так, В. Я. Нагнибеда отмечал, что параллельно с проведением статистического обследования в регионе проводилась реквизиция овса и мобилизация коренных жителей на тыловые работы в прифронтовых районах [1920. С. 53].
Технические условия проведения переписи 1917 г. несколько изменились в срав- нении с предшествующим годом. Нарастали потоки беженцев и военнопленных, продолжался призыв населения на фронт и на тыловые работы, одним из результатов чего стало снижение уровня образованности и подготовленности переписчиков в условиях усложнения содержимого формуляров [На-гнибеда, 1920. С. 91]. Имел место и не полный охват территории страны. Помимо оккупированных войсками Германской империи и ее союзников территорий вне обследований остались труднодоступные, отдаленные, неземледельческие или малонаселенные районы: Сахалинская, Камчатская, Якутская области, Туруханский край Енисейской губернии, Нарымский край Томской губернии, Сургутский и Березовский уезды Тобольской губернии. Сложно сказать, какой из факторов стал основным, но большая часть поселений челканцев, расположенных в таежной, малопригодной для земледелия части Алтая, с подвижным автохтонным населением также осталась вне статистического обследования. Безусловным минусом переписи 1917 г. была и фиксация этнической и сословной принадлежности только главы семьи и хозяйства, что не позволяет точно определить общую численность населения изучаемого региона, в том числе аборигенного. Кроме того, записи, видимо, основывались на личном определении респондента. На это указывает то, что родственники порой имели разную сословную и этническую принадлежность. При определении категории инородцев решение принимали сами переписчики [Там же. С. 32–33, 77]. Кочевое население переписывалось выборочно, а бродячее и вовсе не регистрировалось. Именно этими особенностями и объяснялось отсутствие у исследователей заметного интереса к материалам переписи в предыдущие годы, поэтому, к сожалению, для определения численности коренных народов их можно использовать только как косвенный источник [Скобелев, Кузнецова, 2012. С. 21].
Тем не менее в целом сохранность опросных листов – высокоструктурированных, информативно насыщенных и многочисленных источников по хозяйству, природопользованию и этнодемографии, более широкий круг содержащихся в них вопросов, обусловливают и заметно большую научную значимость материалов переписи 1917 г. по сравнению с предыдущей. В этой ситуации сведения аналогичного статистического обследования 1916 г. можно привлекать как сопоставительные и верификационные данные. Однако в настоящее время материалы сельскохозяйственной переписи 1917 г. относятся к числу наиболее слабо востребованных архивных данных. Имеется лишь первичный опыт анализа данного массива сведений [Бельгибаев, 2012а; 2012б; Материалы…, 1969; Николаев, 2009]. Например, В. Н. Разгоном, Д. В. Колдаковым и К. А. Пожарской была сделана 5-процентная выборка подворных карточек по западным волостям Алтайской губернии начала XX в. [Разгон и др., 2002]. Для их анализа специально создавалось электронное Приложение, позволяющее оперативно обрабатывать массовый статистический материал. Опыт такой работы показал, что база данных по сельскохозяйственной переписи 1917 г., с учетом сведений переписи 1916 г., может успешно использоваться также для изучения ряда вопросов исторической демографии аборигенного населения предгорий Северного Алтая. Поскольку результаты переписей были опубликованы лишь частично [Алтайско-Томская часть Сибири…, 1927], важность вовлечения их в научный оборот трудно переоценить.
Переписные карточки 1917 г. по интересующим нас группам населения хранятся в Краевом государственном казенном учреждении «Государственный архив Алтайского края». Они сгруппированы в более чем 90 дел 2. Анкета (подворная карточка), представляла собой лист, заполненный с обеих сторон вопросами (165 граф), призванными охватить практически все стороны жизни крестьянского хозяйства, т. е. отразить значительный объем демографической, этнической и социально-экономической информации.
Первый блок включал информацию о месте расположения хозяйства и его главе. Указывалось наименование уезда, волости, населенного пункта и общества, а также фамилия, имя и отчество главы хозяйства, его сословная и национальная принадлежность. Отмечался статус главы хозяйства в конкретном населенном пункте – приписной, посторонний, беженец или пленный, год прибытия в Сибирь и место исхода (фиксировалось только название губернии). Отдельно отмечалось его отсутствие по месту жительства. В случае со старожилами и аборигенами, поменявшими место жительства, сведения о времени переезда также указывались.
Отдельно стоит остановиться на сословной и национальной принадлежности главы семьи. Данная графа в подворной карточке позволяет реконструировать многоуровневый характер этнического самосознания коренного населения региона. Если с сословной идентичностью аборигены определялись четко – инородец или крестьянин (иногда в графе «сословие» фиксировалась национальность, что можно связать с невнимательностью корреспондента), то графа «национальность» предлагает весь спектр этнонимов Алтая: алтаец, кумандинец, инородец, татарин, верхний или нижний куман-динец и т. д. Как видно, приведенные наименования относятся к разным таксономическим уровням идентичности этнических групп предгорий Северного Алтая, позволяя реконструировать их иерархию и локализовать территориально. Важным моментом является также то, что в большинстве населенных пунктов данного региона Алтая наблюдается бытование одного конкретного этнонима у всего автохтонного населения.
Во втором блоке карточки фиксировали следующие параметры: имя, пол, возраст, семейное положение, трудоспособность и причастность к той или иной хозяйственной деятельности, грамотность и учеба в школе, участие в сельскохозяйственных работах и промыслах членов семьи, отсутствующие (более месяца), призванные в армию (в труд-армию), родившиеся и умершие за последний год, сведения о наемных рабочих.
Сведения о семье позволяют рассчитать демографические показатели для коренного населения предгорий Северного Алтая: количество поколений и супружеских пар в семьях, детность семей, тип семьи, соотношение возраста мужа и жены, состояние в браке по возрастным группам. Отсутствие сведений об этнической принадлежности супруги главы хозяйства (женщины фиксировались в качестве главы в случае вдовства и при отсутствии женатых сыновей) не по- зволяет выявить уровень распространения межнациональных браков, но при условии привлечения материалов иных видов статистического учета (например, метрических книг) данная проблема разрешима. Кроме того, помимо христианских имен переписчиками зафиксированы в некоторых случаях традиционные имена автохтонного населения, что позволяет пополнить сведения по антропонимии, а наряду с фамилиями зафиксировать территории их бытования.
Имеющиеся в материалах переписи сведения о возрасте членов семьи позволяют обратиться к составлению возрастных пирамид. Необходимо учитывать не точность указанных респондентами сведений. Большинство цифр округлено: 5, 10, 15, 20 лет и далее. В старших возрастах, видимо, чаще имело место завышение возраста.
Некоторый интерес представляют сведения о демографических событиях за текущий год. Хотя эти данные не полные, они отражают общую картину уровня смертности и рождаемости у автохтонного населения.
Отдельно стоит остановиться на промыслах коренного населения предгорий Северного Алтая. Это сбор кедровых орехов, охота, заготовка и сплав леса. В материалах переписи фиксируются и шаманы как представители отдельной профессии (в карточке – «кам»).
Последний блок информации был посвящен собственно хозяйству. Здесь можно выделить несколько разделов, содержащих сведения о земледелии и землевладении, скоте, пашне, сельскохозяйственном инвентаре. Данные о хозяйстве аборигенного населения позволяют установить тип землепользования, дату выделения надела, распространенность арендных отношений, земельную площадь и ее дифференциацию по качеству; распространенные виды домашних животных, формы их разведения; виды используемых культур и посевную площадь; типы сельскохозяйственного инвентаря, уровень механизации сельского хозяйства. В переписи также фиксировалось наличие кооперативов и членство в них жителей населенного пункта.
В целом проведение Всероссийских сельскохозяйственных переписей 1916 и 1917 гг. было важным опытом для отечественной статистики. Анализ подворных карточек переписи 1917 г. позволит, в конечном счете, реконструировать демографическую структуру, хозяйство и систему природопользования коренного населения предгорий Северного Алтая рубежа XIX–XX вв., которое, несомненно, находилось уже в состоянии модернизации под влиянием различных факторов – природно-ландшафтного, интенсивности взаимодействия с русским крестьянским населением, вовлеченности в товарноденежные отношения и др. Опыт обработки материалов переписи 1917 г. демонстрирует как высокий научный потенциал данного вида источников, так и сложности из-за его массовости. Но последнее обстоятельство нивелируется при условии привлечения компьютерных технологий.
Горный Алтай и его население. Кочевники Бийского уезда. Барнаул: Типо-Литогр. Гл. управления Алтайского округа, 1900. Т. 1, вып. 1. 360 с.
Горный Алтай и его население. Барнаул: Типо-Литогр. Гл. управления Алтайского округа, 1901. Т. 2: Экономические таблицы. 309 с.
Горный Алтай и его население. Кочевники Бийского уезда. Кумандинцы. Барнаул: Типо-Литогр. Гл. управления Алтайского округа, 1903а. Т. 3, вып. 4: Экономические таблицы. 253 с.
Горный Алтай и его население. Черневые татары Кузнецкого уезда. Барнаул: Типо-Литогр. Гл. управления Алтайского округа, 1903б. Т. 6, вып. 1: Экономические таблицы. 853 с.
Материалы переписи 1916 года по Томской губернии (из опыта обработки на ЭВМ) / Под ред. Л. М. Горюшкина. Новосибирск: Наука, 1969. 306 с.
Нагнибеда В. Я. Организация Всероссийской переписи 1917 г. в Алтайско-Томской части Сибири (Краткий отчет). Томск: Народная типография, 1920. 67 с.
Николаев В. В. Типы семьи у коренного населения предгорий Северного Алтая (XX в.) // Гуманитарные науки в Сибири. 2009. № 3. С. 59–61.
Отчет начальника Алтайского округа В. П. Михайлова по ознакомлению с Горным Алтаем в лето 1910 г. Барнаул: Типо-Литогр. Гл. управления Алтайского округа, 1910. 224 с.
Разгон В. Н., Колдаков Д. В., Пожарская К. А. Демографическое и хозяйственное развитие западных волостей Алтайской губернии в начале XX в. (анализ базы данных крестьянских хозяйств по сельскохозяйственной переписи 1917 г.) // Демографическое и хозяйственное развитие алтайской деревни во второй половине XIX – начале XX в. Барнаул, 2002. С. 22–66.
Скобелев С. Г., Кузнецова Е. В. Источники по изучению демографии коренного на- селения Сибири и Дальнего Востока во второй половине XIX – начале XX века: списки населенных мест и памятные книжки по губерниям и областям (материалы для учебного курса) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Се- рия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 3: Археология и этнография. С. 18–24.
Материал поступил в редколлегию 10.04.2013
E. A. Belgibaev, V. V. Nikolaev
THE ALL-RUSSIAN AGRICULTURAL POPULATION CENSUSES 1916 AND 1917:
HISTORY, PROBLEMS AND RESULTS (ON THE EXAMPLE OF THE INDIGENOUS PEOPLE OF THE BIYSK DISTRICT TOMSK PROVINCE)
Список литературы Всероссийские сельскохозяйственные переписи населения 1916 и 1917 годов: история, проблемы и результаты (на примере коренного населения Бийского уезда Томской губернии)
- Алтайско-Томская часть Сибири по данным сельскохозяйственной переписи 1916 года: Материалы сельскохозяйственной переписи 1916 года, собранные и разработанные под руководством и редакцией В. Я. Нагнибеды. Томск: Красное Знамя, 1927. 215 с.
- Антонова Е. К. Особенности проведения Всероссийских переписей 1916 и 1917 гг.//Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2010. № 4 (12). С. 119-123.
- Бельгибаев Е. А. Хозяйственный комплекс аила Алешкин Нижне-Кумандинской волости Томской губернии (анализ базы данных кумандинских хозяйств по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г.)//VII Востоковедческие чтения памяти С. Г. Лившица: Ст. и материалы междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2012а. С. 80-86.
- Бельгибаев Е. А. Некоторые аспекты развития традиционного хозяйства и природопользования тюркоязычного населения северных предгорий Алтая в начале XX в. (по материалам сельскохозяйственной переписи 1917 г.)//Сибирь и центральная Азия: актуальные вопросы политического и социокультурного развития. Пятые научные чтения памяти Е. М. Залкинда: Материалы междунар. науч. конф. Барнаул: Азбука, 2012б. С. 15-20.
- Гапоненко Л. С., Кабузан В. М. Материалы сельскохозяйственных переписей 1916-1917 гг. как источник определения численности населения России накануне Октябрьской революции//История СССР. 1961. № 6. С. 97-115.
- Гозулов А. И. Очерки по истории отечественной статистики. М.: Статистика, 1972. 312 с.
- Горный Алтай и его население. Кочевники Бийского уезда. Барнаул: Типо-Литогр. Гл. управления Алтайского округа, 1900. Т. 1, вып. 1. 360 с.
- Горный Алтай и его население. Барнаул: Типо-Литогр. Гл. управления Алтайского округа, 1901. Т. 2: Экономические таблицы. 309 с.
- Горный Алтай и его население. Кочевники Бийского уезда. Кумандинцы. Барнаул: Типо-Литогр. Гл. управления Алтайского округа, 1903а. Т. 3, вып. 4: Экономические таблицы. 253 с.
- Горный Алтай и его население. Черневые татары Кузнецкого уезда. Барнаул: Типо-Литогр. Гл. управления Алтайского округа, 1903б. Т. 6, вып. 1: Экономические таблицы. 853 с.
- Материалы переписи 1916 года по Томской губернии (из опыта обработки на ЭВМ)/Под ред. Л. М. Горюшкина. Новосибирск: Наука, 1969. 306 с.
- Нагнибеда В. Я. Организация Всероссийской переписи 1917 г. в Алтайско-Томской части Сибири (Краткий отчет). Томск: Народная типография, 1920. 67 с.
- Николаев В. В. Типы семьи у коренного населения предгорий Северного Алтая (XX в.)//Гуманитарные науки в Сибири. 2009. № 3. С. 59-61.
- Отчет начальника Алтайского округа В. П. Михайлова по ознакомлению с Горным Алтаем в лето 1910 г. Барнаул: Типо-Литогр. Гл. управления Алтайского округа, 1910. 224 с.
- Разгон В. Н., Колдаков Д. В., Пожарская К. А. Демографическое и хозяйственное развитие западных волостей Алтайской губернии в начале XX в. (анализ базы данных крестьянских хозяйств по сельскохозяйственной переписи 1917 г.)//Демографическое и хозяйственное развитие алтайской деревни во второй половине XIX -начале XX в. Барнаул, 2002. С. 22-66.
- Скобелев С. Г., Кузнецова Е. В. Источники по изучению демографии коренного населения Сибири и Дальнего Востока во второй половине XIX -начале XX века: списки населенных мест и памятные книжки по губерниям и областям (материалы для учебного курса)//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 3: Археология и этнография. С. 18-24.