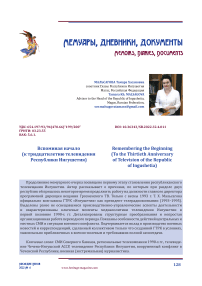Вспоминая начало (к тридцатилетию телевидения Республики Ингушетия)
Автор: Мальсагова Тамара Хасановна
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Мемуары. Дневники. Документы
Статья в выпуске: 4 (32), 2022 года.
Бесплатный доступ
Продолжение мемуарного очерка посвящено первому этапу становления республиканского телевещания Ингушетии. Автор рассказывает о причинах, по которым при разделе двух республик ей пришлось некоторое время продолжить работу на должности главного директора программной дирекции вещания Грозненского ТВ. Только с весны 1993 г. Т. Х. Мальсагова официально возглавила ГТРК «Ингушетия» как президент телерадиокомпании (1993-1995). Выделены ранее не освещавшиеся производственно-управленческие аспекты деятельности и охарактеризованы ключевые моменты медиаполитики телевидения Ингушетии в первой половине 1990-х гг. Детализированы структурные преобразования и непростая организационная работа переходного периода. Показаны особенности действий центральных и местных СМИ в ситуации военного конфликта. Подчеркивается вклад в производство военных новостей и корреспонденций, сделанный коллективом только что созданной ГТРК в условиях, максимально приближенных к военно-полевым и требовавших полной самоотдачи.
Сми северного кавказа, региональные телекомпании 1990-х гг, телевидение чечено-ингушской асср, телевидение республики ингушетия, чеченский вооруженный конфликт, военная (экстремальная) журналистика
Короткий адрес: https://sciup.org/170198056
IDR: 170198056 | УДК: 654.197:93/94(470.66)”199/200” | DOI: 10.36343/SB.2022.32.4.011
Текст научной статьи Вспоминая начало (к тридцатилетию телевидения Республики Ингушетия)

Предисловие научного редактора
Editor’s Preface
П родолжаем публикацию мемуарного очерка, первая часть которого напечатана в предыдущем номере нашего журнала [5]. Назвав первую часть своих воспоминаний «Люди, судьбы, связь поколений: к 30-летию телевидения Республики Ингушетия», Тамара Хасановна Мальса-гова уделила в ней главное внимание судьбам и профессиональной деятельности своих коллег по ингушской редакции Грозненского ТВ, рассказала о людях, во многом определявших облик радио и телевидения ЧИАССР. Рассказ охватил более тридцати лет, от конца 1950-х до начала 1990-х гг. – рубежа, на котором произошло разделение Чечено-Ингушской АССР на два самостоятельных субъекта Российской Федерации.
Вторая часть очерка – «Вспоминая начало» – соответствует сравнительно небольшому, около трех лет, отрезку времени, который по накалу и судьбоносной значимости событий превосходил десятилетия мирной жизни.
Рождению новой республики – Ингушетии – сопутствовал ряд важных геополитических решений, и провести их в жизнь было невозможно без создания в региональном медиапространстве платформы телерадиовещания, способной противостоять терроризму, работать на созидание и деэскалацию вооруженного конфликта. Такой платформой явился новый филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании – ГТРК «Ингушетия».
Война диктовала свои условия, требовала от журналистов и технических работников железной выдержки. Тем, кто вопреки огню и холоду ежедневно вел эфир от лица новой телерадиокомпании, посвящена эта часть очерка. Помимо непосредственной работы в эфире, они снимали десятки репортажей из «горячих точек», помогали журналистам центральных российских и зарубежных СМИ, поддерживали вещание из Назрани по каналам РТР, НТВ, РЕН ТВ, а также ведущих иностранных компаний (ВВС, Ассошиэйтед Пресс, Франс Пресс, CNN, агентства Reuters, CBS NEWS и др.). Профессионализм и стойкость были залогом возможности собрать, утешить, сплотить страдающий народ, чтобы люди смогли выжить, залечить раны, найти путь к мирным созидательным замыслам.
Сегодня телевидение Республики Ингушетия отмечает свой 30-летний юбилей. И наша обязанность, прямой гражданский долг – не забывать имена и журналистские судьбы людей, стоявших у колыбели телерадиокомпании, создавших ее в начале 1990-х гг. Обе части снабжены комментариями, примечаниями и записями устных бесед с автором мемуарного очерка, введенными в состав комментирующего аппарата для более полного знакомства с деталями личной биографии и уточнения сведений о деятельности и жизненном пути коллег Т. Х. Маль-саговой, упомянутых в основном тексте публикации.
После распада СССР Д. Дудаев объявил о выходе Чечни из состава РФ и провозгласил новое государство – Ичкерию. Но ингушский народ остался с Россией: 4 июня 1992 г. Верховным Советом РФ был принят закон «Об образовании Ингушской Республики». Федеральный центр учредил в республике Временную Администрацию. В ноябре 1992 г. ее возглавил Герой Советского Союза генерал-майор Руслан Аушев. Первой столицей Ингушетии неофициально стала Назрань 1.
Быть в эпицентре горячих «внутренних противостояний» мне выпало по судьбе: чувство долга, ответственность за бывший коллектив, за свой народ требовали продолжения работы в Грозном .
Борьба за власть разворачивалась на глазах населения. Из-за повальных сокращений и увольнений люди в одночасье лишались чинов, работы, пенсий, пособий. В приказе председателя Гостелерадио новой Ичкерии список уволенных (до 200 чел.) составляли лица славянской национальности и ингуши. Меня с сестрой Ритой (режиссером телевидения) не отпустили, на наше заявление об уходе руководитель телекомпании ответил так: «Подпишу тогда, когда научите работать новый состав сотрудников». Редакции опустели, было тяжело не слышать знакомые голоса, вместо прежней кипучей творческой жизни видеть безмолвно снующие лица. Помню, в одно утро я пришла на работу, поднялась на свой этаж – но не смогла попасть в рабочий кабинет, попытки открыть дверь не увенчались успехом. Актовый зал и просмотровая студия были забиты боевиками, которые ночью сменили замки внутренних помещений. В моем кабинете незваные «посетители» в камуфляжной форме спали на рабочих столах, стульях, даже на полу, где (вместо матрасов) валялись выброшенные из двух огромных шкафов наши микрофонные папки 2. Картину дополняли разбросанные на подоконнике обертки от печенья и конфет (наш чайный и кофейный десерт, которым поужинали «пришельцы»). Под всеми окнами тридцатиметрового коридора стояли бутылки с зажигательной смесью. И так было на всех трех этажах телекомплекса. Примерно к девяти часам к парку Кирова, где располагалось Грозненское ТВ, стали подтягиваться старики и молодежь. Исполняя зикр 3, они шли от главных ворот парка навстречу захватчикам телецентра. Здания Дома радио, телевидения и технического центра несколько раз переходили из рук в руки… Десятки раненых и погибших с обеих сторон, в том числе и работников телерадиокомпании. Горели технические аппаратные, редакции, фильмотека – годами собиравшийся архив кино- и видеопленки.
В городе сооружались баррикады, минировались особо важные объекты, завозилось огромное количество оружия. Народ понимал, что назревает большое противостояние и война неизбежна.
Телевидение работало до полуночи. Приходилось часами сидеть за режиссерским пультом на выдаче эфира и дожидаться его окончания. Говорили дудаевцы очень пространно и долго. А ряды обслуживающего персонала редели, с каждым днем все меньше сотрудников приходило на работу, телеэфир занимали в основном президент Ичкерии Джохар Дудаев и его сподвижники. Под вечер студийный павильон и аппаратную заполняла вооруженная охрана и гвардия.
В эти тревожные дни мы с сестрой Ритой возвращались с работы домой в основном своим ходом, транспорт почти не работал. Примерно 30 минут ходьбы – и мы дома, в поселке Калинина 4.
Наступил август 1992 года. Было за полночь, когда на воротах нашего дома зазвенел звонок. На вопрос «Кто там?» ответили: «Это я, Башир Чахкиев (Дала гешт долда цунна 1). Мы к Тамаре, она дома? Можно переговорить?». Братья Мухарбек и Аслан пригласили поздних гостей в дом. Пришедшего с Баширом молодого человека я видела впервые, парень представился как работник пресс-службы Временной Администрации Барахоев (если не ошибаюсь, его звали Хусен). Башир Ахмедович работал на Чечено-Ингушском телевидении редактором-корреспондентом отдела пропаганды русского вещания. Попал под массовое увольнение, но продолжал писать для газет, помогал журналистам Временной Администрации, работавшей в г. Назрани на территории Ингушской Республики.
В первые минуты нашей встречи с нежданными гостями каждый из присутствующих ощущал неловкость. По кавказскому этикету гостя принимают в любое время дня и ночи, однако, бывает, что поздние гости приходят и не по хорошему поводу. Я забеспокоилась. После извинений и этикетных условностей мой старший брат Дауд спросил: «Что вас волнует, с чем пришли?». Башир горячо и убежденно заговорил о необходимости открытия телевидения в Ингушетии и попросил помощи в этом вопросе. Он неоднократно повторял: «Оператор у нас есть, вот, Бара-хоев! Посоветуй, с чего начинать». И только тогда я заметила в руках молодого человека полупрофессиональную телекамеру VHS 2. На вопрос, работает ли он на телевидении, незнакомец ответил: «Я любитель, энтузиаст. Приехал на Кавказ с Казахстана, помочь нашей молодой республике. Думаю, что мои съемки полезны для истории. Родился я в Джамбульской области».
Говорят, случайностей в жизни не бывает. Я ведь тоже родилась в тех местах, в ссылке, и являюсь представителем двух репрессированных народов – карачаевского и ингушского 3.
Скованность растворилась. Мы стали активнее обсуждать суть разговора. Говорили о том, что ситуация в Ингушетии сложная, люди в панике и в полном отчаянии от безысходности и безвластия. В преддверии выборов руководителя Ингушской Республики нужна коммуникационная связь… Чахкиева волновала больше техническая сторона дела, за кадры он не беспокоился: большинство наших уволенных коллег переехали в Ингушетию. Я подсказала ему привлечь к работе хорошо пишущих и говорящих людей: корреспондентов районных газет, литераторов, преподавателей вузов, работников музеев, библиотек. Главным, действительно, был вопрос технического оснащения и инженерного обслуживания будущего телевидения.
Башир Ахмедович знал, что я как Директор Дирекции вещания на Грозненском ТВ взаимодействовала со всеми техническими службами телецентра и несла ответственность не только за творческую работу телевизионщиков, но и за техническую: выездной автотранспорт, инженерная служба, монтажеры, аппаратно-студийный комплекс (АСК), а также передвижная телевизионная станция (ПТС) на выездную запись… Это – не считая взаимодействия с инженерно-технической службой ретрансляционного центра (РТПЦ), обеспечивающего прием-подачу телесигнала в эфир. Без отлаженного алгоритма, задаваемого Дирекцией вещания и выпуска программ («График трактовых репетиций 1 и записи передач на неделю с __ по __»), порядковую цепочку взаимодействия четырех организаций не выстроишь 2. Все зависимы друг от друга. Каждый режиссер, редактор, корреспондент, ведущий обязан четко соблюдать время и день подачи заявок на трактовые репетиции, выезд, запись, включение готового контента в телепрограмму и выход в эфир. При соблюдении творческих обязательств в конце квартала выделялась премия, но за любые допущенные нарушения грозила неустойка.
Так вот, на вопрос моих гостей, с чего начать, я ответила: «С Москвы. Это самое главное, что сейчас вы должны сделать. Для этого необходимо указание сверху и согласованность обеих сторон относительно открытия телерадиокомпании регионального уровня. Затем нужно утвердить учредителя и собрать необходимую документацию (устав, положение, лицензию), определить место размещения ТРК, режим функционирования компании, объем и порядок эксплуатации технических средств для доставки и трансляции теле- и радиопрограмм, а также составить договор учредителя с администрацией района, на территории которого будет располагаться станция. Работать придется по временной сетке, так как это не стационар. Размещение персонала должно быть в Назрани, но никак не в Малгобеке и Сунже, как поначалу предполагалось. Подключайтесь к назрановскому ретранслятору (вышке) на Московской улице, дом 33, потому что там стоят мощные передатчики. Радиус зоны приема программ (сигнала) там мощнее, да и ретранслятор более надежный. Вышка будет выполнять роль телецентра. Место для дислокации обслуживающего и творческого персонала очень удобное. Рядом ставьте щитовые домики, в которых можно разместить редакции».
Затем порекомендовала включить в рабочую группу назрановских связистов, инженеров, обслуживающих ретранслятор (мы знали, что они настоящие профессионалы своего дела). Телевизионная техника – тоже не проблема; технику просить у наших соседей в КБР, Пятигорске, Ставрополе или КЧР, где угодно. У них много списанной аппаратуры. После Олимпиады 1980 г. много новой техники передали регионам. В то время и на Грозненской телестудии таким путем заменили оборудование, а списанную «старушку ПТСку» использовали в учебных целях (на других телестанциях случалось, что бэушные ПТС разбирали на детали или открывали на этом оборудовании рекламные студии). После распада ЧИАССР на две самостоятельные республики «раздела имущества» между регионами не произошло. Будучи в курсе этого, я предложила срочно обратиться с официальным письмом к Министру печати и информации М. Полторанину, чтобы он дал поручение на рассылку писем руководителям республик с просьбой оказать братскую помощь Ингушетии и поделиться отработанным оборудованием для подготовки и обучения персонала работников телевидения и радио.
Мои собеседники удивились: «Так просто!?», и я повторила: вещать можно из любого кабинета, даже с улицы, лишь бы не было помех на пути прохождения сигнала. Главное не стены, угол всегда можно найти, а техническую возможность – не всегда. В первую очередь нужно определиться с передающей и обратной сетью, а также с размещением аппаратно-студийного блока и обслуживающего персонала. Окрыленные этими сведениями гости за вкусным поздним ужином шутили: «Мы думали, надо строить помещение, возить кирпич, месить бетон…». «Если все у нас получится, ты будешь моим первым заместителем!» – сказал Башир. «Время покажет, главное, чтобы задуманное свершилось», – ответила я. Когда наши гости выехали в Назрань, на часах было без четверти два ночи.
Спустя три месяца, осенью, произошло крупное вооруженное столкновение в Пригородном районе Республики Северная Осетия – Алания: осетино-ингушский конфликт 30 октября – 6 ноября 1992 г. Жертвами стали сотни мирных граждан.
Я еще работала на Грозненском телевидении и после услышанной печальной новости решила не спешить с увольнением, поскольку в ближайшие месяцы оперативная информационная помощь Ингушетии будет необходима как никогда. В первый день еще не было известно о масштабах трагедии. СМИ молчали, а Назрань переполняло горе потерявших кров людей: наплыв беженцев не прекращался ни днем, ни ночью. В Грозном о страшном конфликте узнали только на следующий день к вечеру, когда сообщили, что у ингушского театра собираются люди и вывешиваются списки беженцев, раненых и без вести пропавших ингушей из Пригородного района Северной Осетии. В этой зоне объявили чрезвычайное положение. В регион прибывали члены Правительства РФ, министры, высокие военачальники, политики, правозащитники, корреспонденты иностранных и наших государственных, частных и коммерческих каналов. Но к месту конфликта допускались только российские провластные журналисты.
Ингушетия находилась в информационной блокаде. На телевидение молодежь подвозила любительские съемки, фотографии, из которых мы с Ритой собирали сюжеты, также еще работала редакция новостей во главе со старшим редактором Лейлихан Аушевой, которая снимала интервью с беженцами (ее еще не коснулись репрессии дудаевского режима). На третий день трагедии в студию пришел беженец – молодой человек лет 20-25, в одной мокрой ветровке – изможденный, продрогший, голодный. Сдерживая слезы, он просил сообщить по телевидению о том, что изгнанные люди вынуждены идти обледенелыми тропами через перевалы, неся детей и стариков на руках, раненых – на самодельных носилках из одеял. У меня в это время сидел чеченский журналист Абдулла Вацуев 1, пробравшийся в зону конфликта по чужим документам, выписанным на польского журналиста. Он тоже многое увидел. Я решила объединить истории этих двух людей и вечером вместе с ними выйти в прямой эфир на чеченском телевидении. Конечно, рисковала, но готова была контролировать ситуацию на площадке. До этого, признаюсь, такого сложного эфира у меня не было. В студии, у режиссерского пульта, в холле здания – везде ходили с оружием в руках гвардейцы Дудаева. И надо было взять себя в руки, решиться на хладнокровную беседу. В 19.00 мы вышли в эфир, наш разговор длился более 20 минут. В YouTube размещен восьмиминутный фрагмент этого разговора, смонтированный без наиболее острых диалоговых моментов [11].
Назрань заполнили новые беженцы, теперь уже из Пригородного района Республики Северная Осетия, они были повсюду. Центральная больница и стационарная в «Крепости» изнемогали от количества поступающих раненых, не хватало врачей, медикаментов, бинтов, шприцов. Жители приносили все, что есть у них дома: простыни, зеленку, йод, соль, еду… Большую помощь хирургам ЦКБ оказал врач из Дагестана Магомед Эльдаров. Он гостил у своего друга Суламбека
Халухаева 1, как только услышал о трагедии, вызвал команду махачкалинских коллег – 9 докторов, которые вместе с ингушскими врачами спасли жизни сотням раненых. В интервью на вопрос о пострадавших и о степени тяжести ранений коротко ответил: «Ранения тяжелые, злодеяния чудовищны». Известный ингушский хирург-онколог Ахмед Куштов рассказывал, что он как доктор не может определить, каким снарядом сожжено лежавшее перед ним обуглившееся тело человека: он сначала растаял от силы огня, а затем превратился в крепкий, как сталь, обрубок и вдвое уменьшился в размерах.
На главной площади города складировались для опознания горы обгорелых трупов, женщины рыдали в поисках детей, родных и близких. «Въехали в Назрань… Улицы у Центральной площади заполнены народом – со всей Ингушетии сюда пришли с надеждой что-то узнать о своих пропавших родственниках. По радио диктор безостановочно читает длинные списки убитых, раненых и захваченных в заложники... Шофер с трудом открыл дверь – от прижатой к автобусу толпы… “Дайте журналистам выйти! Они из Москвы!..” В ответ: “Зачем они нам?! Они не расскажут правду! Телевидение врет! Радио, газеты… Ельцин нас предал!! Мы все за него голосовали!..”» 2, – писал московский журналист газеты «День» Алексей Очкин [7]. В сложных, политически нестабильных условиях рождалось современное ингушское телерадиовещание и новая история ингушского народа в новой России. На территории республики не были еще созданы государственные структуры, царили хаос и анархия. Сказанные надломленным голосом слова – «телевидение врет, они не расскажут правду» – больно задели мое самолюбие. Я никогда не забывала их, они стали ориентиром в моей профессиональной деятельности, продлившейся еще 19 лет.
Народ хочет знать правду, потому что она спасает, а ложь подводит.
В один из выходных дней, числа 7-8 ноября, я оказалась в Назрани (со 2 ноября 1992 г. на территориях обеих республик, Северо-Осетинской и Ингушской, действовало чрезвычайное положение). В толпе людей, окруживших временную администрацию республики, неожиданно встретила Башира Чахкиева. И опять в разговоре с ним всплыла мысль срочно заняться открытием телевидения, используя ПТС как оптимальный оперативный вариант. После слов Башира: «Здесь с нашим планом не согласны, требуют заложить строительство телерадиокомплекса» – я быстро составила служебную записку: «Хочешь, передай Руслану Аушеву или генералу Султыгову» 3. Записка была приблизительно такого содержания: «Учитывая взрывоопасную общественно-политическую ситуацию, приближенную к чрезвычайной, рекомендую использовать самый удобный и быстрый способ – это развернуть телевидение рядом с РТПЦ (радио-телепередающий центр) и начать работу через магистральные линии радиорелейной станции. Для этого необходимо дополнительно приобрести два-три передатчика, передвижную телевизионную станцию в стандартном комплекте (позаимствовать у ближайших соседей), подключить местных связистов, приобрести мощный кабель и организовать работу по коммутации всех этих средств для выхода в пробный эфир». Далее предлагалась схема работы. «Полученный с ПТС сигнал подаст изображение и звук на радиорелейную станцию магистральной линии, а инженер будет посылать его в эфир со своих передатчиков на телекамеры и пульт управления, который находится в передвижном автобусе. Для такой работы нужны инженерно-технический персонал, радиорелейка (она стоит в Назрани и неплохо работает), технические ресурсы к ней (передатчики, кабели высокого напряжения и т. д.), услуги связистов и других специалистов, которые будут поддерживать и контролировать процесс. Министр печати и информации РФ М. Полторанин поможет со специалистами. Главное – подготовить обслуживающий техперсонал и охрану. Другого пути пока нет. На строительство телекомплекса уйдут годы, а для временной сетки этого достаточно».
Почему подробно расписывала схему работы? – Хотела убедить, что в чрезвычайной ситуации такой способ самый быстрый и надежный. Благодаря опыту, полученному на Грозненском телевидении при сотрудничестве с инженерно-технической службой РТПЦ, я знала, что экстренный выход существует и он один – через телевизионные радиопередатчики. Как показало время, записка сделала свое дело. В третьей декаде ноября Хусен Барахоев привез мне видео из Пригородного района и сообщил, что в Ингушетию уже прибыли из Москвы Министр печати и информации России Михаил Никифорович Полторанин и специалисты из Ставрополя, Пятигорска, обслуживающие ПТС, а также бригады техперсонала для обучения местных работников. Это была, конечно, хорошая новость.
17 января 1993 г. в Назрани на чрезвычайном съезде ингушского народа было принято решение о введении в республике президентского поста. Президиум Верховного Совета РФ назначил датой президентских выборов 28 февраля 1993 г. Первым президентом на безальтернативной основе был избран Руслан Аушев, вице-президентом стал Борис Агапов, оба ветераны боевых действий в Афганистане.
Во Владикавказе по инициативе главы временной администрации С. М. Шахрая для начала поставили задачу возобновить регулярный выпуск районных газет Ингушской Республики. Поручение выполнял командированный к нам из Москвы инженер Спецуправления по чрезвычайным ситуациям Гостелерадио СССР Иван Иванович Сладчиков. Осмотрев помещения и убедившись, что в трех районных редакциях и в самой типографии им. И. Н. Заболотного 1 нет типографской краски и бумаги, Иван Иванович обещал коллективу помочь. В этот период все три редакции входили в реестр Чеченского комитета по делам печати, издательств, полиграфии и книжной торговли.
20 ноября 1992 г. было намечено в месячный срок технически подготовить и осуществить запуск телерадиовещания по временной схеме, что отвечало острейшей для Ингушской Республики необходимости создать канал объективной информации: непонимание происходящего вокруг усиливало панические настроения, чиновники Временной Администрации не очень охотно делились новостями. В этой напряженной ситуации лишь открытие регионального телевидения и радио могло разрядить гражданское общество, не допустить взрыва.
Началась доставка оборудования из телерадиокомпаний близлежащих регионов. Решением начальника Управления по телевидению и радиовещанию РФ обеспечение телевизионной техникой возложили на Ставропольскую телерадиокомпанию, передвижной радиовещательный комплекс «Баллада РМ» позаимствовали у Кабардино-Балкарской ГТРК. Такие комплексы на шасси армейских автомобилей «Урал-43203» создавались в 1989–1990 гг. по заказу Спецу-правления Гостелерадио СССР для применения в чрезвычайных ситуациях. За данный участок работы отвечал главный инженер этого ведомства И. И. Сладчиков. Инженерно-техническая, операторская служба прибыла из Астрахани.
Когда руководители Ставропольской и Кабардино-Балкарской ГТРК 26 ноября доложили об исправности и готовности затребованной передвижной техники к передислокации, в самой Ингушетии еще не было ясности относительно места установки ПТС и помещений для оборудования студий. Министерство связи предлагало развернуть ПТС у старого районного узла связи в центре г. Назрани. Но там недоставало площади, отсутствовало ограждение территории. Ряд иных вариантов (городской Дворец культуры, поезд на путях железнодорожной станции) также не устроил инженерную службу. Остановились на здании, принадлежащем народному суду, поскольку оно находилось рядом с мачтой – передающей станцией. Председатель Назранов-ского райсуда Багаудин Горданов отнесся с пониманием к вопросу и поспособствовал решению проблемы.
Подчеркну, что на временное продолжение работы в Грозном я согласилась с принципиальным условием: мне будет разрешено до запуска телевидения в Ингушетии по необходимости использовать эфирное время для сообщений и выступлений по наиболее актуальной тематике. Моей задачей было обеспечить эфир общественным деятелям, представителям религиозного сектора, ученым для освещения ситуации в стране и в Ингушетии: охват телевизионным сигналом территории бывшей ЧИАССР составлял 99 %, ингушское население имело возможность в полном объеме смотреть передачи ГСТ (Грозненской студии телевидения). В те трудные дни делегации из Ингушетии часто приезжали на ГСТ, но им приходилось часами ожидать своего эфирного часа. Персоналу студии не представлялось возможным самовольно приблизиться к ним, территорию охраняла гвардия Дудаева. В 8.30 утра мы с сестрой Ритой (она работала программным режиссером) входили и примерно в 10-11 часов ночи уходили из телецентра домой, в рабочее время покидать здание нам было строго запрещено.
Важный для нас вопрос о выходе в эфир новостей по ингушской тематике наконец-то был согласован с директором телевидения Вахой Амжадовичем Дыхаевым и действующим руководством республики. Роль ведущей и диктора приходилось выполнять мне самой. Так продолжалось на протяжении семи месяцев, но в воздухе уже пахло порохом, не все было гладко и лояльно в наших отношениях с дудаевским режимом. Вспоминается происшествие, которое случилось за два дня до назначенных на 28 февраля 1993 г. президентских выборов в Ингушетии. На телевидение в Грозный прибыли общественные, религиозные деятели, политики, работники СМИ и администрации Главы Ингушской Республики. День был небезопасный, гости с трудом добрались до городского парка Кирова, к телецентру, взятому под особый военный контроль. И вдруг мне позвонили «сверху»: «С сегодняшнего дня передачи с участием ингушей в эфир не выпускать!». Министр печати и информации Ичкерии Мовлади Удугов (кулуарно его называли «чеченским Геббельсом») и президент Дудаев решили закрыть для лиц ингушской национальности допуск на площадку телекомплекса. Хотя вопросы эфирной политики были в моей компетенции, в этом случае ресурс моих возможностей противостоять решениям действующей власти мог сыграть обратную роль.
К тому времени ни правила внутреннего распорядка, ни Закон о СМИ, ни сетка вещания уже полгода как не соблюдались: верхушка выступала в прямом эфире сколько хотела, по 3-5 часов, без соблюдения профилактических дней. Да и телевизионная техника «висела на волоске» после нескольких подрывов. Эти обстоятельства заставили меня напрямую переговорить с руководством Ичкерии. Дудаев и Удугов достаточно уважительно относились ко мне (все выходы в эфир, формат предстоящей беседы президент обсуждал с министром печати, иногда и с моим присутствием). Распоряжение не пускать ингушей в эфир меня сильно расстроило. Понимала, каково тем, кто приехал с важными поручениями от народа. Надо было срочно искать выход из сложившейся ситуации. Позвонив в приемную Дудаева, я просидела с трубкой в руках около часа, пока на другой стороне провода услышала знакомое: «Марша йог1ийла г1алг1а йо1!» («Здравствуй, ингушская дочь!» Он так всегда со мной здоровался), и после приветствия последовал вопрос: «Чем могу помочь?» Говорили по-ингушски. Дудаев чисто говорил на ингушском языке. Я кратко изложила суть просьбы: дать возможность провести накануне выборов в Ингушетии этот эфир. «Добро» я получила с очень категоричной ремаркой: в качестве исключения.
Все это время мои гости томились в телевизионном павильоне под палящими лучами софитов. Никто из них не знал, с чем связана задержка эфира. За режиссерским пультом, как всегда, сидела Рита. Нам дали команду «Мотор!», и мы вышли в эфир. На 10-15-й минуте в студии прогремели автоматные очереди, стрелявшие выкрикивали: «Это чеченское телевидение! Хватит! У вас есть своя республика!» Естественно, я попыталась объяснить, что есть разрешение на проведение передачи, и начала успокаивать людей, пытавшихся спрятаться от беспорядочной стрельбы. По павильону свистели пули и клочками разлетались коричневые каучуковые куски напольного покрытия. К счастью, никто серьезно не пострадал. Позже я заметила на себе следы крови.
Свидетель того, как проходила эта передача, учитель Мусса Албогачиев 1 вспоминал: «Мы приехали в Грозный… чтобы выступить на телевидении и поговорить о грядущих выборах Президента Ингушетии. Нас было 10 человек на двух машинах, в том числе и покойный журналист, редактор газеты “Ангушт” Мурат Озиев. Где-то час-два мы стояли во дворе телевидения… с окна

Фото 1. На съезде народа Ингушетии. Рядом с Т. Маль-саговой гендиректор агентства «Кавказские новости» Мзевинар Карловна Шервашидзе. 27 августа 1994 г. (Архив автора)
Photo 1. At the Congress of the People of Ingushetia. Next to Tamara Malsagova is Mzevinar Karlovna Shervashidze, director general of the Caucasian News Agency. August 27, 1994 (Author’s archive)
первого этажа с нами переговаривались наши сестры-ингушки Лейлихан Аушева, Жансурат Аушева, но они были беспомощны что-либо сделать. А из руководства никто в нашу сторону и не желал смотреть, только вооруженные дудаевцы, которые стояли у проходной, напоминали нам, что здесь стоять нельзя. К нам подошла приятная русская женщина 2 и сказала: а вы к Тамаре… обратитесь. К нам вышла хрупкая, обаятельная девушка, чисто по-ингушски поздоровалась и спросила о проблемах. Она без разговора забрала нас к себе в кабинет и стала переговаривать с руководством. На какое-то время она удалилась и вернулась, сказав такую фразу: “Я сама буду вести с вами эту передачу”. Ждать пришлось долго. В 7 часов вечера наши общественники зашли с ней в студию. Она представила нам свою сестру Риту (редкое для ингушей имя), которая весь этот процесс показала в эфир. Там тоже я заметил людей в масках и с оружием. Я вышел из павильона. Дальше случилось неожиданное. Где-то через минут пятнадцать я услышал автоматную очередь за дверью» [2]. Это комментарий к статье Мурата Озиева (в начале 1990-х главного редактора газеты «Сердало», бывшего инструктора Чечено-Ингушского обкома партии), ставившего вопрос о необходимости объективно освещать конфликт [6] и не менее детально описавшего эту перестрелку в студии в одной из своих публикаций 2006 г. 3
1 М. Албогачиев был за рулем одной из машин, на которых приехали ингушские общественники ( прим. авт. ).
Кальянова Елена Ивановна – начальник смены АСК
(аппаратно-студийного комплекса) ( прим. авт. ).
Я понимала, что рано или поздно мне укажут на дверь, как и моим коллегам: «указ» боевиков висел на главных вратах города: ингуши – в Назрань, русские – в Рязань. Однако с ГСТ уволилась лишь 11 мая 1993 г., по собственному желанию, вместе с сестрой Ритой Мальсаговой. А трудовую книжку вернули спустя полгода. Нельзя было сдавать позиции, пока вопрос о создании республиканской телерадиокомпании в Ингушетии, не до конца ясный, мог сорваться из-за финансово-экономического кризиса в стране и активного наступления депутатов Верховного Совета РСФСР на печать, телевидение, радио.
Судьба Ингушетии интересовала многие российские печатные издания, большое внимание этой теме уделяла гендиректор агентства «Кавказские новости» Мзия Шервашидзе, в каждом выпуске газеты сообщавшая о новостях нашего региона.
Расскажу о событиях 1991–1993 гг., чтобы устранить разночтения в публикациях на тему «Кто же основал ингушское телевидение», которую новая генерация журналистов превращает в поле интригующих версий и мнений. О произвольности домыслов можно судить по опубликованной в Интернете 10 лет назад заметке Мусы Абадиева, два фрагмента которой я процитирую. Первый фрагмент дает раздробленную и не совсем верную цепочку фактов, хотя автор публикации уверяет читателей, что почерпнул сведения из личных бесед с Ратмиром Льяновым:
«Б. Горданов предоставил Чахкиеву для организации телевидения подвальное помещение Назрановского районного суда. Башир же пригласил для запуска ТВ из Ставропольского края группу телевизионщиков на двух авто (передвижная телестанция). Эти автомашины стояли во дворе районного суда. Там же стояли вагончики, в которых проживали прибывшие специалисты. Руслан Катиев, отличный технический специалист, до этого работавший в ЧИГУ на учебном телевидении, стал заместителем у Чахкиева Б. А. Хава Абадиева по приглашению Ратмира Льянова с первых же дней была ведущей на телевидении. 26 октября 1992 г. Ратмир Льянов был назначен министром печати и информации Ингушской Республики. Тамара Мальсагова, по словам Льяно-ва, стала директором ГТРК только в 1993 г.» [1].
Второй фрагмент – самое достойное и верное в этой заметке – итоговое замечание: «То время было временем становления нашей государственности, специалистов-ингушей были единицы, но все были объединены одной общей идеей. И людьми двигал энтузиазм, а не желание прославиться, чтоб потомки говорили “он основал то, а он это”. Мы всем им должны быть благодарны, потому что каждый из них внес свою лепту» [1].
В июле 1992 г. де-юре ТРК «Ингушетия» вроде бы и была создана 1 , но де-факто ее как учреждения не было, хотя вопрос о создании поднимали и бывшие работники телевидения ЧИАССР, находившиеся в Назрани после увольнения из Грозного (режиссер Ратмир Льянов, получивший должность министра печати и информации Ингушетии, звукорежиссер Хаджи-Умар Костоев, Башир Чахкиев, редактор «Сердало» М. Барахоев). Между ними и некоторыми бывшими сотрудниками радиовещания ЧИАССР завязалось соперничество за место председателя. До выхода Постановления об образовании телерадиокомпании Чахкиев дважды встречался с министром печати и информации Полтораниным и в Ингушетии, и в Москве.
Первый выход ТРК «Ингушетия» в эфир на телеканале РТР состоялся 20 декабря 1992 г. Поначалу время вещания составляло полчаса, в основном это были новостные сообщения с расширенными интервью и официальной информацией из Администрации Президента Р. Аушева. Через пять месяцев, в мае 1993 г., я была приглашена к Руслану Султановичу Аушеву на встречу, и он сообщил о совместном с Москвой решении назначить меня на должность Председателя ГТРК «Ингушетия».
С большинством сотрудников я была знакома, как и с проблемами технического обеспечения, места дислокации ГТРК – сырой темный подвал, старые тяжелые стационарные телекамеры. Первая камера статично работала на диктора. Вторая занималась выдачей видеоматериала в эфир: в видеомагнитофон «двойка» заправлялась кассета VHS, картинку проецировали на экран телевизора. Эта камера картинку снимала, подавала на пульт к режиссеру в автобус. Режиссер давал команду «Внимание!» – и сюжет уходил к телезрителю. Так работать было рискованно: видеомагнитофон в любой момент мог «зажевать» кассету или выйти из строя. Сейчас с ужасом вспоминаешь, как заедало VHS-овскую пленку, приходилось пальцем перекручивать ее назад. Возникала пауза в эфире, и раздавались звонки из администрации, правительства, от телезрителей: что у вас там случилось?
Наш дикторский стол был собран из деревянных ящиков-поддонов (в таких ящиках на рынке фрукты-овощи продают) и покрыт (наглядное нарушение техники безопасности) ацетатным трикотажем Назрановской фабрики. Даже целых стульев не имелось: у тети, жившей по соседству с ТВ, попросили два стула на площадку. На натурные съемки ездили с двумя потрепанными камерами «Panasonic», пока не пришла в подарок от Р. Аушева профессиональная видеокамера с полным комплектом ТЖК (журналистский комплект оборудования для внестудийного видеопроизводства). Телекамера из этого комплекта использовалась и в студии. Транспорта для выездных съемок не было, ездили на «попутках». Не сформированные, вопреки требованиям Правил технической эксплуатации, службы ограничивались тремя работающими видеоинженерами. Тексты готовились и читались в рукописном виде (единственная печатная машинка, старая, с проваленными клавишами, не успевала выполнять заявки корреспондентов). Складывалось впечатление, что местная власть помогла открыть телевидение – и бросила дело на самотек.
Однако жалоб на условия труда и нерегулярно выдаваемую зарплату не было. Люди со счастливыми лицами приходили на работу. Побеждали ответственность и важность дела, которому служишь, ощущение себя частью огромного мощного процесса – рождения собственной республики и ТРК. Это и вдохновляло, вселяло оптимизм, брало вверх над страхом и безысходностью. Время терять было нельзя. Я составила план работы, разделенный на два полугодия, обозначив 10 шагов, необходимых для развития телерадиокомпании.
На первое полугодие (июнь–декабрь 1993 г.):
-
1) разработать Концепцию деятельности ГТРК «Ингушетия» (ее мы согласовали в Москве и с Президентом Р. С. Аушевым) и Правила внутреннего распорядка;
-
2) приступить к формированию штата сотрудников (создать отдел выпуска, отраслевые отделы, назначить руководителей редакций), установить с 1.09.1993 г. разряды оплаты труда по должностям, согласно выполняемым обязанностям на контрактной основе, в рамках Единой тарифной сетки Минтруда РФ и утвержденного штатного расписания ГТРК «Ингушетия»;
-
3) принять срочные меры по выходу из подвального помещения, приступить к улучшению социальных и бытовых условий сотрудников и подготовке к зиме (утепление щитовых домиков путем ввода системы отопления, косметический ремонт);
-
4) создать видеотеку для архивации телерадиоматериалов и решить задачу технического оснащения компании, включая обслуживающий автотранспорт; организовать выпуск недельной телепрограммы в республиканских газетах;
-
5) начать подготовку к первой годовщине образования ГТРК «Ингушетия» и по результатам выполнения объема теле- и радиовещания в сложных условиях работы (режим
Чрезвычайного положения) выплатить премию по итогам 3-го и 4-го кварталов 1993 г. в размере 100 % среднемесячного заработка.
Еще пять шагов – на второе полугодие (январь–июль 1994 г.):
-
6) открыть студию межнационального диалога с участием представителей общественных национальных объединений для совместной деятельности;
-
7) начать разработку документации с Министерством связи РФ и проектным институтом РВ и ТВ (ГСПИ РТВ) 1 по реконструкции части помещения городского ДК г. Назрани под аппаратно-студийный комплекс (для блока информационного вещания) 2;
-
8) создать школу телерадиокорреспондентов (ответственные – ветераны журналистики главред Рашид Мальсагов и зам. председателя радио Юсуп Курскиев) 3;
-
9) ходатайствовать перед Правительством РИ о выделении жилья для остро нуждающихся сотрудников и специалистов; создать на ГТРК «Ингушетия» жилищную комиссию по контролю за исполнением;
-
10) приступить к решению вопроса о финансировании строительства здания государственной телерадиокомпании (на уровне руководства Федеральной службы телевидения и радиовещания и Ингушской Республики; ответственный – Генеральный директор Р. Катиев).
Штат сотрудников за год вырос втрое (от 37 до 112 чел.). План был исполнен в установленные сроки, за исключением двух пунктов (финансирование строительства телерадиокомплекса; выделение жилья для сотрудников), которые были реализованы лишь к концу сентября 1995 г. 4. Проект здания ТВ и РВ уже был готов в РОСНИПИ урбанистики (Санкт-Петербург) 5. Решение структурно-управленческих задач позволило оперативно и грамотно настроить работу конкурентоспособного информационно-медийного ресурса. На момент создания мы были где-то в седьмом десятке общего перечня ТРК новой России.
На карте российского государства появилась республика, для стабильного развития нуждавшаяся в формировании региональной политики, новой во всем – от кадрового потенциала до государственного планирования. Телевидение тех лет смело бралось за освещение масштабных социально-политических проблем, меняло подходы к структуре и тематике материалов, выдаваемых в эфир. Мы переживали такое время, когда от спокойного взгляда диктора 6, его улыб- ки и настроения зависели мир и покой в семье, в городе, регионе. На региональном ТВ принципы отбора дикторов такие же, как на центральном: высшее образование, знание родного и русского языка, хорошо поставленная, правильная речь. С 25 сентября по 5 октября 1993 г. у нас состоялся конкурс дикторов. И, я уверена, ни одна российская телерадиокомпания не проводила его в таком формате, с такой долей «обратной связи» (главным судьей конкурса стала аудитория, сами жители республики).
К апрелю 1994 г. телевидение перешло на полуторачасовой режим вещания. Мы остро нуждались в обновлении технологической базы. Инженеры телецентра Тамерлан Ахриев, Магомед Марзиев, Ваха Цуров, Руслан Мурзабеков, Юсуп Тангиев, радиоинженер Ахмед Арчаков трудились за десятерых, «приводя в чувство» допотопную телевизионную технику. Позже удалось заменить на новый «Лотос» старенькую ПТС, стоявшую на базе автобуса ПАЗ. Аппаратные – эфирная и монтажа – находились под зорким глазом ответственного и требовательного ведущего программного режиссера Магомеда Хаматханова и Лейлы Баркинхоевой.
Содержание и своевременную сдачу текстов, соблюдение эфирной сетки тематических программ контролировали главный редактор и отдел выпуска. Ветеран журналистики Хава Аба-диева профессионально работала в жанре передач о художественно-просветительской и национальной культуре; в вопросах ингушских традиций хорошо разбиралась Зарета Точиева (Дала гешт долда цунна); Магомед Ханиев – корреспондент редакции новостей на ингушском языке, автор рубрики «Сельская жизнь» – лучше всех знал проблемы и успехи жителей села; Марем Албакова, Рая Ганукаева, Хава Кузигова, Люда Ужахова, Султан Мерешков готовили замечательные содержательные радиопередачи; Марет Цулоева удивляла новыми фактами ингушской историографии. Духовно-нравственным воспитанием молодежи, поддержкой юных дарований и анализом поступающей почты занималась Аза Харсиева. Марина Мальсагова и режиссер документального кино Зелимхан Джаниев готовили интересные очерки и зарисовки, сюжеты о людях труда и творческих профессий; историю ингушской литературы и проблемы подготовки пишущих талантов освещали поэты Микаил Ахильгов и Магомед Вышегуров (Дала гешт долда цар-на). Религиозные передачи Магомеда Угурчиева «П1аьраска бийса» 1 носили просветительский и воспитательный характер. Проекты общественно-политического направления оставались за мной. Научно-популярные циклы передач вели доктора наук, руководители министерств, ведомств, учреждений республики – юристы Мовлат-Гирей Дзагиев, Тамара Хаутиева; историк Тамерлан Муталиев; врачи Магомед-Тагир Аушев (Дала гешт долда царна), Руслан Албогачиев и др. За качество телепродукции отвечали инженеры видеомонтажа Магомед Экажев, Иса Куштов, Адам Албаков, звукорежиссер Хаджи-Умар Костоев. А наши «ноги на колесах» Хьусен Цуров, Умар Евлоев, Магомед Мальсагов заботливо доставляли творческую группу в пункт проведения очередных съемок. В повседневную слаженную деятельность вносили вклад отдел кадров (Айсет Шанхоева), юрист Роза Дзаурова, бухгалтерия (Хажир Мержоева, Хава Льянова, Зарема Муталие-ва), художники-оформители, доблестная охрана объекта.
Главные редакторы Рашид Мальсагов, Алихан Сагов и руководитель радио Юсуп Курскиев (Дала гешт долда царна) определяли редакционную политику – месячные и квартальные планы с учетом тематики, состава участников передач; следили за стилем и содержанием программ, отправкой корреспондентов на задания, точным исполнением эфирного времени; выходили в эфир с собственными передачами на актуальные темы.
«Имя» компании сделали первые проекты: информационная программа «По Ингушетии» на русском и ингушском языках, «Панорама недели», «Ингушетия: пути становления», «Ингуше- тия – наш общий дом», «Спортивная Ингушетия» с ведущим Хамзатом Лорсановым 1. Большое внимание уделялось официальной информации – «Как выполняются указы?». Высокий рейтинг имели передачи «Час президента», «Сельское хозяйство – основа жизни», «Как живешь, мой город?», «Право и мы», «Письмо позвало в дорогу», «Истоки ингушских традиций», «Ингушский язык: проблемы его научного исследования»; детская «Тоатолг» («Родничок»), молодежная «Заманхо» («Современник»), сатирическая передача «ТелеЗ1ий» («ТелеЁж»). Просветительскую тематику: «Творчество литераторов Кавказа», «Уроки ингушской этики и речевого этикета» – дополняла тематика общественно-политическая: «Студия межнационального диалога», «Зов земли родной» (о проблемах беженцев), а также героико-патриотическая: «Славные сыны Ингушетии», «Победители», «Служу Ингушской Республике». В студию приглашали ветеранов Великой Отечественной, воинов-афганцев, чернобыльцев, работников военных комиссариатов. Программы такого характера особо поддерживал и президент Ингушетии Герой СССР Руслан Аушев.
Первую годовщину образования ТРК мы отпраздновали в большом телевизионном павильоне на втором этаже арендованного здания нарсуда. С поздравительным словом выступили Владимир Лозовой – Глава Временной Администрации на части территорий действия чрезвычайного положения (зам. Председателя Правительства РФ) и вице-президент Ингушской Республики Борис Агапов.
Не многим известно, что решение вопроса о создании ТРК Ингушетии пришлось на критически сложный период в истории российской журналистики, когда государственная система телерадиовещания и печати могла в одночасье развалиться на коммерческие компании. «Полное безразличие к проблемам местных компаний со стороны Министерства информации и печати РФ ставит под угрозу сам факт существования системы государственного вещания… по словам председателя Федерального информационного центра Михаила Полторанина, Верховный Совет “начал мстительную тактику выжженной земли, желая установить контроль сначала над телевидением, а затем и над всей прессой”», – писала газета «Коммерсант» [9]. Видя прямую угрозу ликвидации государственных СМИ, Борис Ельцин в срочном порядке созвал самое крупное за три десятка лет совещание с российской прессой и телерадиожурналистами. На этом мероприятии 12 августа 1993 г. в Москве, в Доме Российской прессы на Берсеневской набережной присутствовал верхний эшелон власти во главе с самим президентом страны, Первым зампредседателя Правительства РФ Владимиром Шумейко, председателем Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным. Участвовали первые лица министерств печати и связи, все руководители телерадиокомпаний и печатных изданий России. В пресс-релизе, который был распространен среди журналистов, говорилось: финансирование телерадиокомпаний находится под угрозой; со стороны Министерства связи, Верховного и местных Советов растет давление на радио и телевидение. Когда накал прений дошел до критической точки, Президент РФ Борис Николаевич Ельцин встал и огласил жесткое решение по сохранению государственных СМИ. «Вопреки всем прогнозам, не состоялась даже отставка нынешнего министра информации, чего ожидали очень многие», – отмечала «Независимая газета» [4].
Не прими я участие в этом форуме, неизвестно как сложилась бы и судьба ингушского телерадио. У нас-то на тот период не было ни своего технического ресурса, ни средств на его приобретение, ни технических кадров. И мы стояли в первой строчке списков на закрытие.
Время близилось к пяти вечера, председательствующий Михаил Полторанин сообщил, что через 10 минут будут прекращены прения. И я забеспокоилась: «Как? Я приехала в Москву и промолчу о наших проблемах?» Недолго думая, быстро передала в президиум записку: «Прошу слова. Ингушетия». Сидевший рядом со мной председатель Гостелерадио Чечни Рамзан Хаджиев уговаривал не идти к сцене, не выступать. Я пошла и рассказала о ситуации, в которой пребывали СМИ Ингушетии, а также доложила, что, вопреки существующим трудностям, мы стара-

Фото 2. Участники зонального совещания руководителей телерадиокомпаний Юга России. Справа налево в нижнем ряду: А. А. Бичоев – председатель ГТРК «Кабардино-Балкария», Т. Х. Мальсагова – председатель ГТРК «Ингушетия», И. И. Шляхтин – председатель Комитета по телевидению и радиовещанию Ставропольского крайисполкома, Д. Ю. Аджиев – первый руководитель ГТРК «Карачаево-Черкесия». В верхнем ряду: В. И. Агафонов – гендиректор Пятигорского отделения ГТРК «Ставрополье», А. А. Ибрагимов – зам. директора ГТРК «Ставрополье», директор краевого радио; Р. Х. Катиев – первый зам. председателя ГТРК «Ингушетия», гендиректор, А. Т. Керашев – первый председатель «ГТРК Республики Адыгея», В. Х. Эрендженов – председатель ГТРК «Калмыкия». 28 октября 1994 г., Пятигорск, Ставропольский край. (Архив автора).
Photo 2. Participants of the zonal meeting of heads of television and radio companies in the South of Russia. From right to left in the bottom row: A.A. Bichoev, chairman of the State Television and Radio Broadcasting Company Kabardino-Balkaria; T.Kh. Malsagova, chairwoman of the State Television and Radio Broadcasting Company Ingushetia; I.I. Shlyakhtin, chairman of the Committee on Television and Radio Broadcasting of the Stavropol Regional Executive Committee; D.Yu. Adzhiev, first head of the State Television and Radio Broadcasting Company Karachay-Cherkessia. In the top row: V.I. Agafonov, general director of the Pyatigorsk Branch of the State Television and Radio Broadcasting Company Stavropol; A.A. Ibragimov, deputy director of the State Television and Radio Broadcasting Company Stavropol, director of the regional radio; R.Kh. Katiev, first deputy. chairman of the State Television and Radio Broadcasting Company Ingushetia, director general; A.T. Kerashev, first chairman of the State Television and Radio Broadcasting Company of the Republic of Adygea; V.Kh. Erendzhenov, chairman of the State Television and Radio Broadcasting Company Kalmykia. October 28, 1994, Pyatigorsk, Stavropol Krai (Author’s archive)
емся идти в ногу со всеми ТРК России. Мои слова подтвердил Полторанин. Это был удачный экспромт. Ельцин несколько раз по ходу выступления уточнял у меня детали проблем. Затем, повернувшись к Шумейко и Полторанину, сказал: «Даю вам две недели срока, чтобы решить все озвученные здесь Тамарой МальГаковой 1 проблемы СМИ в Ингушетии, в том числе и финансо-

Фото 3. Т. Х. Мальсагова и И. И. Шляхтин при подписании договора о сотрудничестве и создании информационно-аналитического тележурнала «Северный Кавказ». 28 октября 1994 г., Пятигорск, Ставропольский край. (Архив автора)
Photo 3. T.Kh. Malsagova and I.I. Shlyakhtin at the signing of an agreement on cooperation and the creation of an information and analytical television magazine Northern Caucasus. October 28, 1994, Pyatigorsk, Stavropol Krai (Author’s archive)
вые по строительству телерадиокомплекса». Через две недели на ГТРК «Ингушетия» прибыл правительственный груз в составе двух автомобилей, двух журналистских комплектов (ТЖК) и других необходимых ресурсов.
Угрозу развала ВГТРК обсуждали в том числе и на зональном совещании руководителей телерадиокомпаний Юга России (11.10.1994) в Пятигорске с участием представителей высшего звена главных структур вещательной системы ФГУП ВГТРК. Повестка дня: потеснит ли коммерциализация государственное вещание? В тот период оно имело 90 филиалов по стране. Участники совещания единогласно высказались за сохранение автономности и самоуправляемости системы Медиа-холдинга как координирующей структуры филиалов ФГУП ВГТРК.
Весной 2005 г. я работала на Первом телеканале ответственным редактором ежедневной четырехчасовой программы «Доброе утро». И там, в Останкино, состоялось личное знакомство с И. И. Сладчиковым, который осенью 1992 г. сыграл огромную роль в подготовке к запуску телерадиовещания в Ингушетии. Более двух часов Иван Иванович рассказывал мне о технической стороне работ, дополняя то, что отчасти знала и видела я сама.
Помню, 18 декабря 1992 г. 1, когда свершилось то, чего ожидали больше месяца: автобус с техникой – ПТС подключили к телевизионным каналам и передатчикам, я во второй половине дня приехала из Грозного в Назрань. На месте размещения телерадиокомпании было очень оживленно, множество незнакомых мне людей, занятых делом, не замечали пронизывающе сы- рой погоды. Я пробралась к Б. Чахкиеву – руководителю ГТРК «Ингушетия», он познакомил меня с московскими и ставропольскими специалистами, которые уверили, что через два дня состоится официальный выход в эфир. Это была одна из немногих – пожалуй, третья – приятная новость за весь последний год.
Башир Ахмедович вынул из кармана пиджака свернутый вчетверо лист с некогда составленным мной вариантом эфирной рабочей программы. Я усмехнулась: она уже не актуальна, однако указанная в программе рабочая группа в полном составе находилась в помещении подвала! В пробный эфир радио предполагали выйти к 15 часам. И в намеченное время позывные радио Ингушетии прозвучали на средних волнах (1089 кГц). Диктор Аслан Кодзоев зачитал за 50 секунд несколько дежурных фраз – и мы, поздравив друг друга с состоявшейся трактовой репетицией, спустились в подвальное помещение, где нас ожидал Министр печати Ингушетии Ратмир Мухарбекович Льянов. Обменявшись приветствием, сели за низкий приспособленный столик, и Башир Чахкиев со словами «Подпиши» протянул мне лист бумаги со строчками, написанными его рукой: «Заявление от Мальсаговой Т. Х. Прошу принять меня Заместителем председателя ГТРК “Ингушетия”». Подпись ставить я отказалась: «Вам выгоднее, если буду пока работать в Грозном, это необходимо для беженцев, прибывающих из Пригородного района РСО-Алания». В вечерних новостях грозненского телеканала (не без помощи автора этих строк) озвучивались списки, по которым люди могли друг друга найти, узнать имена без вести пропавших.
Другой веской причиной задержаться на Чеченской ТРК была назревающая отставка Р. Аушева (по его инициативе) с поста заместителя Главы Временной Администрации на территории действия чрезвычайного положения Осетии и Ингушетии (к весне намечались выборы президента молодой республики, в которых он планировал принять участие). Я вернулась в Грозный с намерением основательно начать подготовку к освещению предстоящих общественно-политических процессов. У меня уже были наброски к сценарию предвыборного киноочерка о Герое Советского Союза Руслане Аушеве. Роль кинооператора и звукорежиссера в этой работе была поручена Хусену Барахоеву. Надо отдать ему должное, в тот период он много помогал мне в подготовке сюжетов. С ним мы записали в Грозненском нефтяном институте имени академика М. Д. Мил-лионщикова большой материал о встрече Руслана Аушева с ингушской диаспорой и жителями Грозного. В актовом зале учебного корпуса яблоку негде было упасть. Мимо нас проходили мои коллеги-ингуши, прибыли и назрановцы (студенты, члены Народного Совета Ингушетии). Все торопливо занимали места, мы с оператором стояли в междурядье. Аушев говорил и отвечал на вопросы по-генеральски четко, грамотно, убедительно, соответственно своему мундиру и статусу. За два дня до выборов Президента Ингушской Республики на чеченском телевидении в 23.30 прошел мой 15-минутный телеочерк «Размышления о будущем, или Один в поле не воин» о Руслане Султановиче Аушеве. И, как всегда, за «штурвалом» режиссерского пульта сидела моя сестра Рита Мальсагова.
Незажившие раны конфликта осени 1992 г. в Пригородном районе Северной Осетии через год с небольшим вновь встревожили людей: начались военные спецоперации в Чечне, где также проживало более сотни тысяч ингушей. Люди стали продавать свои дома «за что дадут». Опять потоки беженцев ринулись к матери городов Ингушетии – Назрани, первой столице новорожденной республики. Не зря этот ставший причалом спасения для многих беженцев город называют Нана-Нясаре (Мать-Назрань). Здесь находились узлы связи, железнодорожная станция, автовокзал, откуда беженцы могли уехать в безопасные места 1. Ежедневно десятки автобусов с покинувшими Грозный людьми прибывали в Сунженский и Назрановский районы. Количество беженцев из Осетии и Чечни перевалило за 250 тысяч. Трудно представить, как самому малому по площади субъекту Российской Федерации удалось справиться с таким притоком населения при малоземелье, неразвитой инфраструктуре и экономике. На дежурных путях в списанных вагонах размещали первую волну беженцев, вторую разобрали по домам жители населенного пункта, третью расселили, расширив палаточные городки депортированных из Республики Северная Осетия – Алания, четвертый поток занял корпуса школ, разного рода служебных учреждений. И так без конца, цепочка растянулась не на месяц, а на годы.
Сложные узлы проблем отражали корреспонденты местной прессы и ингушского телерадио, поднимали актуальные вопросы в своих новостных выпусках. Но подача и содержание проходили строгий контроль цензоров Временной Администрации, которые приезжали из Владикавказа к вечернему эфиру и просматривали весь текстовой и видеоматериал. Мысленно возвращаясь к тому периоду, задаешься вопросом: каково было журналистам работать под таким прессингом, сдерживая эмоции, рассказывать правду, чтобы центр увидел и услышал проблемы в том масштабе, в каком они видели их сами?
Ежевечерне у здания нарсуда, где размещался телецентр, толпы людей дожидались возвращения съемочной группы, чтобы спросить: как там на передовой? Вы были в поселке Калинина? Как обстановка на проспекте Ленина? А в Октябрьском? Дом пионеров живой? А театр? А наш дом – номер 39 по улице Дарвина? А улица Красных фронтовиков, там наши ветераны… Когда подобных вопросов сотни, а ответ на них один: «через час на экране все увидите сами», в такие минуты и оцениваешь работу репортера в экстремальных условиях. Все без исключения ингушские журналисты были готовы к освещению новых страниц в истории становления республики. Они не испугались вызовов времени, не сломились, не бежали из профессии, а сделали все от них зависящее, чтобы огонек голубого экрана светился доброй надеждой в людских сердцах и домах. Как бы пафосно это ни звучало, отмечу: сложная общественно-политическая ситуация девяностых показала, что телевидению, радио, прессе под силу выступать в роли правозащитников, информаторов, посредников между властью, народом и военными – легитимизировать мирные пути разрешения конфликтов, формируя господствующее мнение и благоприятные перемены общественного климата как внутри региона, так и внутри страны.
Без какого-либо транспорта, зачастую просто пешком, на полном энтузиазме наши телевизионщики отправлялись в путь и по крупицам добывали информацию, которая была нужна соотечественникам больше чем вода и пища. Пленка запечатлевала события, метания толпы, искаженные бедой и физическим страданием лица. Искали без вести пропавших. Передавали сводки из больниц, заполненные сведениями о раненых. Наши корреспонденты и операторы выезжали с московскими коллегами в Грозный – и вместе с ними с камерой в руках проходили по развалинам оставленных в городе под бомбежкой жилищ, снимали людей, спрятавшихся в подвалах и в бомбоубежищах… Самыми тяжелыми эпизодами съемок были вести о погибших. Для многих погребение на кладбище было невозможно, хоронили прямо в своих дворах. Жизнь обеспеченной, красивой, процветающей республики в одночасье обернулась смертью – страданием в объятиях пламени, гнева и потерь. А вместе с этими испытаниями рождался и проходил становление новый жанр журналистики – военной, полевой, экстремальной… Сейчас в МГУ есть курс «Журналист в экстремальных ситуациях», постоянно пополняемый новыми темами и методиками подготовки материалов. А в наше время навыки работы в этом новом жанре корреспонденты приобретали исключительно благодаря своему собственному опыту.
Как уже упоминалось, я приглашала в Ингушетию специалистов с Грозненского телевидения, оказывала им помощь как беженцам в трудоустройстве, жилье, в оформлении пенсии. Со своей стороны, и они – инженеры, режиссеры, редакторы, экономисты – помогали в решении наших кадровых проблем, обучали новичков. Назову несколько имен: Виктория и Владимир Игнатьевы, Лиза Алфер, Нинель Золотарёва, Татьяна и Андрей Сметанины, Юрий Алексеев и др. Все они жили у моих родственников, как и я. Среди них была и Роза Ляува – профессиональный радиожурналист, настоящий мастер слова и пера. Она долгие годы работала старшим редактором литературно-художественных программ на радио в Грозном. Во время осетино-ингушского конфликта активно помогала солдатским матерям, взаимодействовала с международными организациями и благотворительными фондами гуманитарной помощи беженцам. Буквально не выходила из палаточных городков. О ней как организаторе благотворительных радио- и телемарафонов (на российском радио опыта проведения подобных марафонов тогда еще не было) сам Президент Р. Аушев заметил: «Роза Исаевна, вам удалось поднять волну народного сострадания». В прямом эфире выходили ее передачи «К родным очагам» и «По следу боли» (о без вести пропавших), публицистическая «Трибуна руководителя». Действенным и актуальным был телепроект «Межнациональный диалог», опробованный ею еще на грозненском радио для развития культурной и религиозной диплома-

Фото 4. Р. Ляува берет интервью у жителей палаточного городка беженцев в присутствии членов Международного благотворительного фонда помощи и дружбы. Сентябрь 1994 г., Карабулак, Республика Ингушетия (Архив автора)
Photo 4. R. Lyauva interviews residents of a refugee tent camp in the presence of members of the International Relief Friendship Foundation. September 1994, Karabulak, Republic of Ingushetia (Author’s archive)
тии, сохранения мира на Кавказе, упрочения уз дружбы.
Так легендарная Московская улица в г. Назрани, где начинала свои первые шаги ГТРК «Ингушетия», стала каналом доверительной связи между властью и обществом.

Фото 5. Запись передачи «Межнациональный диалог» на ГТРК «Ингушетия» с членами Международного благотворительного фонда помощи и дружбы. Сентябрь 1994 г. Назрань, Республика Ингушетия (Архив автора)
Photo 5. Recording of the program “Interethnic Dialogue” in the State Television and Radio Broadcasting Company Ingushetia with members of the International Relief Friendship Foundation. September 1994, Nazran, Republic of Ingushetia (Author’s archive)
На войне есть такое правило: чтобы не стать объектом манипулирования и упреков от властей, работающие в зоне вооруженных конфликтов журналисты не делят столкнувшиеся стороны на «своих» и «чужих».
В значительной мере повседневная работа СМИ республики уже была частью героической истории народа: присутствовавшие на поле сражений корреспонденты, репортеры рисковали жизнью и здоровьем наравне с солдатами. И свою благородную миссию они выполнили без «проколов», без нарушения Закона о СМИ. Работа всех сотрудников телерадиоцентра шла в обстоятельствах, приближенных к боевым. На данном временном отрезке он функционировал в экстре- мальных условиях – подвальная теснота, старые ПТС-автобусы, стоявшие около нарсуда. У девушек-звукооператоров, режиссеров, инженера, сидящих за промерзшим металлическим пультом, немели пальцы: температура внутри автобусов, откуда велись трансляции, опускалась до минус 5-7 градусов. А в жару крыша радийной «Баллады» прогревалась до плюс 50.
Прямо во дворе около автобусов к вечеру разворачивалась «тарелка» (антенна спутникового телевидения) для прямой трансляции в страны Европы. Благодаря спутникам Intersat и Astra Россия тогда принимала более десятка программ. К нашему большому удивлению, от наз-рановской точки видеосигнал достигал границ Австралии, Японии, Германии, Польши, Италии, Норвегии, Англии, США. На руководство и сотрудников телерадиокомпании это накладывало большую ответственность за вопросы информационной и личной безопасности. Нагрузка была мощнейшая: мы помогали коллегам из западных стран в подготовке и монтаже видеоматериалов, в обеспечении техническими ресурсами съемочной группы, выезжали с иностранными журналистами на съемки, считая это своего рода профучебой. Через местную власть старались вызволить коллег-журналистов (в том числе и ингушского корреспондента газеты «Сердало»), попавших в заложники к боевикам. Всех, кто приехал работать, принимали соответственно нашим традициям, при необходимости поддерживали телефонными звонками их родных и близких, разыскивали без вести пропавших.
Однажды под конец планерки – время на часах приближалось к полуночи – корреспондент одной из аккредитованных западных компаний попросил сделать звонок домой в Азербайджан. Разговаривал в моем присутствии. На другом конце провода отвечала жена. Его звали Фархад. Воспитанный, скромный, с грустными глазами, очень тихо и спокойно говорящий молодой человек. Он просил разбудить дочку, но жена воспротивилась: уже поздно, сегодня девочка весь вечер плакала, скучала по тебе; проснется – не уснет. Фархад сказал, что утром рано едет в Чечню по заданию редакции, там серьезные бои. «Хочу услышать голос дочери, он поможет преодолеть многое». Жена просила не идти на задание и не будить дочь. Но Фархад настаивал на своем. И вот мы услышали, как мать громко зовет девочку к телефону. Ребенок проснулся, прибежал и долго повторял сквозь слезы: «Папа, если ты меня любишь, приезжай, я скучаю. Там война, я видела по телевизору, там убивают людей, горят в подвалах дети». Отец говорил с дочкой на русском языке: «Доча, я еду, чтобы остановить войну и показать миру, что она делает с детьми, отнимая у них родителей». В конце обратился к жене: «Успокой девочку, я завтра буду в очень сложном месте, даже не знаю, как я туда проберусь, без бронежилета. Пожелай мне удачи – и запомните – я вас очень люблю… К восьмому марта буду дома, как обещал».
На следующий день группировка внутренних войск МВД, развернутая на базе одной из дивизий оперативного назначения, перешла к активным действиям на западе Чечни. Фархад к вечеру не вернулся на монтаж. Прошло несколько дней, потом месяц. Беспокойство нарастало. Все журналисты, кто выезжал в зону сражений, передавали по цепочке информацию о нем вместе с фотографией. Что его тело нашли на месте боев – он лежал ничком под листвой среди тающего снега, как бы прикрывая телом телекамеру, – сообщила съемочная группа британского репортера Стива Розенберга из московского бюро Би-би-си. Это стало известно 8 марта. Я, которая слышала в разговоре отца с дочерью обещание вернуться восьмого марта, попросила своих ребят достать в Назрани хотя бы два цветочка и села писать о Фархаде. Подготовила нарезку из его сюжетов, положила на его рабочие кассеты с неотправленным репортажем два тюльпана – и, нарушив запланированную сетку вещания на российском телевидении, –рассказала телезрителям о смелом журналисте, который не вернулся с задания. Грустно нести потери. Но рисковать жизнью стало нормой и служебным долгом для преданных своей профессии людей. У меня сохранился в личном архиве этот пронзительно дорогой всем нам видеонекролог.
В видеоролик репортажа, посвященного второй годовщине ТРК «Ингушетия», попали члены корреспондентской группы, в которую входил погибший в декабре 1994 г. телеоператор.
Здесь хотелось бы несколько строк посвятить вопросу, который мучает меня много лет. Беспокойство о нем не оставляло меня и в Москве, когда работала на центральных каналах России, и


Фото 6–7. Съемочная группа агентства Рейтер готовит сюжет новостей. В монтажной ингушского телевидения вместе с продюсером польского телевидения Анной Дабровска (справа, в очках), корреспондентом Дэвидом Люнгерном, монтажером Ириной Петровой (в центре), кинооператором (Фархад стоит слева на первом плане). С микрофоном – Председатель ГТРК «Ингушетия» Т. Мальсагова.
21 декабря 1994 г. Назрань, Республика Ингушетия (Архив автора).
Photos 6–7. A Reuters film crew is preparing a news story. In the Ingush television editing room with Polish television producer Anna Dabrowska (on the right, wearing glasses), correspondent David Lungern, editor Irina Petrova (center), cameraman (Farhad is standing in the foreground, on the left). Tamara Malsagova, chairwoman of the State Television and Radio Broadcasting Company Ingushetia, is holding a microphone. December 21, 1994, Nazran, Republic of
Ingushetia (Author’s archive)
когда, будучи уже в составе республиканской власти советником президента я тщетно пыталась «пробить» этот вопрос, чтобы добиться справедливости. В начале военной операции на Северном Кавказе, когда российские войска 11 декабря 1994 г. двинулись на Чечню через территорию Ингушетии и встретили сопротивление на ее границе, – первые репортажи, видеосъемки на каналы РТР и ОРТ готовили и перегоняли журналисты телевидения Ингушетии 1. Пул российских и зарубежных репортеров еще не прибыл к месту событий. И первая кровь войны пролилась на ингушской земле, и первый мой 15-минутный репортаж для РТР с федеральной трассы сделала именно наша телерадиокомпания. Этот репортаж снимали по просьбе редакции новостей РТР, и его увидела вся Европа. Только в сравнительно скором времени на территории нашего телевидения развернули свои «тарелки» журналисты 11 ведущих зарубежных компаний (московское бюро британской телерадиокомпании ВВС, Ассошиэйтед Пресс, агентство Франс Пресс, CBS NEWS, телеканал CNN, WTN и др.), а также РТР, НТВ, РЕН ТВ, ИТАР-ТАСС, ТРК «Останкино».
Для военных боевые события – тест на готовность армии вести масштабные военные действия против сепаратистских формирований. А для СМИ – это серьезная проверка способностей:
насколько честно и объективно они будут освещать военные события 1.
Из гражданских, прикомандированных и независимых корреспондентов все были аккредитованы, соблюдали нормы и этику внутригосударственного законодательства. Наиболее часто мы видели сотрудников «Правды», «Московского комсомольца», «Новой газеты», «Красной звезды», «Сегодня», «Российской газеты», но реальную картину происходившего могли детально показать только региональные компании, о которых руководство центральных российских каналов не упоминало. И никак не оценило профес-

РОЛИК . Репортаж ко второй годовщине со дня открытия ТРК «Ингушетия».
VIDEO CLI . Report on the second anniversary of the opening of the Ingushetia shopping mall
сионализм региональщиков.
А ведь они работали наравне с российскими и западными журналистами – с той лишь разницей, что не имели спецэкипировки, бронежилетов, автомобилей, средств защиты от чрезвычайных и нештатных ситуаций.
Более двух месяцев ингушские репортеры стояли на заснеженной федеральной трассе, не выпуская из рук микрофон: беседовали с военачальниками, солдатами. Это было самое непосредственное участие СМИ в урегулировании вооруженных конфликтов, сыгравшее немаловажную роль. Случались стычки между военными корреспондентами и дудаевцами, приходилось выравнивать ситуацию. На сложные и ответственные съемки выезжали заместитель руководителя ТРК Руслан Котиев и Руслан Котиев-младший; собственный корреспондент РТР Жансурат Аушева; Хава Абадиева, Ася Гелисханова, Магомед Амирханов, Малсаг Эгиев, Аслан Амирханов, Аслан Цолоев, Адам Албаков, Алисхан Могушков, водитель Магомед Мальсагов и многие другие. Но ни в одном российском списке журналистов, освещавших войну в Чечне, сотрудники ГТРК «Ингушетия» не указаны. Со съемочной группой и мне приходилось бывать в Грозном десятки раз: в роли репортера и для сопровождения российских и зарубежных журналистов. Известному всем в лицо сотруднику телевидения ЧИАССР было легче и безопаснее прорываться к бункеру чеченского лидера, поэтому 1 декабря 1994 г. Р. Аушев поручил мне отвезти в Грозный группу из 10 депутатов Госдумы (Владимир Лысенко, Элла Памфилова, Анатолий Шабад, Сергей Юшенков и др.) вместе с корреспондентом и ведущим российских «Вестей» Сергеем Доренко. Делегация прибыла из Моздока, чтобы добиться освобождения первых российских военнопленных-офицеров, оказавшихся в заложниках у дудаевского режима. Сутки сидели мы в чеченской резиденции, пока Грачёв, Юшенков и Михайлов (начальник Центра общественных связей ФСК РФ) вели переговоры с Дудаевым. К трем часам ночи была достигнута предварительная договоренность об освобождении российских военнослужащих. В 16.30 нас всех принял Дудаев, состоялся долгий разговор, затем ввели всех военнопленных и было оглашено решение. Третьего декабря парламентарии отбыли в Москву. А мы с телеоператором Магомедом Амирхановым остались в приемной Дудаева дожидаться обещанного интервью для ингушского телевидения. Это пространное, очень жесткое интервью, записанное на трехчасовую кассету, я передала Р. Аушеву в его рабочем кабинете, когда мы рано утром приехали в Назрань. Сергей Юшенков назвал нашу миссию успешной. Подробности этой операции описал корреспондент НТВ Александр Черкасов в статье «Дорога свободы» [10].
По данным отечественных и зарубежных аналитиков, так называемая первая и вторая чеченские войны (1994–1996; 1999–2000) по числу жертв, использованию оружия всех видов и ущербу, нанесенному военными спецоперациями, признана наиболее масштабной на постсоветском пространстве конца XX столетия. Думается, что в настоящее время опыт и уроки периода восстановления конституционного порядка в Чечне должны найти более глубокое осмысление. Войны новейшего типа со всей очевидностью доказывают возможность использовать масс-медиа для информационных атак и провокаций. Мы же, наше региональное телевидение, ни разу не позволили ни себе, ни приезжим коллегам перейти к накаляющим вражду выпадам в этой жестокой войне.
В качестве основного вывода из сказанного в двух частях этого очерка отмечу: модели развития региональной отрасли на примере двух субъектов России – Чечено-Ингушетии и Ингушетии – желательно рассматривать в сопоставлении, но и (особенно в период так называемых чеченских войн) отдельно друг от друга. Это поможет увидеть, как потрясшие страну общественно-политические процессы и изменения в духовной, культурной, образовательной жизни повлияли на психологию людей и на идеологию, даст стимул к осмыслению роли и возможностей региональных средств телевещания.
Хочется надеяться, что представленный в очерке материал послужит укреплению преемственности поколений, увековечению имен руководителей, журналистов-новаторов, стоявших у истоков развития региональных государственных телерадиокомпаний Юга России. Вопреки поверхностным утверждениям о том, что архивная пыль только засоряет современное информационное пространство, скажу: история – наш общий дом и хранилище, в котором живет человеческая память. Культура и история не могут существовать отдельно друг от друга. Медийный процесс не должен нарушать их неразрывную взаимосвязь, отрывать субъект творчества от общей судьбы народа. Тогда контент телерадиоканалов и прессы станет частью общенациональной истории и действенным инструментом сохранения мира – естественным воплощением потребности жить и творить будущее на благо единству и добрососедству народов региона и страны.
Tamara Kh. MALSAGOVA
Advisor to the Head of the Republic of Ingushetia,
Список литературы Вспоминая начало (к тридцатилетию телевидения Республики Ингушетия)
- Абадиев М. Кто же основал ингушское телевидение? [Электронный ресурс] // Livejournal. 4 сент. 2012 г. URL: https://musa-abadiev.livejournal.com/87047.html (дата обращения: 10.09.2022)
- Албогачиев М. Слово о надежном человеке: Главному редактору «Сердало» на заметку: комментарий к статье Мурата Озиева // Личный архив Т. С. Мальсаговой.
- Газдиев А. Рита Мальсагова: «Телевидение – это особое искусство» // Ангушт: Новая ингушская газета. 2002. № 16 (32). С. 4.
- Лебедев Ю. Мнение // Независимая газета. 1993. 13 авг.
- Мальсагова Т. Х. Люди, судьбы, связь поколений: к тридцатилетию телевидения Республики Ингушетия [Электронный ресурс] // Наследие веков. 2022. № 3. С. 115-135.
- Озиев М. После долгой ночи будет день [Электронный ресурс] // Livejournal. URL: https://maga-gorec.livejournal.com/50704.html (дата обращения: 10.09.2022)
- Очкин А. «Москва нас предала…» // День. 1993. № 2(82).
- Сладчиков И. И. Дневник из прифронтовой полосы // Вестник Всероссийской государственной телерадиокомпании. 2001. № 6 (26). С. 40–43.
- Туровский В. Министр печати и информации Михаил Федотов счел совещание руководителей ТВ России пропагандистским шагом // Коммерсант. 1993. № 153. С. 12.
- Черкасов А. Дорога свободы [Электронный ресурс] // Полит.ру. 2004. 8 дек. URL: https://polit.ru/article/2004/12/08/chech/ (дата обращения: 10.09.2022)
- Чеченский историк Абдулла Вацуев об этнической чистке в Пригородном районе в 1992 году [Электронный ресурс] // Youtube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=121HUcanuT4 (дата обращения: 10.10.2022).