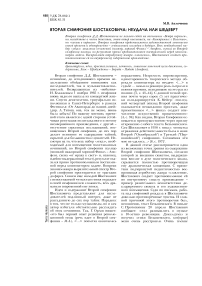Вторая симфония Шостаковича: неудача или шедевр?
Автор: Аплечеева Мария Владимировна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Мир художественной культуры
Статья в выпуске: 1 (26), 2013 года.
Бесплатный доступ
Вторая симфония Д.Д. Шостаковича не являет собой ни воспевание «Ветра перемен», ни молебствие в честь божества, этот ветер посеявшего, ни «Компромисс с Властью», ни «кукиш в кармане». Вторая симфония представляется художественной летописью своего времени и одновременно – гениальным взглядом в будущее. Весь необходимый набор «лекал» заказных сочинений (мажор, хоровой Финал – Апофеоз, схема) во Второй симфонии налицо, но результат прямо противоположен поставленной перед композитором задаче. Воспроизводя атрибутику жанра «славления», Шостакович создает противоположное ей по внутреннему содержанию произведение
Драматургия, идея, кристаллизация, летопись, лишенное конечной цели движение, содержание, хаос – пробуждение – борьба – победа (апофеоз)
Короткий адрес: https://sciup.org/14031472
IDR: 14031472 | УДК: 78.082.1
Текст научной статьи Вторая симфония Шостаковича: неудача или шедевр?
Terra Humana
Вторая симфония Д.Д. Шостаковича – сочинение, до сегодняшнего времени незаслуженно обойденное вниманием как исследователей, так и музыкантов-исполнителей. Возвращенная из «небытия» И. Блажковым 1 ноября 1965 г. симфония вновь надолго выпала из концертной жизни. Спустя десятилетия, триумфально исполненная в Санкт-Петербурге в рамках Фестиваля «От Авангарда до наших дней» (дир. А. Титов), она, тем не менее, вновь была забыта! По нашему мнению, причиной этого является с одной стороны устойчивая репутация политзаказного и потому несовершенного произведения, с другой – отсутствие серьезных исследований, посвященных Второй симфонии, до сих пор делает истинное ее содержание тайной, скрытой для большинства слушателей. Несмотря на то, что весь набор «лекал», необходимый для воплощения политзаказных сочинений, во Второй симфонии налицо (звонкий мажорный хоровой Финал – Апофеоз, схема «от мрака к свету» и, наконец, идейно-выдержанный текст), результат оказался прямо противоположным поставленной перед композитором задаче. Вопреки законам жанра выразительный спектр Второй симфонии простирается от трагедии до фарса. Совсем еще молодой Шостакович с непостижимой чуткостью гения отражает в своей симфонии всю сложность, весь драматизм современной ему эпохи.
Идея и содержание Второй симфонии Шостаковича представляют для исследователей подлинный интерес, даже не разгаданную до сих пор тайну. Парадокс в том, что не только музыковеды, но и сам автор избегали обстоятельно рассуждать об этом сочинении. Так, Г. Орлов пишет: «это был первый опыт решения революционной темы (речь идет о Второй симфонии – М.А.), <…> попытка окончилась поражением. Незрелость мировоззрения, односторонность творческого метода обрекали композитора на неудачу <…> в судьбе … замысла роковую роль сыграли и веяния времени, исходившие на это раз из поэзии» [5, c. 43–44]. С данной точкой зрения почти через сорок (!) лет практически солидаризируется К. Мейер: «последний четвертый эпизод Второй симфонии оказывается неожиданно простым, даже примитивным <…> финал создает впечатление искусственно прицепленного» [4, c. 94]. Как видим, Вторая Симфонии освещается преимущественно через призму откровенно слабого текста Безыменского. Сам Шостакович в 1956 г. писал: «попытка отражения действительности была в моих Второй (“Октябрьской”) и Третьей (“Первомайской”) симфониях. Сочинения эти мне не удались…» [8, c. 197]1.
В данной статье рассматривается одна из возможных точек зрения на содержание Второй симфонии Шостаковича, согласно которой за внешним сюжетом, выдержанном вполне в духе политического заказа, скрывается полностью противоречащая ему драматическая концепция. С прямо-таки подчеркнутой педантичностью воспроизводя атрибутику жанра «славления», Шостакович создает противоположное ей по внутреннему смыслу произведение – пример разительного несоответствия декларируемого сюжета и его художественного воплощения. Судя по письмам, работа над симфонией рождала в Шостаковиче довольно противоречивые чувства. И главной причиной этого противоречия был, несомненно, текст Безыменского. В письме С. Протопопову 20 апреля Шостакович сообщает: «стал размышлять о музыке к 10-летию революции. Думал-думал и получил стихи Безыменского, кот[орые] меня очень расстроили. Очень плохие стихи. Но все же я сочинять начал» [9, с. 137]. Вскоре, 6 мая пишет в письме Яворскому: «чувствую себя очень плохо и мечтаю умереть до 1-го августа (срок представления моего патриотического сочинения). И не спрашивайте, как продвигается это сочиненье» [10, с. 111]. Между тем, партитура Второй симфонии Шостаковича содержит немало подлинных откровений, никак не свидетельствующих о мучительном преодолении отвращения к бездарным виршам. Музыка симфонии несет печать вдохновения и даже известного азарта.
Сегодня принято ссылаться на выдающиеся художественные свидетельства сложного, полного драматических противоречий, первого послеоктябрьского десятилетия в творчестве И. Бунина, е. Замятина, М. Булгакова, А. Платонова, О. Мандельштама, М. Зощенко и ряда других писателей. Но до сих пор не оценена по достоинству начавшая трагическую музыкальную летопись нашей Родины Вторая симфония Шостаковича2.
Многие исследователи усматривают в форме Второй симфонии черты одночастной симфонической поэмы. С другой стороны, Вторая симфония по версии ряда музыковедов, в частности И. Воробьева [3, c. 149–150] и Л. Акопяна [1, c. 58–64], представляет собой вокально-симфонический диптих. По нашему мнению, структура Второй симфонии несет в себе (помимо приведенных выше) признаки еще одной, не упоминавшейся ранее, формы – контрастно-составной, с чертами симфонического цикла, где функцию I части выполняет Вступление – Пролог (ц. 1–27). Следующий эпизод (ц. 27–69) по характеру аналогичен Скерцо, и замыкает Симфонию хоровой Финал (ц. 69). Несомненно, данная, весьма распространенная в сочинениях, написанных в жанре политзаказа, схема своим рождением во многом обязана Девятой симфонии Бетховена.
В переводе на язык «сотериологичес-кого мифа» [1, c. 58] эта схема приобретает следующее программное наполнение: Хаос – Пробуждение – Борьба – Победа (Апофеоз). При этом картина Хаоса здесь, согласно тем же законам жанра долженствует изображать темное прошлое дореволюционной России. Звуки революционного марша во втором разделе Пролога олицетворяют пробуждение светлых сил и призыв к борьбе, которая увенчивается, как и должно, полной победой революционных образов и идей. Однако в данной трактовке, содержащейся практически во всех работах, посвященных Второй сим- фонии Шостаковича, присутствует, на наш взгляд, тенденциозность, заключающаяся в смысловом противопоставлении Вступ-ления-Прологаc остальной Симфонии. Анализ интонационно-тематического развития в «Посвящении Октябрю» позволя- ет с уверенностью констатировать, что это противопоставление является скорее внешним и, по-существу, навязывается содержанию Симфонии. Интонационная цельность Второй свидетельствует о том, что именно интонационный комплекс Пролога является главным источником темати- ческого развития Симфонии.
Одновременно материал Пролога, равно как и способ его изложения, чрезвычайно убедительно воссоздают эффект как-бы хаотического, а в действительности весьма жестко организованного, при этом, уже начавшегося движения. В основе тематического развития в Симфонии лежит появившийся в первом разделе вступления тетрахорд в объеме ум. 4. Превращаясь, порой, в энгармонически равное заполнение б. 3, она все более активно проникает в партии остальных струнных. Шостакович постепенно раздвигает границы начального мотива сначала до объема тритона, а затем мелодическая последовательность в объеме ум. 4 становится сегментом чрезвычайно напряженного в интонационном плане поступенного движения.
Вступления тубы, тромбона, валторны и трубы представляют собой следующий этап кристаллизации трагической интонации, с которой началась симфония. Стремление к «кристаллизации» довольно противоречиво сочетается с другим важнейшим свойством интонационного развития Пролога – ни одна интонация, ни одно тематическое образование не предстанут во Второй симфонии в структурно завершенном виде. В заключении первого раздела Пролога наступает фаза временного интонационного исчерпания. Шостакович возвращается к исходной интонации. Предварительный процесс кристаллизации мотива-инварианта завершен. Но каким странным образом – в виде схемы.
Следующий раздел Пролога – революционный марш – жанр, блистательно претворенный Шостаковичем в Первой симфонии, где в первой части также появилась тема, адресующая нас к революционной песне-маршу (ц. 8), однако тема Первой симфонии – упругая, не чуждая духу революционной романтики. Что мешало Шостаковичу сочинить подобную тему во Второй симфонии? Уж не отвращение ли к стихам Безыменского? Разумеется, нет!
Общество
Этот маршевый эпизод есть все та же, пытающаяся оформиться теперь ритмичес- ки, смутная и мрачная стихия, представленная в начале симфонии. За такт до ц. 18
у скрипок появляется цепь звеньев, основанных на интонации ум. 4. В момент, когда в судьбе этого мотива намечается своего рода местная кульминация, у валторн (ц. 18, т. 2) возникает, словно вступая с ним в противоборство, диатонический мотив, которому в дальнейшем суждено сыграть роль основного зерна альтернативного материала в симфонии.
Завершается пролог мощным tutti , построенном на трезвучии Ges-Dur 4. Этот почти внезапный прорыв диатоники предвосхищает диатоническое начало Скерцо. Открывающий основную часть скерцозного раздела симфонии материал солирующей срипки написан в тональности С-Dur ! – светлее не
Terra Humana
бывает. Но, достаточно вспомнить сколько потом будет у Шостаковича таких мажоров, искусственный свет которых не имеет тени и не дает тепла [7, c. 661–678]. Начало им положено в «Посвящении Октябрю». Две главные особенности тематизма Скерцо разрушают стройность навязываемой произведению схемы. Во-первых, как и в Прологе, видим процесс постоянного интонационного обновления в отсутствие мало-мальски структурно оформленного материала. Та же, что и в I разделе симфонии попытка самоорганизации приводит лишь к «кристаллизации» ритмического инварианта.
Во-вторых, что касается выразительной стороны музыки, довольно скоро ку-кольно-ифантильная танцевальность сменяется все нарастающей агрессивностью. Неостановимое, постепенно хроматизиру-ющееся движение приобретает все более гротескный характер, предвосхищая знаменитый трагический гротеск Скерцо более поздних произведений Шостаковича.
В первой кульминации Скерцо, когда мелодическое развитие практически исчерпывает свой ресурс и в оркестре слышна почти хаотически колышащаяся масса, вступают ударные, не оставляя никакого сомнения в характере звучности. Это агрессивная, надвигающаяся на слушателя махина, образованная каскадом хроматических пассажей, высшей точкой которой является 14-ти голосная имитация.
В сравнении с лаконичным, компактным, почти тезисным Скерцо Первой симфонии, тема Второй как таковая предстает в некоем «распылённом» по всему разделу виде. Кульминационную точку в данном эпизоде ставит оглушительный удар литавр (1 т. до ц. 53).
Вслед за чрезвычайно драматическим монологом четырех валторн ( in aria ) последовательные попытки оформления тематического материала сходят на нет. Завершающее данный раздел соло скрипки на фоне жутковато звучащих трелей у скрипок и альтов по характеру мало вяжется с отображением победоносного пробуждения светлых сил. Скорее, данная кода создает явственное ощущение, что на наших глазах жизнь покидает данную территорию, так и не обосновавшись на ней.
Обращает на себя внимание сходство приемов, которыми композитор завершает I раздел Пролога и Скерцо. И в том и в другом случае Шостакович недвусмысленно указывает на исчерпанность (на данном этапе) интонационного развития: в завершении Пролога – возвращением в сугубо схематическом виде исходной интонации (ум. 4). В заключении скерцозного раздела – удар литавр – тоже своего рода схема.
Итог интонационного развития так и не становится его результатом. Двукратное обращение к этому драматургическому приему никак не свидетельствует о его спонтанности. Кроме того, обращает на себя внимание зеркальная регистровая «зарифмованность» окончаний I раздела Пролога и Скерцо. В первом случае все завершается уходом в крайне низкий, с трудом различимый слухом регистр контрабасов и тубы, во втором – поступенное движение солирующей скрипки растворяется в безвоздушном пространстве стратосферы.
Начало Финала содержит очередную драматургическую загадку Второй симфонии. Исследователи единодушны в негативной оценке Финала, а также в «немоти-вированности» его появления. Между тем, именно в Финале становится очевидным все более увеличивающийся зазор между внешним, сюжетным и внутренним драматургическими планами произведения. Также как в Скерцо, Финал возвращает движение к его исходной точке. Но, в от-личае от Пролога и Скерцо, это движение в Финале предваряется неким событием, роль которого здесь выполняет Фабричный гудок. Таким образом, два обстоятельства конкретизируют замысел «Посвящения Октябрю» в его Финальном разделе:
-
1) текст Безыменского;
-
2) событие-толчок, дающее начало движению.
Внешне все выглядит более чем подобающе идее «приуроченного» сочинения: хор с патриотическим текстом, мажор, логичное, объяснимое начало и т.д. На деле же эта «политзаказная» символика является лишь средством камуфлирования факта окончательного расхождения с ней (символикой) по смыслу собственно музыкального содержания.
Вот он, «свет победы». Но опять – в который раз – собственно музыкальная драматургия выходит из повиновения внешней схеме. Итог вновь представляет собой демонстрацию интонационного опустоше- ния. В Скерцо кульминацию обозначает удар литавр, в Финале – хоровой выкрик. Не пение. Не речитатив. Выкрик: «Знамя! Коммуна! Ленин!»
Хоровое скандирование звучит неожиданно драматично. Чему в немалой степени способствует дробь малого барабана, каковая не столько создает атмосферу торжества, сколько вызывает ассоциации с многочисленными кинокадрами казней и расстрелов [2, c. 679–716].
В начале коды в третий раз все возвращается к исходному типу движения. Не удержавшись в C-Dur`е, оно «сваливается» в H-Dur. Диатонический лад отнюдь не скрадывает впечатления по-прежнему хаотичного движения. Здесь оно, лишенное сколько-либо индивидуализированных черт, достигает своей высшей точки. Это апофеоз движения огромной массы, смыслом существования которой является само безостановочное, лишенное цели движение. Решающим аргументом и доказательством тому является «загнанная» буквально в подполье (С-bassi, Celli, fg-ti) фанфара. Задавленная махиной остинатного оркестра, практически непрослушиваемая, наконец-то оформившаяся в рельеф, венчающая развитие всего сочинения и уже почти завершившаяся в победных фразах у хора интонация светлого апофеоза, никоим образом не прорвется сквозь толщу могучего tutti. Порыв, увы, едва различим.
Два года, разделяющих Первую и Вторую симфонии, превратили Шостаковича из бунтаря в мыслителя. Вторая симфония представляется художественной летописью своего времени и одновременно гениальным взглядом в будущее. У Шостаковича, как и у Гоголя, в творчестве отсутствует то, что называется «положительным героем». Также как у Гоголя, этот «герой» находится за пределами художественного текста. У Гоголя этот герой – «смех», у Шостаковича – «страдание», возвышающее чувство, пронизывающее его творчество. Вне сомнения, Симфония–трагедия носит вселенский и всевременной характер. Позволим себе предположить, что Симфония, как и все, написанные после Второй – есть художественное осмысление катастрофы, настигшей мир в XX веке. Во Второй симфонии впервые в музыке воплощена трагическая идея движения без цели , осознаваемая, впрочем, не одним только Шостаковичем. В «Котловане» А. Платонова находим чрезвычайно точное определение этого движения: «Вощев пошел туда походкой механически выбывшего человека <…> Он осмотрелся вокруг <…> устало длилось терпенье
Общество
на свете, точно все живущее находилось где-то посредине времени и своего движения: начало его всеми забыто и конец неизвестен, осталось лишь направление (курсив наш – М. А. )» [6, c. 160].
Именно такое движение является одной из основных художественных метафор Второй симфонии. Также в «Посвящении Октябрю» впервые в творчестве Шостаковича появиляется образ исчезающей, будто испаряющейся жизненной энергии. Музыкальный материал эпизода, названного композитором «смерть младенца», носит очевидно трагический характер и ведет к сходным по состоянию и колориту кодам Четвертой симфонии, Первой части Пятой, Восьмой и т.д. Этот мертвенный удаляющийся свет трагического прощания являет собой одну из характернейших особенностей выразительного мира Шостаковича. И, наконец, нигде больше, ни у самого композитора, ни у кого-либо из его современников, не обнаруживает себя с такой ясностью тщетность попыток романтического стремления к обновлению. Формировавшаяся на наших глазах на протяжении всей Симфонии тема – символ этого обновления так и осталась незавер- шенной, растворившись в вихре неостановимого всесокрушающего, и одновременно лишенного конечной цели движения.
Всякий, кто слушает Вторую симфонию сегодня, волей-неволей сравнивает ее с последующими симфониями. Мы допускаем, что сравнение это далеко не всегда будет в пользу Второй, но сколь много в ней найдено, сколь провидческим оказался взгляд композитора, с какой точностью, скорее интуитивно, почувствовал и предсказал совсем еще молодой Шостакович трагизм грядущих перемен. если позицию Шостаковича можно объяснить тем, что для него Вторая оказалась в тени последующих его шедевров, то невнимание ко Второй симфонии со стороны исследователей объяснить чрезвычайно сложно. Переоценить значение «Посвящения Октябрю» не только для эволюции стиля композитора, но и с точки зрения ее места в симфонической музыке XX в. невозможно. Быть может, для кого-то Шостакович-Симфонист начинается с Пятой симфонии, для кого-то – с Четвертой, нам же очевидно, что один из величайших симфонистов XX века – Дмитрий Шостакович – начинается именно со Второй симфонии.
Список литературы Вторая симфония Шостаковича: неудача или шедевр?
- Акопян Л. Дмитрий Шостакович. Опыт феноменологии творчества. -СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. -474 c.
- Валькова В. Сюжет Голгофы в творчестве Шостаковича//Шостакович: между мгновением и вечностью. Документы, материалы, статьи/Ред.-сост. Л. Г. Ковнацкая. -СПб.: Композитор (Санкт-Петербург), 2000. -C. 679-716.
- Воробьев И. Русский Авангард и творчество Александра Мосолова 1920-х -1930-х годов. 2-е изд. -СПб.: Композитор (Санкт-Петербург), 2006. -323 c.
- Мейер К. Жизнь. Творчество. Время. -СПб.: Композитор, 1998. -593 c.
- Орлов Г. Симфонии Шостаковича. -Л.: Государственное музыкальное издательство, 1961. -324 c.
- Платонов А. Котлован//На заре туманной юности: Повести и рассказы. -М.: Дет. лит., 2003. -328 c.
- Фэннинг Д. Современный мастер до мажора//Шостакович: между мгновением и вечностью. Документы, материалы, статьи/Ред.-сост. Л. Г. Ковнацкая. -СПб.: Композитор (Санкт-Петербург), 2000. С. 661-678.
- Шостакович Д. О времени и о себе. 1926-1975/Под ред. Г. Прибегиной. -М.: Советский композитор, 1980. -375 c.
- апреля 1927 года. Ленинград. Д.Д. Шостакович -С.В. Протопопову//Дмитрий Шостакович в письмах и документах/Государственный центральный музей культуры им. М.И. Глинки/Ред.-сост. И.А. Бобыкина. -М.: Антиква, 2000. -С. 137-139.
- мая 1927 года. Ленинград. Д.Д. Шостакович -Б.П. Яворскому.//Дмитрий Шостакович в письмах и документах/Государственный центральный музей культуры им. М.И. Глинки/Ред.-сост. И.А. Бобыкина. -М.: Антиква, 2000. -С. 111-113.