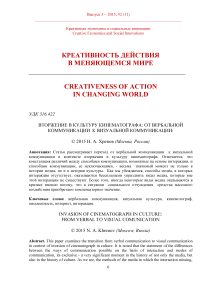Вторжение в культуру кинематографа: от вербальной коммуникации к визуальной коммуникации:
Автор: Хренов Н.А.
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Креативность действия в меняющемся Мире
Статья в выпуске: 2 (11) т.5, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья рассматривает переход от вербальной коммуникации к визуальной коммуникации в контексте вторжения в культуру кинематографа. Отмечается, что констатация различий между способами коммуникации, возможные на основе интеракции, и способами коммуникации, ее исключающими, - весьма значимый момент не только в истории медиа, но и в истории культуры. Как мы убеждаемся, способы медиа, в которых интеракция отсутствует, оказываются бессильными упразднить виды медиа, которые вне этой интеракции не существуют. Более того, иногда некоторые виды медиа оказываются в кризисе именно потому, что в ситуации социального отчуждения средства массового воздействия приобретают компенсаторное значение.
Вербальная коммуникация, визуальная культура, кинемотограф, письменность, интернет, интеракция
Короткий адрес: https://sciup.org/14239025
IDR: 14239025 | УДК: 316.422
Текст научной статьи Вторжение в культуру кинематографа: от вербальной коммуникации к визуальной коммуникации:
С некоторого времени много говорят о телесности. В истории телесность, действительно, то уходит на дно культуры, как это имело место в средние века, то переживает эпоху ренессанса. Сегодня мы возрождаем отнюдь не средневековую традицию, хотя существует много поводов нашу эпоху отождествить с эпохой средневековой, что нередко и делается. Так, В. Куренной, пытаясь определить структуру функционирующих в современном обществе медиа, этой параллелью не пренебрегает. Утверждая, что медийное измерение изначально присуще человеку, он пишет, что уже в средние века оно приобретает ряд черт, которые можно распознать и в современной системе массовой коммуникации. Например, В. Куренной проводит параллель между образно-визуальными текстами, характерными для культовой архитектуры средних веков, с одной стороны, и голливудскими блокбастерами, с другой [4, c. 10]. Его мысль следует понимать так: преодолевая эпоху письменного и печатного слова, медиа вновь возвращаются к магии изображения. В самом деле, что такое средневековое зодчество, как не каменная книга человечества, только изложенная с помощью не вербального, а визуального языка?
Однако если иметь в виду телесность, то ее реабилитация, характерная для нашего времени, пожалуй, имеет свое начало все же в Ренессансе. Ведь именно Ренессанс реабилитирует идеи Эпикура о чувственном удовольствии. Не случайно ослабление религиозных чувств связывалось с распространением эпикуреизма и гедонизма. В ХIV веке в Италии появляются последователи Эпикура, называемые эпикурейцами. «Сочинения Эпикура были утрачены – пишет Я. Буркхардт – и уже позднейшая древность имела о его учении более или менее одностороннее представление, тем не менее, чтобы познакомиться с совершенно обезбоженным миром, довольствовались и тем образом эпикуреизма, который можно было почерпнуть из Лукреция и особенно из Цицерона» [2, c.426].
Однако хотя Ренессанс и реабилитировал телесность, но, если иметь в виду изобретение в эту эпоху Гутенберга, то ведь именно печатная книга во многом способствовала утрате телесных проявлений бытия. Телесный, видимый мир переводился в систему вербальных знаков. Таким образом, реабилитированный Ренессансом гедонизм оказался сдерживаемым изобретением Гутенберга. Именно в эпоху Ренессанса произошло заметное расщепление между средствами массовой коммуникации и средствами массового воздействия. Тот же Я. Буркхардт демонстрирует расцвет карнавально- зрелищной стихии, связанной с площадью. Судьба площади,
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations раскрепостившей мощный энергетический потенциал, будет решаться в больших длительностях истории. Несомненно, печать в этом столкновении победит. Изобретение Гутенберга зрительной и зрелищной культуре как значимой составляющей культуры вообще нанесло серьезный удар.
Этого не могли не заметить первые теоретики кино. «Изобретение искусства книгопечатания с течением времени сделало неразборчивыми черты человеческого лица, – писал Б. Балаш – Люди получили возможность читать столь многое на бумаге, что смогли пренебречь иной формой взаимного общения. У Виктора Гюго где-то сказано, что к печатной книге перешла роль средневекового собора, и что она сделалась носительницей народного духа. Но тысячи книг раскололи единое лицо собора на тысячи толков. Слово раздробило камень. Таким образом, роль видимого перешла к тому, что воспринималось чтением, из культуры зрительной возникла культура умозрительная… Но с появлением книгопечатания установилась за словом роль главного моста в сношениях человека с человеком. В слове сконцентрировался интеллект. Тело лишилось его. Оно осталось пустым. Выразительная часть нашего тела свелась к лицу. И не только потому, что другие его части закрыты одеждой. Наше лицо является теперь как бы маленьким, беспомощным, вытянутым кверху семафором души; он сигнализирует нам, как умеет. Лишь иногда приходят на помощь руки, движения которых всегда полны меланхолии руин. Но ведь по спине греческого торса, лишенного головы, можно ясно видеть, – и видеть это можем еще и мы, – плакало ли исчезнувшее лицо или смеялось. Бедра Венеры улыбаются не менее выразительно, чем ее лицо, и не достаточно набросить покрывало на ее голову, чтобы нельзя было узнать, что она думает и чувствует. Человек был «видим» всем своим телом. Но с распространением словесной культуры душа (с тех пор, как ее стало так хорошо слышно) сделалась почти невидимой. Вот к чему привел печатный станок» [1, c.12].
Когда М. Маклюен касается книгопечатания, он фиксирует иной аспект. С его точки зрения, с появлением печатного станка возникает проблема, которая сегодня ассоциируется с открытиями З. Фрейда, а именно, с проблемой бессознательного. «Парадоксальный образом, – пишет он – первое столетие существования книгопечатания оказалось и первым столетием бессознательного» [5, c.358]. И еще: «Бессознательное – прямое порождение печатной технологии, все возрастающая куча отходов отвергнутого сознания» [5, c.359]. Почему же печатный станок приводит к расщеплению психики на сознание и бессознательное? Потому, отвечает М. Маклюен, что для бесписьменных обществ ничего неосознаваемого не существует. Но когда возникает необходимость перевода бесписьменных культур на язык печатной книги, адекватного перевода все же не происходит. «Исследования Юнга и Фрейда суть не что иное, как изощренный перевод бесписьменного сознания в
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations термины письменного, но, как и в любом переводе, в нем немало искажений и упущений»[5, c.108].
Таким образом, очевидно, что вместе с прогрессом в связи с печатным станком можно констатировать новую утрату того, что было существенным свойством культуры. А что же следующее средство массовой коммуникации – кинематограф? Ведь с его помощью удалось реабилитировать сферы бессознательного. Кино возвращает утрачиваемую в эпоху печатного станка телесность. «И вот фильма – пишет Б. Балаш – хочет вновь дать культуре решительный поворот. Многие миллионы людей просиживают каждый вечер и через зрительные органы приобщаются к судьбам человеческим, к характерам, чувствам и настроениям, не нуждаясь для этого в словах. Надписи, появившиеся еще на экране, отчасти – преходящие рудименты, отчасти они имеют специальное значение, но их роль вовсе не в усилении зрительных впечатлений. Ныне все человечество уже на пути к тому, чтобы вновь изучить забытый язык мин и жестов. Не замену слов, как у глухонемых, но зрительное соответствие непосредственно воплощенному интеллекту. Человек вновь становится видимым» [1, c.13].
Реабилитация визуального, включающего в себя и бессознательные, непередаваемые с помощью печати процессы психики, началась еще с появлением в ХХ веке фотографии, продолжившись в кино. «Если фонетический алфавит был техническим средством отделения устного слова от его звуковых и жестовых аспектов, то фотография и ее превращение в кино вернули в человеческую технологию регистрации опыта. Фактически фиксация остановленных человеческих поз с помощью фотографии направила на физическую и психическую позу больше внимания, чем когда бы то ни было раньше. Век фотографии, как никакая прежняя эпоха, стал эпохой жеста, мимики и танца» [6, c.28].
Нововведения, связанные с упразднением в письменности интеракции, многократно умножается с возникновением печатного станка и электронных технологий. Печатная книга упраздняет интеракцию, формируя то, что сегодня называют публикой. С этого времени публика перестает быть толпой и приобретает новую качественную форму. Трансформация толпы в публику по-настоящему происходит лишь в эпоху Ренессанса, когда возникает печатный станок. Эта революция была проанализирована еще Г. Тардом [7]. Таким образом, если исходить из интеракции как определяющего медиа признака, то можно отметить, что от истории медиа отделяются все коммуникации, что связаны с непосредственным взаимодействием людей в едином пространстве. В таком случае как можно их обозначить? В отечественной литературе отмеченные нами в культуре Ренессанса формы принято обозначать «средствами массового воздействия». В этом случае выделяются две функционирующие в обществе и предназначенные для
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations массового потребителя системы: собственно средства массовой коммуникации и средства массового воздействия [3, c.12].
Конечно, странно было бы разводить средства массовой коммуникации и средства массового воздействия, как будто средства массовой коммуникации этого воздействия лишены. Наоборот, что как не средства массовой коммуникации столь эффективно воздействуют. Но смысл в таком разделении все же существует. Очевидно, что тесно связанные с ритуальными и религиозными формами средства массового воздействия имеют еще более длительную историю, чем средства массовой коммуникации. К ним относится не только карнавал эпохи Ренессанса, но, например, все формы звуковой речи, пантомима, театр, спорт, цирк, фарс, мистерия, церковная служба и т.д. Особую проблему представляет отношение медиа к религии и использование церковью медиа для воздействия на массу. Кстати сказать, манипуляция общественным мнением с помощью средств массового воздействия бывает не менее эффективной, чем это имеет место в средствах массовой коммуникации. Может быть, даже и более сильной, если учесть возникающее в результате сосредоточения многих людей в одном пространстве действие внушения [8. c.50].
Констатация различий между способами коммуникации, возможные на основе интеракции, и способами коммуникации, ее исключающими, - весьма значимый момент не только в истории медиа, но и в истории культуры. Как мы убеждаемся, способы медиа, в которых интеракция отсутствует, оказываются бессильными упразднить виды медиа, которые вне этой интеракции не существуют. Более того, иногда некоторые виды медиа оказываются в кризисе именно потому, что в ситуации социального отчуждения средства массового воздействия приобретают компенсаторное значение. Они восстанавливают ту стихию социальности, которая в самом социуме становится дефицитом. Это обстоятельство оказалось предметом исследования в работах автора, посвященных социально-психологическим аспектам кино и театра [9, c.338]. В них функционирование театра рассматривается в контексте медиа и предстает именно средством массового воздействия.
Эта проблема оказалась весьма острой в 60-е годы ХХ века, когда распространение телевидения привело к спаду посещаемости кино, но в то же время к росту посещаемости театра. Как разновидность медиа кино сохраняет гибридность функционирования. С одной стороны, оно представляет типичное средство массовой коммуникации, с другой, сохраняя коллективные формы восприятия, функционирует как средство массового воздействия. В ситуации распространения телевидения, а позднее – возникновения интернета оно постепенно сдает свои позиции как лидера в системе медиа. Может быть, единственное, что еще не способствует его полному угасанию, – это то, что в известном смысле оно остается, в том числе, и средством
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations массового воздействия. Можно даже утверждать, что в наше время кризис кино есть в реальности не кризис собственно кино, а кризис того типа коллективной коммуникации зрителя с фильмом, который соответствует эпохе кинотеатров с большой вместимостью. С другой стороны, кризис кино, прежде всего как кризис коллективного типа зрелища и средства массового воздействия не оказался нейтральным и для языка кино. Все-таки этот кризис кино как средства массового воздействия отложил печать и на кризис кино как вида искусства.
Список литературы Вторжение в культуру кинематографа: от вербальной коммуникации к визуальной коммуникации:
- Балаш Б. Культура кино. -Л., 1925.
- Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. -М., 1996.
- Волков А. Об актуальных проблемах средств массового воздействия (СМВ) и средств массовых коммуникаций (СМК)//Предмет семиотики. Теоретические и практические проблемы взаимодействия средств массовых коммуникаций. -М., 1975. -C. 6-21
- Куренной В. Медиа: средства в поисках целей//Отечественные записки. -2003. -№4. -С. 8-30
- Маклюен М. Галактика Гуттенберга. Сотворение человека печатной культуры. -Киев, 2003.
- Маклюен М. Понимание медиа: внешние расширения человека. -М., 2003.
- Тард Г. Публика и толпа. -СПб., 1899.
- Хренов Н. Зрелища в эпоху восстания масс. -М., 2006.
- Хренов Н. Социально-психологический аспект функционирования зрелищ в культуре города//Театр как социологический феномен. -СПб., 2004.