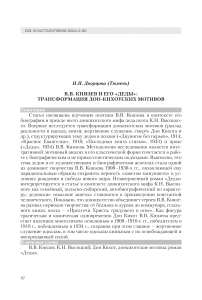В.В. Князев и его "Деды": трансформация дон-кихотских мотивов
Автор: Дворцова Н.П.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению поэтики В.В. Князева в контексте его биографии и прежде всего донкихотского мифа деда поэта К.Н. Высоцкого. Впервые исследуется трансформация донкихотских мотивов (разлад реальности и идеала; книги; жертвенное служение, смерть Дон Кихота и др.), структурирующих тему дедов в поэзии («Двуногие без перьев», 1914; «Красное Евангелие», 1918; «Последняя книга стихов», 1933) и прозе («Деды», 1934) В.В. Князева. Методология исследования является интегративной: мотивный анализ в его классической форме сочетается в работе с биографическим и историко-генетическим подходами. Выявлено, что тема дедов в ее художественном и биографическом аспектах стала одной из доминант творчества В.В. Князева 1900-1930-х гг., позволяющей ему парадоксальным образом сохранять верность «заветам минувшего» в условиях рождения и победы нового мира. Незавершенный роман «Деды» интерпретируется в статье в контексте донкихотского мифа К.Н. Высоцкого как семейный, польско-сибирский, автобиографический по характеру; дедовские «высокие заветы» становятся в произведении константой человеческого. Показано, что донкихотство объединяет героев В.В. Князева разных периодов творчества: от бедняка и дурака до коммунара, ссыльного князя, поэта - «Предтечи Христа, грядущего в огне». Как фигура трагическая и комическая одновременно Дон Кихот В.В. Князева предстает явлением многоликим: осмеянным в 1900-1910-е гг., победителем в 1918 г., побежденным в 1934 г., сохраняя при этом главное - жертвенное служение идеалам, в том числе идеалам книжным с их освобождающей и воскрешающей силой.
В.в. князев, к.н. высоцкий, дон кихот, донкихотские мотивы, роман
Короткий адрес: https://sciup.org/149146240
IDR: 149146240 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-92
Текст научной статьи В.В. Князев и его "Деды": трансформация дон-кихотских мотивов
V.V. Knyazev; K.N. Vysotsky; Don Quixote; quixotic motifs; novel “Dedy”.
К постановке проблемы
Роман В.В. Князева (1887–1937) «Деды» (часть первая) вышел в свет под псевдонимом Иван Седых в Ленинграде в 1934 г., незадолго до гибели автора, однако тема дедов возникла уже в начале его творчества и сопровождала его на протяжении всей жизни. Во многом это объясняется биографическими факторами и прежде всего ролью в жизни и судьбе Князева его деда – К.Н. Высоцкого (1836–1886), сына ссыльного поляка Н.М. Высоцкого и первого в уездном сибирском городе Тюмени фотографа, издателя-типографа, литографа, создателя первой городской газеты, родоначальника тюменской рекламы. Отец Князева Василий Иванович (1849–1894), состоятельный купец и книжник, дружил с Высоцким и женился на его дочери Марии Константиновне (1860–1892). После безвременной смерти родителей воспитание Князева взяла на себя его тетка
Людмила Константиновна (1862–1943?), продолжившая книжное дело К.Н. Высоцкого и сохранившая для будущего писателя память о деде. Закономерно, что в ряду многочисленных псевдонимов Князева, помимо Буревестника, Красного звонаря и т.п., есть псевдонимы Князев-Высоцкий, Высоцкий Н., В. Теткин и др. [Князев В.В.: биографическая справка].
Статья посвящена исследованию поэтики В.В. Князева в контексте его биографии, точнее, художественным и биографическим аспектам темы дедов, существующей в его творчестве в системе мотивов: К.Н. Высоцкий, ссыльный, Дон Кихот, книги, дурак, бедняк, коммунары, поэт – «Предтеча Христа, грядущего в огне» (смерть / бессмертие / воскресение). При этом исходным, ключевым и системообразующим мотивом в этом ряду является мотив Дон Кихота, что и определяет предмет нашего исследования. Методология исследования является интегративной: мотивный анализ в его классической форме [Гаспаров 1993] сочетается в статье с биографическим и историко-генетическим подходами. Это позволяет выявить трансформацию темы дедов и системы реализующих ее мотивов в творчестве В.В. Князева от 1900-х гг. к 1930-м гг. Материал исследования в работе – роман «Деды», а также поэтические сборники «Двуногие без перьев» (1914), «Последняя книга стихов» (1933) и «Красное Евангелие» (1918), где тема дедов и донкихотские мотивы творчества В.В. Князева представлены, с нашей точки зрения, наиболее полно.
Задача такого рода ставится и решается в науке впервые. Факт этот объясняется прежде всего тем, что творчество В.В. Князева в современной науке является недостаточно изученным, причем это касается преимущественно собственно художественной стороны и поэтики его произведений. Кроме того, интерес к нему исследователей нередко хронологически и географически, точнее, краеведчески (Тюмень, Санкт-Петербург) [Рогачев 1998; Дубенцов 2021] обусловлен. После современников судьба и творчество Князева привлекли особое внимание исследователей в 1990-е гг. [Кушлина 1992; Полонский 1994]. В 2000-е гг. академическая версия его биографии и творчества представлена в биобиблиографическом словаре ИРЛИ РАН «Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги» [Шошин 2005]. В истории русского донкихотства [Багно 2009; Айхенвальд 1982–1984] имя Князева отсутствует. Но для нас важное значение имеет один из выводов в работе Ю.А. Айхенвальда: подчеркивая чрезвычайную многоликость Дон Кихота, он пишет: «Судьба имени-притчи “Дон Кихот” на русской почве такова, что каждый может выбрать себе Дон Кихота по вкусу» [Айхенвальд 1982–1984, II, 410].
К.Н. Высоцкий: донкихотский миф
К.Н. Высоцкий, дед, и В.В. Князев, внук, никогда не видевшие друг друга в реальной жизни, в творчестве (жизнетворчестве) оказались в одном пространстве – пространстве донкихотского мифа. Об этом свидетельствуют как факты биографии, так и типологические связи донкихотских мотивов в их творчестве.
Миф о К.Н. Высоцком – Дон Кихоте создали современники первого тюменского фотографа и издателя Н.М. Чукмалдин и И.А. Калганов. У истоков мифа – творчество художника И.А. Калганова, рисовавшего Высоцкого в образе Дон Кихота. Примечателен тот факт, что портрет Высоцкого – Дон Кихота Калганов создает в цикле рисунков, иллюстрирующих поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», изображая его в ряду странников-правдоискателей [Иллюстрация к поэме…]. Художник, в судьбе которого Высоцкий сыграл важнейшую, спасительную, роль, соединяет в его образе две связанных друг с другом идеи: русского искания правды и русского же донкихотства.
Купец-миллионер и писатель Н.М. Чукмалдин, вместе с которым Высоцкий в 1869 г. выпустил первую тюменскую печатную книгу «Устав Приказчичьего клуба в городе Тюмени», в мемуарных «Записках о моей жизни» (1902) создает многогранный портрет Высоцкого, видя в нем прежде всего «человека с благородной и возвышенной душой». С Высоцким Чукмалдина объединяла страсть к книгам и чтению, которые стали для них путем «к свету и воле». Книжник Высоцкий с его служением высоким идеям был для Чукмалдина «человеком-учителем», способным преображать жизнь вокруг. Вместе с тем в отношении современников к Высоцкому Чукмалдин увидел то, в связи с чем И.С. Тургенев в статье «Гамлет и Дон Кихот» (1860) писал о комической стороне Дон Кихота, имя которого, по его словам, «стало смешным прозвищем даже в устах русских мужиков» [Тургенев 1980, 334]. «Умер, немногими оплаканный, а большинством забытый и даже осмеянный» [Чукмалдин 1902, 157], – с горечью писал Чукмалдин, подчеркивая разлад между высокими идеями Высоцкого и реальностью, которая не может и не хочет их принять. В сущности, в мифе Чукмалдина о Высоцком как фигуре одновременно трагической и комической можно увидеть истоки мифа о Высоцком как Дон Кихоте Осмеянном. Именно такой образ Дон Кихота создаст В.В. Князев в 1900–1910-е гг.
Донкихотские мотивы в творчестве В.В. Князева 1900–1910-х гг.
В начале творчества Князева донкихотские мотивы целостно представлены в книге «Двуногие без перьев» (1914), где донкихотство показано как важнейший признак этих странных живых существ. Теме Дон Кихота непосредственно посвящены, помимо прочих, четыре стихотворения сборника, образующие своего рода цикл: «Дон Кихот», «Бедняк», «VOX POPULI» и «Трюх-трюх! несется Дон Кихот». Хронологически первым из них является, очевидно, стихотворение «Бедняк» (1907), открывающее важнейшую для Князева тему разлада высоких идей и реальности. Портрет бедняка создан сатирически: «Он весь свой век корпел, уткнувши нос свой длинный / В болото мудрости зело научных врак» [Князев 1914, 29]. История его жизни достойна сожаления: пыли, плесени, паутине архивов, в которых провел жизнь герой, противопоставлены любовь, муки, наслажденья живой жизни. Бесполезна, лишена смысла (этот Дон
Кихот не превращается в Алонсо Кихано Доброго) не только его жизнь, но и смерть: «Он умер и зарыт на грязненьком кладбище / Под черепом его живет теперь червяк» [Князев 1914, 30]. Отметим также, что рефрен «Вот как?», создающий диалогическую ситуацию в тексте и делающий его неоднозначным, заимствован Князевым в стихотворении Беранже «Новый фрак» в переводе В.С. Курочкина [Поэты «Сатирикона» 1966, 342].
Стихотворение «VOX POPULI», печатавшееся также под заглавием «Дурак» (1908), структурно повторяет «Бедняка»: в нем также 4 строфы; рефрен «Вот как? <…> Бедняк! бедняк!..» [Князев 1914, 29], превратившийся в «Вот как? <…> Дурак! дурак!» [Князев 1914, 76], тот же сюжет жизни и смерти героя. Вместе с тем донкихотские мотивы «Бедняка» подверглись здесь существенной смысловой трансформации: негативную характеристику получает здесь не главный герой, а vox populi (глас народа), присвоившего себе право на разоблачение и осмеяние героя. Пыль архивов превратилась здесь в «минувшего заветы», преданность которым помогает герою «страстно бичевать» «царящий в жизни мрак» и «разрушать <…> пером – твердыни самовластья». Кроме того, в стихотворении появилась тема высокого служения и самопожертвования (жертвы) во имя идеалов: герой «часто голодал и был гоним при этом», и «умер он в Обуховской больнице», больнице для бедных [Князев 1914, 76, 77]. Смерть героя воспринимается здесь как часть высокого и жертвенного служения тем, кто не перестает кричать ему: «Дурак! Дурак!». Герой, таким образом, предстает фигурой трагической и комической одновременно.
Мотив жертвенного служения высоким идеалам как проявление подлинной человечности – главный в стихотворении «Дон Кихот», развивающем и углубляющем идеи «Дурака» и представляющем классический князевский образ Дон Кихота Осмеянного. О Дон Кихоте здесь сказано: «На бой в борьбу со злом, с насильем – наипаче / Сутуло сгорбившись, под хохот, вой и свист / Плетется – трюх-трюх-трюх – на водовозной кляче / Мечтатель-альтруист. / Его оружие – высокие заветы, / Прошедшие до нас немую даль веков, – / Но <…> заглушают их базарные куплеты / И хохот дураков» [Князев 1914, 17].
В пословицах и поговорках, собранных Князевым и его дедами, слово «дурак» амбивалентно по смыслу: «Дай дураку простор – наплачешься. – Ни мертвого насмешить, ни дурака научить. – Дураков бьют. – Мертвому вечная память, дураку со святыми упокой. – Дуракам счастье. – Дурак спит, а счастье у него в головах сидит. – Дурак – божий человек» [Князев 1998, 239–240]. Но если Дон Кихот у Князева, действительно, – фигура амбивалентная, то те, кого автор называет дураками –победителями жизни, превратились в однозначное зло. Рефреном стал здесь стих о Дон Кихоте: «Но <…> вслед ему звучит стогласое и злое: “Дурак! Дурак!”» [Князев 1914, 17]. Поэт создает образ мира, в котором торжествуют зло и смерть, а высокие идеи жертвенного служения осмеяны: «Трюх – трюх! Несется Дон Кихот / В поход на кляче… / Народ – хохочет во весь рот, /А мы – тем паче! / <…> Ужасен, гневен и велик /Лик Дон Кихота! / <…> А в отдаленьи воют псы / И – гложут трупы!» [Князев 1914, 88].
В ряду донкихотских мотивов в сборнике «Двуногие без перьев» также следует назвать мотив книг (Дон Кихот – рыцарь книги), своего рода вариант мотива высоких заветов и антитеза «болоту мудрости». Так, в стихотворении «Озимь» мотив книг связан с символикой зерна и огня, жизни после смерти, воскрешения / воскресения: «Есть дивные книги. Полны, как кошницы, / Живым и душистым зерном, / Они воскрешают надежд вереницы / И грудь наполняют огнем» [Князев 1914, 102]. В стихотворении «Колокольный звон» книги – знак свободы и освобождения от рабства: «Кто не хочет быть рабом – / Упирайся в книги лбом» [Князев 1914, 188].
Итак, в сборнике «Двуногие без перьев» возникают три варианта (Бедняк, Дурак, Дон Кихот) образа Дон Кихота Осмеянного, фигуры одновременно трагической и комической. В системе донкихотских мотивов – мотивы разлада реальности и высоких идей, жертвенного служения высоким заветам прошлого (борьбы со злом), жертвенной смерти, воскрешающей и освобождающей силы книг. Все эти литературные мотивы так или иначе совпадают с пространством смыслов, характеризующих жизнь и творчество (жизнетворчество) К.Н. Высоцкого, деда поэта.
«Великий восемнадцатый год»: рождение Дон Кихота
В творчестве Князева первых послеоктябрьских лет (1918–1919) донкихотские мотивы самым тесным образом связаны с важнейшим сюжетом лирики этих лет – сюжетом преображения (метаморфозы) поэта, из «лакея у господ» (из стихотворения «Поэт» в сборнике «Двуногие без перьев») становящегося поэтом-коммунаром, Красным звонарем и «в великом восемнадцатом году» – «Предтечей Христа, грядущего в огне». Биографический контекст этой метаморфозы – начало работы Князева в «Красной газете» В. Володарского и создание им «Красного Евангелия» (1918).
С нашей точки зрения, история преображения поэта у Князева есть не что иное, как вариант сюжета рождения Дон Кихота. В романе Сервантеса это сюжет превращения бедного идальго Алонсо Кихано с его фамильным копьем и древним щитом в Дон Кихота Ламанчского. Преображение поэта напрямую связано с трансформацией созданного им образа мира: в мире зла, смерти и осмеянных идеалов (1900–1910) вновь оживают и торжествуют высокие идеи жертвенного служения («крестного подвига»), воскресения и бессмертия. «В великом восемнадцатом году» Князев, как и А.А. Блок в поэме «Двенадцать» (1918), (выскажем такую гипотезу), обращается к евангельскому сюжету и образу Иисуса Христа. При этом для Князева очевидно (не раз отмеченное в литературе [Унамуно 2002]) родство Дон Кихота и Христа.
В завершенной форме сюжет преображения поэта представлен в «Последней книге стихов» (1933) в разделе «Вместо предисловия», состоящем из пяти стихотворений. В первом из них «В ответ на травлю» – своего рода предыстория сюжета: «Пока для бар звучал мой стих / Я был – “талантливым поэтом” / Теперь же, судя по газетам, / Мой стих …увы! – слинял и стих» [Князев 1933, 7]. Само же преображение поэта («Я ушел навек к народу – / Победить иль умереть»; «Буду петь народу песни – / До конца» [Князев 1933, 8, 11]) свершается благодаря смысловой трансформации донкихотских мотивов 1900–1910-х гг. и прежде всего мотива свободного («Явясь к коммунарам в газету, / Я вольным поныне остаться сумел» [Князев 1933, 10]) и жертвенного служения идеалам: «Мы – сыны иных полей: / Нам борьба всего дороже, / Идеал – всего милей. / На распятье мы приносим / Огнекрылые сердца / И наград себе не просим / За колючий терн венца» [Князев 1933, 13].
Важнейшим героем творчества Князева в этот период становится коммунар, в образе которого отчетливо различимы донкихотские черты и который позволяет ему объединить в едином смысловом пространстве историческое прошлое (Парижскую коммуну 1871 г., тему дедов) и настоящее (коммунаров Петрограда 1918 г.). В стихотворении «Ты веришь поэту?» Князев вновь пишет о верности «высоким заветам» дедов и создает метафорический образ К.Н. Высоцкого – коммунара: «Судьбою дарован мне песельный дар – / Ждала меня слава и деньги у бар, / Но дедову верен завету / (Он был коммунаром – Высоцкий, мой дед), / И славу, и деньги отринул поэт <…> / Товарищ, ты веришь поэту?» [Князев 1933, 9]. Коммунарам, их «крестному подвигу» и бессмертию (смерть – важнейший момент в истории Дон Кихота) посвящены самые известные стихи Князева революционных лет: «Песня коммуны», 1918; «Сын коммунара», 1919; «Бессмертное», 1919 и др. Свободное и жертвенное служение – так Князев определяет и собственную жизнь в этот период: «Не зовусь я коммунаром, / Принося вам песни в дар. / Принимайте так поэта, вверив вышку звонарю. / Без партийного билета / Вашим пламенем горю. / Но когда врагом заклятым / Будет залит наш пожар / Я бок-о-бок стану с братом / Бей! Я тоже коммунар!» [Последняя книга… 1933, 12].
Рождение нового мира для Князева напрямую связано с книгами. Книгой нового мира становится для него «Красное Евангелие» с его вестью о «Втором Царстве – на Земле». «Красное Евангелие» – это экстатические картины Апокалипсиса и смутно прозреваемого Апокатастасиса: «Это голод, отчаянье, мор и война / Чертят в небе свои письмена <…> Два мира борются смертельно <…> И пусть прольются крови реки, – / Они потопят старый мир» [Князев 1918, 18, 20, 57]. У поэта в этой картине гибели-рождения особая роль: «Я не Христос, а лишь Предтеча / Христа, грядущего в огне. / Крещу – огнем свободной песни» [Князев 1918, 36]. Его призыв обращен к каждому: «Очисти душу и – воскресни / Во имя Красного Христа» [Князев 1918, 36].
«Красное Евангелие» Князев создает в форме папирусного свитка, а не бумажной книги. Сам этот факт – не просто художественный прием, знак осведомленности поэта в истории книги, но и свидетельство особого отношения к прошлому в эпоху гибели старого мира, когда смерти противостоит бессмертие, воскресение и жизнь будущего века. При этом бессмертие Князев понимает прежде всего как бессмертие дедов, единство внуков и дедов: «Не нам дрожать над черной бездной / Воскреснет всяк, кто был убит – / Наш гордый шаг, наш шаг железный / В веках грядущих прогремит. / И внук, ловя громов раскаты / И видя молний письмена / Помянет, трепетом объятый / Бессмертных дедов имена!» [Князев 1918, 52]. Очевидно, что в художественном мире Князева в ряду бессмертных дедов рядом с поэтом стоят К.Н. Высоцкий, Дон Кихот и Христос.
Роман «Деды»: Дон Кихот побежденный
В романе «Деды» экстатический стих Князева первых лет революции сменяется реалистической прозой. В предисловии к роману критик и литературовед-марксист Г. Горбачев [Любимова, Розина] пишет: «… первая часть произведения Ивана Седых представляет не только художественную, но и историческую ценность как правдивый показ наиболее темных сторон капиталистически-крепостнического прошлого нашей страны» [Горбачев 1934, 8]. Г. Горбачев ставит произведение Князева в один ряд с романами Мамина-Сибиряка и подчеркивает, что «множество <…> ярких фигур ушедшей “обжиравшейся и опивавшейся” России встает перед нами на страницах “Дедов”» [Горбачев 1934, 7].
В системе персонажей романа особую функцию выполняет князь Болеслав Казимирович Лещинский, ссыльный поляк, благодаря истории которого в произведении возникает семейный, польско-сибирский, автобиографический по характеру миф Князева о его дедах. Г. Горбачев, к сожалению, не отметил этот важнейший для романа сюжет, связанный с жизнью польских ссыльных в Сибири и на Урале.
Появление в творчестве Князева романа о дедах есть, очевидно, результат смещения его зрения с глобального – «Второго Царства – на Земле», к локальному, частному – к Сибири и Уралу, к истории своей семьи, собственному детству (один из героев романа – «вихрастый гимназистик» Егорушка Лаптев, внук князя Лещинского). В романе об отношении к дедам и отцам как к абсолютному нравственному камертону на местном диалекте сказано: «отцовщина и дедовщина <…> – обык, а обык – крепче и во много по нашим местам раз святее закона!» [Седых 1998, 101].
Роман «Деды» при всем его автобиографизме не является документальным, в истории князя Лещинского тесно переплелись реальность и вымысел. Сюжет Лещинского, «офицера повстания, скрученного и выданного русским властям собственными своими крестьянами, <…> лишенного княжеского достоинства и всего своего громадного состояния» и сосланного «в маленький, захудаленький западносибирский городишко Кандалинск» [Седых 1998, 104] не совпадает с историей жизни Н.М. Высоцкого, его детей и внуков [Желтова 2020], но вместе с тем имеет к ним прямое отношение.
В Кандалинске Лещинский жил в «маленькой, полуслепенькой, покосившейся набок полуизбушке-полуземлянке», так что в «босом, в латаной рубахе без пояса и таких же латаных холщовых портках, бледном, взлохмаченном, обросшем волосами и бородой» человеке трудно было узнать блестящего князя Лещинского, говорившего «по-французски, как парижанин, и по-английски, как уроженец Лондона». При этом, как пи- шет Князев, «живой жизни» Лещинский предпочитал «книги и музыку» [Седых 1998, 105]. В сущности, в образе Лещинского Князев возвращается к типу героев, трагических и комических одновременно, которых в 1900– 1910-е гг. он называл бедняками, дураками и Дон Кихотами. Если ссыльный князь Лещинский – Дон Кихот, то он (по крайней мере в первой части романа) – Дон Кихот проигравший, побежденный, хотя и не сломленный.
Важным представляется тот факт, что в образе княгини Марии Сигизмундовны Князев создает героиню, являющуюся, по его словам, противоположностью Лещинскому, в отличие от которого она не прячется от жизни, а, наоборот, «с головой окунается в нее». В Кандалинске княгиня «перезнакомилась – с каждым по отдельности – со всеми членами польской колонии. Она перебывала – у каждой по отдельности – у всех польских женщин. Перецеловала всех ребятишек. Перетормошила их. Осыпала щедрыми подарками» [Седых 1998, 105, 106]. Она начала в городе постройку костела и сумела изменить к лучшему жизнь всей польской кандалинской колонии, влачившей до нее «жалкое полуголодное существование» [Седых 1998, 104]. Более того, войдя в круг местных богатых купцов и промышленников, Мария Сигизмундовна помогла князю стать одним из них.
Нельзя исключать того, что в образе княгини Лещинской с ее деятельной и благородной натурой, с ее способностью менять жизнь к лучшему нашли отражение воспоминания Князева о матери Марии Константиновне, о жизни тетки Людмилы Константиновны. Но очевидным представляется тот факт, что в 1930-е гг. Князев вновь, как и в начале своего творчества, стоял перед проблемой разлада реальности и высоких идей времени. Вторая часть «Дедов» осталась ненаписанной: идеи победили жизнь.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что тема дедов в ее художественном и биографическом аспектах является одной из доминант творчества Князева 1900–1930-х гг. Дедовские «высокие заветы», прошедшие сквозь «немую даль веков», оказываются для поэта константой человеческого в эпоху рождения и торжества идеи «Второго Царства – на Земле». Константой человеческого, с нашей точки зрения, становится для Князева – благодаря своей чрезвычайной многоликости – образ Дон Кихота, черты которого узнаются в таких разных его героях, как бедняк, дурак, коммунар, ссыльный князь, поэт – «Предтеча Христа, грядущего в огне». Каким бы ни представал у Князева Дон Кихот: осмеянным (1900–1910), победителем (1918) или побежденным (1934) – сутью донкихотства остается высокое жертвенное служение идеалам, в том числе идеалам, возникшим благодаря книгам с их освобождающей и воскрешающей силой.
Список литературы В.В. Князев и его "Деды": трансформация дон-кихотских мотивов
- Айхенвальд Ю.А. Дон Кихот на русской почве. Ч. 1-2. Нью-Йорк: Chalidze Publ., 1982-1984.
- Багно В.Е. «Дон Кихот» в России и русское донкихотство. СПб.: Наука, 2009. 228 с.
- Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. М.: Наука, 1993. 304 с.
- Горбачев Г. Предисловие // Седых И. Деды. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1934. С. 5-8.
- Дубенцов Б.Б. Эпизод из биографии В.В. Князева: Расставание с РКП(б) // Петербургский исторический журнал. 2021. № 3. С. 210-219.
- Желтова О.В. Невольный сибиряк. Высоцкий Николай Матвеевич и его потомки. Н. Новгород: Дятловы горы, 2020. 84 с.
- Иллюстрация к поэме Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» № 1: [графический рисунок]. URL: https://library.utmn.ru/dl/Rare_book/Vysotsky/photo/ Illyustr.k_poeme_Nekrasova1.pdf (дата обращения: 10.09.2023).
- Князев В.В.: биографическая справка. URL: http://az.lib.ru/k/knjazew_w_w/ text_1931_bio.shtml_(дата обращения: 14.09.2023).
- Князев В.В. Двуногие без перьев. Сатира и юмор. Библиотека «Сатирикона». СПб.: М.Г. Корнфельд, 1914. 238 с.
- Князев В.В. Красное Евангелие. Свиток первый: А - АЧ. 2-е изд. Петроград: Издание Петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов, 1918. 58 с.
- Князев В.В. Последняя книга стихов: (1918-1930). Избранное. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1933. 162 с.
- Князев В.В. Русь. Сборник избранных пословиц, присловок, поговорок и прибауток // Князев В.В., Плотников М.П. Русь: Избранное. Тюмень: СофтДи-зайн, 1998. С. 202-314.
- Кушлина О.Б. Князев // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т. 2. М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. С. 570-572.
- Любимова М.Ю., Розина А.Я. Горбачев Георгий Ефимович // Сотрудники РНБ - деятели науки и культуры. Биографический словарь. URL: https://nlr.ru/ nlr_history/persons/info.php?id=806 (дата обращения: 09.06.2024).
- Полонский Л.В. Как погиб Василий Князев // Распятые / сост. З. Дичаров. Вып. II: Могилы без крестов. СПб.: Всемирное слово, 1994. С. 134-142.
- Поэты «Сатирикона» / предисл. Г.Е. Рыклина; вступ. ст., биогр. справки, подготовка текста и примеч. Л.А. Евстигнеевой. М.; Л.: Советский писатель, 1966. 364 с. (Библиотека поэта. Большая серия).
- Рогачев В. А. Красная речь Василия Князева // Князев В. В., Плотников М.П. Русь. Избранное. Тюмень: СофтДизайн, 1998. С. 4-18.
- Седых И. Деды // Князев В.В., Плотников М.П. Русь. Избранное. Тюмень: СофтДизайн, 1998. С. 83-200.
- Тургенев И.С. Гамлет и Дон Кихот // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Т. 5. М.: Наука, 1980. С. 330-348.
- Унамуно Мигель де. Житие Дон Кихота и Санчо. СПб.: Наука, 2002. 396 с.
- Чукмалдин Н.М. Записки о моей жизни / ред. С.Ф. Шарапов. М.: Типо-лит. А.В. Васильева и Ко, 1902. 192 с.
- Шошин В. А. Князев Василий Васильевич // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: биобиблиографический словарь: в 3 т. / под ред. Н.Н. Скатова. Т. 2. М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. С. 217-219.