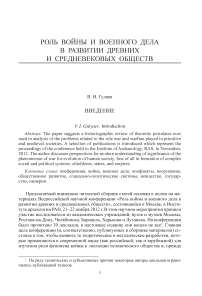Введение
Автор: Гуляев В.И.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 231, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается историографический обзор теоретических постулатов, используемых в настоящее время при анализе проблем, связанных с ролью войны и войны, играемой в примитивных и средневековых обществах. Представлен ряд публикаций, которые представляют собой материалы конференции, проведенной в Институте археологии РАН, в ноябре 2012 года. Автор обсуждает перспективы современного понимания значимости феномена войны для эволюции человеческого общества, в первую очередь в формировании сложных социальных и политических систем: вождеств, государств и империй.
Конференция, война, военное дело, конфликты, вооружение, общественное развитие, социально-политические системы, вождество, государство, империя
Короткий адрес: https://sciup.org/14328563
IDR: 14328563
Текст научной статьи Введение
Предлагаемый вниманию читателей сборник статей основан в целом на материалах Всероссийской научной конференции «Роль войны и военного дела в развитии древних и средневековых обществ», состоявшейся в Москве, в Институте археологии РАН, 21–22 ноября 2012 г. В этом научном мероприятии приняли участие исследователи из академических учреждений, вузов и музеев Москвы, Ростова-на-Дону, Челябинска, Барнаула, Харькова и Луганска. На конференции было прочитано 30 докладов, в настоящее издание они вошли не все1. Главная цель конференции (и, соответственно, публикуемых в сборнике материалов) состояла в том, чтобы выявить те теоретические и методические разработки, которые применяются в современной науке (как российской, так и зарубежной) для изучения роли феномена войны в эволюции человеческого общества и, прежде всего, в зарождении сложных социально-политических систем – вождеств, государств, империй.
Историография по данной теме огромна. И в ней уже давно выявились две противоположные позиции. Одна из них была больше представлена в трудах советских ученых, которые, следуя работам классиков марксизма-ленинизма, считали войну явлением довольно поздним, исторически преходящим и свойственным только классовому обществу и антагонистическому государству. «Первобытнообщинный строй, в котором не было классов и государства, не было эксплуатации человека человеком, – отмечает отечественный специалист по исторической демографии М.С. Авербух, – не знал войны как организованной вооруженной борьбы во имя политических целей. Здесь не было ни специальных отрядов вооруженных людей… ни специальных орудий для ведения войны…» ( Авербух , 1970. С. 7–10). Однако, учитывая огромное количество фактов из археологических, этнографических и исторических источников, явно противоречащих такому категоричному заключению, этот исследователь вынужден был несколько смягчить свое высказывание и добавить: «но если родовое общество не знало войны как вооруженной борьбы во имя политических целей (курсив мой. – В.Г. ), то все же вооруженные столкновения между родами происходили еще в эпоху дикости… Когда родовой строй достиг полного развития, такого рода конфликты стали более частыми» (Там же. С. 10).
Против такой позиции выступает огромная армия специалистов разного профиля – археологов, этнографов, историков, физических антропологов, биологов, социологов – из зарубежных стран, которые считают, что, во-первых, воинственность, агрессивность является внутренним биологическим свойством человека (она заложена в генетическом коде, полученном людьми от далеких обезьяноподобных предков), а во-вторых, войны были, есть и будут всегда, и всегда они служили и служат движущей силой прогрессивного развития человеческого общества. Известный американский антрополог Р. Карнейро еще в 1970 г. утверждал, что «война лежит в основе социально-политического прогресса» ( Carneiro , 1970. P. 733–738). Он считает, что рост народонаселения и его скученность в районах концентрации природных ресурсов приводили к войнам, завоеваниям, возникновению более сложных организационных структур (простых и сложных вождеств) и государственности ( Carneiro , 1981). Несмотря на ряд критических замечаний со стороны своих коллег на Западе и в России (точнее, в бывшем СССР), этот исследователь, хотя и с некоторыми коррективами, продолжает упорно отстаивать свою прежнюю теорию и в наши дни, ссылаясь на то, что «только благодаря прямому использованию силы – в первую очередь, боевых действий – преодолевались локальные автономии и деревни сплачивались в более крупную единицу, с общей политической структурой; только таким путем могли возникнуть вождества, а затем государства…» ( Карнейро , 2012. С. 165).
Можно назвать еще десятки громких имен зарубежных ученых, которые, с разными нюансами, проводят идею о раннем (с глубокой первобытности) появлении войны и военных столкновений в истории человеческого общества: З. Фрейд, А. Адлер, Л. Уайт, Э. Вайда, Б. Малиновский, Дж. Шнейдер, К. Райт,
-
С. Кобленц, Э. Сервис, М. Салинз и др. Подробное изложение общих концепций зарубежных исследователей на этот счет можно найти в очень полезном двухтомном издании наших коллег из Института этнологии и антропологии РАН (Война и мир… 1994).
Бесспорно, что война и военные столкновения претерпевали по мере развития человеческого общества очень серьезные изменения. Так, американский ученый Б. Малиновский выделяет следующие типы военных действий:
-
1) межличностные стычки внутри групп, названные им «прототипами преступного поведения»;
-
2) организованные коллективные межгрупповые стычки внутри культурного единства, преследующие своей целью возмездие;
-
3) вооруженные набеги типа спорта или охоты с целью добычи вражеских голов, захвата пленных для жертвоприношений или каннибализма, получения иного рода трофеев;
-
4) боевые действия, ведущие к возникновению примитивного государства;
-
5) экспедиции для организованного разбоя, захвата рабов и добычи;
-
6) вооруженная борьба между двумя разнокультурными группами, направленная на территориальное завоевание и создание государственности ( Malinowski , 1941). Только действия четвертого и шестого типов он считал настоящей войной.
По С. Кобленцу, эволюция вооруженных столкновений знала три основные стадии: 1) кровная вражда; 2) стычки по религиозным или церемониальным причинам; 3) войны грабительского характера. На первой стадии войн еще не было, вторая представляла собой нечто среднее между войной и охотой, и только третью этот ученый без колебаний связывает с настоящей войной ( Coblentz , 1953).
Американский исследователь У. Ньюкомб выделил следующие эволюционные стадии военных действий: 1) у наиболее архаичных охотничье-собира-тельских обществ, где не было существенных материальных накоплений, почти не было и стимулов для вооруженных столкновений, и там господствовал мир; 2) у некоторых охотничье-собирательских и отсталых земледельческих групп наблюдались «первобытные войны», соответствующие третьему типу по Малиновскому; 3) «настоящая война» была следствием перехода к производящему хозяйству; она типична для ранних цивилизаций, которые вели ее ради экономических выгод. В особую категорию У. Ньюкомб выделял войны, возникшие между разнотипными обществами ( Newcomb , 1960).
Что касается первого пункта данной классификации, то с этим можно поспорить. Вряд ли у всех архаичных охотничье-собирательских обществ ввиду низкого уровня их материального благосостояния господствовал мир. Поводов для военных столкновений, хотя бы с подобными себе соседями, у них имелось предостаточно: похищение женщин, борьба за охотничьи и рыбные угодья и т. д. и т. п. Причем эти военные действия велись с крайней степенью жестокости: род или племя побежденного врага вырезали практически целиком, не щадя ни старого, ни малого. Поэтому совершенно прав наш коллега В.А. Шнирельман, когда пишет: «Сравнение приведенных типологий позволяет сделать вывод о том, что в зависимости от критериев, разные авторы понимают войну по-своему и это ведет к разному пониманию истоков войны, ее особенностей и роли в ранней истории человечества. Следовательно, определение понятия “война” представляет особую (добавим, ключевую. – В.Г.) проблему…» (Война и мир... 1994. С. 27). Он и предлагает такое определение этого понятия. «Война – это конфронтация между двумя и более автономными группами, вызывающая санкционированные обществом организованные протяженные во времени вооруженные действия, в которых участвует вся группа или, что бывает чаще, ее часть, с целью улучшить свое материальное, социальное, политическое или психологическое состояние, либо, в целом, шансы на выживаемость» (Там же. С. 56).
И хотя для изучения войн эпохи глубокой древности существует много разнообразных источников (письменных, этнографических, фольклорных и др.), но для нас как археологов особенно важны источники археологические и сопутствующие им. К чисто археологическим относятся такие категории материалов, как оружие , доспехи , фортификация , воинские могилы , клады с оружием , остатки оружейного дела . Категорию «оружия» иногда делят на три разновидности: специализированное оружие (например, мечи – бронзовые или стальные); неспециализированное оружие, «двойного назначения», пригодное и для охоты, и для боя (лук и стрелы, топор, нож и др.); оружие случайного использования (камень, палка и пр.) (Там же. С. 34). Специализированное оружие, обычно изготовлявшееся из металла, появляется довольно поздно – в эпоху бронзы и раннем железном веке. Кроме того, оружие и доспехи из органических материалов (дерева, кости, а доспехи – еще и из кожи), к сожалению, сохраняются очень редко. Сюда следует добавить очень важные данные антропологии по анализу боевых ран и травм на скелетах древних людей, когда в некоторых случаях удается даже установить вид оружия, каким был ранен или убит изучаемый человек. Можно предполагать, что военные столкновения могут быть прослежены (в том числе и археологически), по крайней мере, с эпохи верхнего палеолита. Правда, отличить для этого времени боевое оружие от охотничьего удается только при наличии скелетов убитых людей с остатками орудий убийства. Так, погребенные в позднепалеолитическом могильнике Джебел Сахаба в Нубии были убиты орудиями, которые археологи обычно относят к категории «резцов» ( Wendorf , 1968. P. 954–995). Повторное изучение человеческих костей из верхнепалеолитического захоронения в пещере Сан Теодоро на острове Сицилия (возраст захоронения 13 000 лет) выявил наличие кремневого наконечника стрелы, вонзившегося в тазовые кости взрослой женщины. Археолог П.Ф. Фаббри из Пизанского университета (Италия) сделал свое открытие недавно, изучая скелет, обнаруженный в 1942 г. Наконечник прошел сквозь мягкие ткани и воткнулся в кость. Рана вызвала воспаление и нагноение, но в конце концов зажила, и женщина выжила ( Bahn , 1997. P. 24).
Еще более поразительный случай относится к эпохе неолита: в Итальянских Альпах в 1991 г. была найдена мумия взрослого мужчины – «Айсмана», «Ледяного Человека», возраст которого составляет 5300 лет. Останки находились во льду на высоте 4500 м. Комплексные исследования антропологов, медиков и археологов позволили выявить полную картину драматической гибели этого древнего европейца. Убийца подкрался сзади, выстрелил из лука, и стрела пронзила левое плечо так глубоко, что перебила крупную артерию, и человек неминуемо бы погиб от обильного кровотечения. Но враг для страховки нанес удар Айсману в заднюю часть черепа каменным топором. Анализ пыльцы на мумии говорит о том, что последние дни этого человека пришлись на весну. Незадолго до смерти он ел мясо и лепешку из пшеницы (Hall, 2011. P. 125–128). В целом же, судя больше по этнографическим данным, для убийства в каменном веке широко использовались деревянные виды оружия – луки и стрелы, копья, дротики, бумеранги, дубинки и т. д., – которые практически не имели шансов сохраниться в археологическом контексте.
Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что первобытные войны отличались от более поздних главным образом масштабами, организацией и целями. Обратимся вновь к тому же Р. Карнейро. «Военные действия, – подчеркивает он, – являются горючим, движущей силой, которая приводит в действие политическую эволюцию. Они осуществляют это посредством разрушения старых мелкомасштабных структур, позволяя построение более крупных… и более сложных политических единиц. Это больше не гипотеза, а установленный факт. Он подтверждается огромным количеством фактических данных из истории и этнографии… Что касается самих военных действий, то с самого начала обычные стимулы для ведения войны между автономными деревнями были практически такими же, как стимулы, лежащие в основе войн, ведущихся аборигенами Новой Гвинеи и Амазонии в недавнем прошлом. Это были войны, связанные с известными преступлениями типа убийств, обвинений в колдовстве, похищения женщин и т. п. – мотивы, которые, несомненно, уходят корнями в палеолит. Войны этого типа часто вовлекали деревни во временные альянсы… Однако в определенный момент эволюции войны с популяционным давлением, действующим, как особенно эффективный пусковой импульс, произошло решительное изменение типов причин, которые вызвали войну. Теперь она начиналась не только по причинам, указанным выше, но также за экологические преимущества и экономические выгоды…» ( Карнейро , 2012. С. 172–178). О больших потерях, которые несли первобытные народы, можно судить по сообщению Тацита о том, что войны между германскими племенами отличались особой жестокостью и беспощадностью: «Все побежденное предается истреблению» ( Тацит , 1886. С. 57).
Таким образом, перед нашим археологическим сообществом открываются большие возможности для исследования многих нерешенных и туманных аспектов темы войны в первобытную, древнюю и средневековую эпохи. Все это позволяет надеяться на то, что предлагаемая публикация будет очень полезной для широких археологических кругов. Большой оптимизм внушает и наблюдающееся в последние годы широкое внедрение методов естественных наук в археологию. Настоящий сборник может быть разделен по хронологическому принципу на несколько блоков, начиная от самых ранних периодов (мезолит, неолит) и до Средневековья.
В первом блоке в статье С.В. Ошибкиной говорится о первых военных столкновениях в эпоху мезолита (10–8 тыс. л. н.) на севере Восточной Европы. Блок второй посвящен материалам эпохи бронзы. Л.С. Ильюков из Ростова-на-Дону описывает коллекцию кремневых наконечников стрел (свыше 700 экз.), найденных внутри Ливенцовско-Каратаевской крепости в низовьях Дона. Автор рассматривает эту коллекцию как доказательство осады крепо- сти врагами и считает, что именно в результате данных военных действий она погибла, и жизнь в ней больше не возобновлялась (позднекатакомбное время).
В работе А.В. Епимахова анализируется небольшая коллекция каменных булав эпохи бронзы с территории Урала и Поволжья. Н.А. Берсенева посвящает свою статью предметам вооружения (наконечники стрел и детали лука, наконечники копий, металлические топоры, остатки колесниц и др.) синташтинской культуры Южного Зауралья.
Специальный блок содержит статьи по тематике раннего железного века. В работе С.И. Лукьяшко из Ростова-на-Дону «Военно-политическая ситуация на Нижнем Дону в IV в. до н. э.» приводятся новые факты о реальной картине взаимоотношений скифов, сарматов и правителей Боспора перед самым концом Великой Скифии на рубеже IV–III вв. до н. э. Алтайской тематике посвящена статья О.С. Лихачевой «Развитие тактики боя у населения лесостепного Алтая в раннем железном веке». В работе И.В. Рукавишниковой на примере двух железных доспехов из курганов 4 и 28 Филипповского курганного могильника на Южном Урале (IV в. до н. э.) ставится вопрос о взаимовлиянии традиций оружейного дела в Степной Евразии и древнем Китае. Заключительный материал данного блока представлен М.В. Добровольской и называется «Боевые травмы в изучении антропологических материалов из среднедонских некрополей V–IV вв. до н. э.».
Представлены в сборнике и материалы начала н. э. – V в. н. э., условно названные здесь «Эпохой переселения народов». Это материалы, обсуждаемые в статье А.А. Тишкина и С.С. Матренина «Воинское погребение раннежужанско-го времени из могильника Степушка I в Центральном Алтае».
Блок из двух статей посвящен проблемам войны и военного дела в далеко отстоящих от Старого Света центрах древних цивилизаций доколумбовой Мезоамерики: у индейцев майя I тыс. н. э. (А.В. Сафронов) и у ацтеков XIII–XVI вв. н. э. (В.И. Гуляев).
Еще один блок содержит исследования, посвященные эпохе Средневековья. Н.Н. Серегин исследует специфику распространения клинкового оружия в могилах раннесредневековых тюрок Саяно-Алтая. Той же эпохе посвящена коллективная статья антропологов и археологов П.С. Успенского, М.В. Добровольской, Е.А. Клещенко, А.В. Шишлова, Н.В. Федоренко «Воинские погребения по обряду трупосожжения биритуального могильника Кедровая Роща». Речь в ней идет о комплексном (новаторском по характеру) исследовании погребальных памятников Северо-Западного Кавказа XII–XIII вв. на основе анализа археологических материалов и кремаций (в урнах и без таковых).
В статье «Этнокультурные признаки в оформлении железных пластин ламеллярного доспеха» В.В. Горбунов анализирует признаки оформления железных пластин ламеллярного доспеха на основе археологических памятников IX в. до н. э. – XIII в. н. э. различных территорий Азии. А.С. Попов выступает с анализом изображения меча на деревянной скульптуре XIV в. Николы Можайского (из собрания Государственной Третьяковской галереи) и возводит его форму к средневизантийским образцам конца I – начала II тыс. н. э.
Очень интересную совместную статью «Эпидемиология войны и смуты: антропологический и письменный источники в изучении качества жизни на- селения русского города XVI–XVII вв. (на примере Ярославля)» представили антропологи и археологи М.Б. Медникова, А.В. Энговатова, И.К. Решетова, Т.Ю. Шведчикова, Е.Е. Васильева.
Мне представляется, что публикуемые в сборнике статьи вызовут значительный интерес у самого широкого круга археологов, этнографов, антропологов, социологов и историков.
Список литературы Введение
- Авербух М.С., 1970. Войны и народонаселение в докапиталистических обществах. М.: Наука. 217 с.
- Война и мир в ранней истории человечества: В 2 т. Т 1. Ч. 1: У истоков войны и мира/В.А. Шнирельман. 176 с.; Т 2. Ч. 2: Война и мир в земледельческих предклассовых и ранних классовых обществах/Ю.И. Семенов; Ч. 3: Война и мир на пороге цивилизации: кочевые скотоводы/А.И. Першиц. М.: ИЭИА, 1994. 247 с.
- Карнейро Р., 2012. Теория ограничения: разъяснение, расширение и новая формулировка//Политическая антропология традиционных и современных обществ: Мат-лы Междунар. конф. (Владивосток, 16-17 апреля 2012 г.)/Отв. ред. Н.Н. Крадин. Владивосток: Изд. дом Дальневосточного федерального ун-та. С. 162-189.
- Тацит К., 1886. Соч.: В 2 т. Т 1: Агрикола. Германия. Истории. СПб.: Л.Ф. Пантелеев. 337 с.
- Bahn P.G., 1997. Archers in the Paleolithic times//Archaeology. May-June. New York.
- Carneiro R.L., 1970. A theory of the origin of the state//Science. Vol. 169. P 733-738.
- Carneiro R.L., 1981. The chiefdom: precursor of state//The Transition to Statehood in the New World/G.D. Jones, R.R. Kautz (eds). Cambridge: Cambridge University Press. P 37-79.
- Coblentz S.A., 1953. From Arrow to Atom Bomb: The Psychological History of War. New York: Beech-hurst Press. 589 p.
- Hall S.S., 2011. Iceman unfrozen//National Geographic Magazine. № 220 (November). P 119-132.
- Malinowski B., 1941. An anthropological analysis of war//American Journal of Sociology. Vol. 46. № 4. P 521-550.
- Newcomb W.W., 1960. Toward an understanding of war//Essays in the Science of Culture. New York: Crowell. P 317-335
- Wendorf F., 1968. Site 117: a Nubian final Paleolithic graveyard near Jebel Sahaba, Sudan//The Prehistory of Nubia. Vol. 2. Dallas: Fort Burgwin Research Center and Southern Methodist University Press. P 954-995.