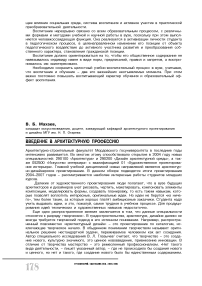Введение в архитектурную профессию
Автор: Махаев В.Б.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Педагогика
Статья в выпуске: 1 (6), 2006 года.
Бесплатный доступ
Творчество, архитектурная профессия, проектная деятельность, архитектурно-строительный факультет мордовского госуниверситета, специальность "архитектура", специальность "дизайн архитектурной среды", архитектурная среда саранска
Короткий адрес: https://sciup.org/14720412
IDR: 14720412
Текст статьи Введение в архитектурную профессию
ВВЕДЕНИЕ В АРХИТЕКТУРНУЮ ПРОФЕССИЮ
Архитектурно-строительный факультет Мордовского госуниверситета в последние годы интенсивно развивается. Во многом этому способствовало открытие в 2004 году новых специальностей: 290100 «Архитектура» и 290200 «Дизайн архитектурной среды», а также 052500 «Искусство интерьера» с квалификацией 01 «Художественное проектирование интерьера». Главной учебной дисциплиной новых направлений является архитектурно-дизайнерское проектирование. В данном обзоре подводятся итоги проектирования 2004-2007 годов - рассматриваются наиболее интересные работы студентов младших курсов.
Далекие от художественного проектирования люди полагают, что в вузе будущих архитекторов и дизайнеров учат рисовать, чертить, макетировать, компоновать элементы композиции, моделировать формы, создавать планировку, то есть таким навыкам, которые позволят воплотить интересные, оригинальные идеи. Но идеи не берутся «из ничего», тем более такие, за которые хорошо платят амбициозные заказчики. Студента надо учить выдавать идеи, и это, пожалуй, самое трудное в учебном процессе. Для продуцирования идей технических и художественных навыков недостаточно.
Еще одно распространенное мнение заключается в том, что данные специальности относятся к разряду «творческих». В градостроительстве, архитектуре, дизайне далеко не всегда требуется творческий подход в его истинном понимании. Например, распространенный повсеместно «архитектурный дизайн» - это проектирование по каталогам, исключающее творческое начало. В обыденном понимании творчеством называют оригинальное решение нестандартной задачи, переживаемое человеком как акт созидания. Автор специального исследования В. Л. Глазычев1 считает, что творчество - это создание нового, культурно значимого, это ценное нововведение, привнесение инновации. В отличие от творчества мастерство - это ремесленный профессионализм. «Нет такого вида деятельности, - пишет указанный автор, - где не происходило бы создания нового и ценного, но нет и такого, где создание нового было бы единственным содержанием.
Подавляющий массив процедур той деятельности, которую принято именовать творческой, составляет профессионализм как таковой, т. е. ремесло. Но творчество ли это? Совершенно не обязательно - ни в архитектуре, ни в технике, ни в поэзии <...> Творчество не лучше и не хуже по сравнению с мастерством, в котором нет ни грана творческого начала. Оно другое. В строгом смысле слова творчество - это чрезвычайная редкость. Владение мастерством - норма профессионализма, тогда как творчество непременно взрывает действующую норму профессионализма и уже потому культура может себе его «позволить» в весьма ограниченных дозах»2.
В. Л. Глазычев начинает рассматривать проектную деятельность с фундамента архитектурного творчества - с умения, под которым понимается совокупность приемов и средств, приводящих к успеху при соблюдении правильной последовательности3. Высший уровень умения - это мастерство, идеальная норма умения (под нормой понимается стиль или художественная система, например, ордерная классика).
Если В. Л. Глазычев сужает творчество до актов создания уникального, то автор известного учебника проектирования Б. Г. Бархин трактует его расширенно4. Он связывает творческое мышление архитектора с эвристикой - работой в необычных ситуациях, когда существует неполная информация, когда прошлый опыт не содержит готовой схемы действий. Б. Г. Бархин подчеркивает роль установок в творческом процессе - сознательных ограничений области поиска решения (в учебном проектировании ограничения устанавливает педагог, например, в форме личных стилистических предпочтений). Нам представляется, что, несмотря на исключительность этой формы деятельности, творческое начало необходимо в вузе культивировать.
Во-вторых, будущему архитектору требуется широкий кругозор. Студента нужно информировать о самых разнообразных жизненных явлениях, освобождая от подросткового сознания и бытовых стереотипов. В-третьих, необходимо прививать проектное мировоззрение. Архитектор работает над профессиональным продуктом - проектом, имея в виду иную, более значимую, цель - трансформацию и совершенствование реального пространства. К старшим курсам у студента должен сложиться профессиональный взгляд на мир, точнее, на архитектурное пространство, в котором предстоит работать проектировщику.
Б. Г. Бархин пишет, что в развитии творческого мышления велика роль воображения, фантазии, интуиции5. К этому можно добавить необходимость абстрактного мышление - образного, символического, метафорического, ассоциативного. Для расширения творческого мышления проектировщика бесценным кладезем является культура XX века. Отбросившее мимесис искусство предложило в качестве объекта отвлеченные понятия. Несмотря на их «абстрактность», современное искусство вот уже столетие будоражит общественное сознание. Студенту пригодится и опыт актуального, экспериментального искусства, ибо оно подмечает самые острые жизненные конфликты, выражает их суть в непривычно новой форме.
Неотъемлемым элементом проектной деятельности является архитектурное знание. Два-три десятилетия назад преподаватели советовали студенту больше читать профессиональной литературы. Большого выбора тогда не было: внимательно изучали лишь французский «^architecture dTaujourdrhui» и польский «Project», полностью игнорируя советские издания. Сегодня архитектурных книг и, особенно, журналов великое множество. Они соревнуются в подаче самого интересного, эффектного материала. Между тем творческой молодежи необходимо не просто отслеживать публикации архитектурно-дизайнерских новинок, ей необходимо развивать визуальную культуру, потому что в удалении от столиц с их перенасыщенной средой испытывается визуальный голод.
Сегодня визуальная среда стала доминирующим видом чувственного восприятия. Увеличилась зрительная восприимчивость людей. На особенности зрительного восприятия влияют бешенный ритм жизни, скорости перемещения в пространстве. Психофизиологи говорят о новой способности зрения, появившейся в связи с развитием аудиовизуальных средств - кино, телевидения, видео, компьютера, интернета, рекламы, дизайна. В основе большинства коммуникационных систем лежат зрительные образы. Их количество растет лавинообразно. Студент должен быть готов к мощному потоку визуальных впечатлений. Задача педагога - побороть зрительную неграмотность, научить читать этот язык, черпать из этого источника вдохновение. Кроме того, необходимо вы- работать критическое отношение к визуальным образам: часто они противоречат сути предмета (например, в рекламе).
Архитектурная среда Саранска остается небогатой, в столице Мордовии нет того разнообразия старой и новой застройки, архитектурных стилей, какое есть в любом историческом городе-миллионнике. После сноса исторических зданий Саранск стал представлять город, выстроенный индустриальными методами во второй половине XX века на свободной территории. В целом предметная среда небольшого города визуально бедная. Телевидение с полусотней каналов первым готово ее восполнить. Телевидение ругают за разгул фривольности, культ насилия и политическую трескотню. Между тем программы о странах, городах, памятниках культуры, религиозных святынях, загадках истории, современной архитектуре и дизайне - это зрелище, до которого далеко традиционному изобразительному искусству и иллюстрированным книгам.
С первого дня пребывания в вузе студент начинает работать с композицией, с архитектурно-дизайнерской формой. В последнее десятилетие в отечественной архитектуре доминирует традиционализм. Предпочтение отдается региональному, национальному, стремлению выразить дух места. Главным методом стал контекстуализм - подчинение архитектуры сложившемуся пространству, местному стилю, а также интересам заказчика - городской власти и горожан. Стилистически это выразилось в эклектике - более или менее искусной стилизации, но нередко и в грубой подделке. Складывающаяся архитектурная эстетика базируется на огромных возможностях строительных конструкций и материалов, отсутствии идеологических табу и цензурных ограничений, на композиционной вседозволенности. Либерализация строительных норм сократила рамки и запреты, типовые проекты отныне не обязательны, а стилистические нормы просто отсутствуют. Композиционная раскрепощенность, свобода формообразования являются для студентов «нормой», которая ввиду своей неопределенности может завести неопытного проектировщика в тупик.
Таковы основные проблемы, которые предстоит решать в учебном процессе кафедре архитектурного проектирования и дизайна. Перейдем к обзору студенческих проектов. На младших курсах выполняются два проекта в семестр. Полтора месяца идет эс-кизирование и три дня сплошное проектирование. Публичная защита и разбор проектов профессионалами проходит не менее интересно, чем само проектирование. Выполненная вручную графика и макет (или компьютерная модель) должны продемонстрировать практические навыки студента.
Ежегодно студенты выполняют проект частной рекреационной архитектуры. Он включает односемейный домик для загородного отдыха; детально прорабатывается веранда как важная часть дачного домика; также проектируется дачный поселок на 15-20 домов. Условием проектирования является создание интересного пространства, оригинальные композиционные находки, работа с объемной формой. Среди наиболее удачных проектов 2005 года можно назвать проекты Насти Варнавиной (дом-ракушка), Ивана Ивкина и Олега Фомина (дом-яхта), Ольги Шалаевой (дом-самолет), Оли Зуевой (дом -машина для отдыха). В целом студенты предложили среду для отдыха в достаточно традиционных формах. Проекты 2006 года кардинально отличались от предыдущих, по сути, авторы проигнорировали главную тему - создание пространства для физического и душевного отдыха. Отдых может быть активным, однако загородная рекреация превратилась из места отдыха в пространство для испытания человеческих возможностей. Моделирование экстремальных состояний повлекло за собой композиционный крен в острый формализм. Алина Артаева предложила домик в форме птицы с длинной шеей-лестницей (нечто подобное требуется, вероятно, альпинистам для тренировок). Оля Пив-цаева запроектировала веранду в форме крокодила, пришедшего на водопой, и домик со сферой, в центре которой размещен санузел (вспомнился фильм Луиса Бунюэля, где респектабельные господа собираются на вечеринку в общественной уборной вместо гостиной). Проект Светы Яшиной фактически стал вариацией на тему дальневосточной хижины, приюта странника, поднимающегося к горному монастырю. Ее здание минималистской архитектуры, оборудованное электроникой, крепится вокруг скалы, поднимающейся над водой.
В феврале 2006 года перед студентами была поставлена непростая задача: выполнить реконструкцию Республиканского молодежного центра. Главная сложность заклю- чалась в том, что старое двухэтажное здание МРМЦ расположено в промзоне напротив проходной Механического завода. Вдоль главного фасада проходит теплотрасса. Знакомство с захламленным, дегуманизированным местом слегка ужаснуло, напомнило первые строки романа Максима Горького «Мать», где описывается черная толпа пролетариев, по гудку вылезающих из заводской проходной. Когда первые эмоции остыли, оказалось, что невзрачное строение можно композиционно трансформировать, а неуклюжую теплотрассу изобретательно обыграть.
Среди проектов можно выделить несколько удачных вариантов. Проект, выполненный первой бригадой (Антон Кононенко, Иван Ивкин, Олег Фомин) - наиболее реальный и профессионально проработанный. За основу были взяты асимметричные формы советского конструктивизма. После их переработки получилась композиция, органично вписывающаяся в промышленную среду. Вторая бригада (Настя Варнавина, Ольга Шалаева, Лена Цветкова, Лариса Чепелева, Оля Ботина) предложила расширить внутреннее пространство куполом, в интерьере протянуть символический мостик и установить динамичную «Фигурину» Эля Лисицкого. Третья бригада (Оля Зуева, Женя Гога, Дмитрий Дубровин, Дмитрий Якунин) в качестве центра композиции установила высокий металлический парус с прожектором, а стены облицевала металлическими пластинами с яркой «пиксельной» покраской. Авторы четвертого проекта (Ира Боброва, Динара Абдюшева, Саша Колганова) дальше всех отошли от образа молодежного клуба, но получили наиболее интригующий вариант. Они попытались соединить хай-тек с готикой, вставив между зданием и теплотрассой металлические контрфорсы. Готическими элементами украшен также интерьер.
Директор МРМЦ Дмитрий Соловьев поначалу отнесся к идее реконструкции скептически: «Когда студенты стали мерить и фотографировать наше здание, я не мог представить, что получится что-то интересное. Защита проектов показала, что на архитектурностроительном факультете учатся талантливые ребята. Выполненные ими работы заставляют нас по-новому взглянуть на свое здание, и, может быть, изменить отношение к нему, свое поведение в нем. Для второго курса это очень высокий уровень». К словам уважаемого заказчика добавим, что Молодежному центру в Промышленном проезде не место. Здание, реконструированное по нашим проектам, можно продать рокерам или байкерам, а современный Дворец молодежи - большой и красивый выстроить в городском центре.
В апреле 2006 года студенты Мордовского университета выполнили эскизный проект реконструкции типографии «Красный Октябрь». Она оказалась в эпицентре строительства Свято-Федоровского собора и как промышленный объект должна быть вынесена за пределы жилой зоны. Новый типографский комплекс уже возводится, а от старого уцелел лишь трехэтажный каркасно-панельный цех, который будет перепрофилирован. Творческая интеллигенция нашего города настойчиво требует передать цех Республиканскому центру современного искусства. Здесь можно разместить выставочные и концертные залы, художественное училище, творческие союзы, мастерские, клубы и кафе, словом, создать Дом творчества, открытый для самых разных направлений художественной деятельности. Такие центры существуют во многих крупных городах, но в Саранске ни одна попытка создать нечто подобное пока не увенчалась успехом.
Наши студенты взялись решить эту проблему с архитектурной точки зрения. Во время ее обсуждения были сформулированы различные творческие подходы. Главной задачей стало безусловное подчинение арт-центра новому городскому символу - величественному кафедральному собору. Главный православный храм республики выстроен в честь святого адмирала Федора Ушакова на перекрестке улиц Советской и Большевистской, который вскоре станет Соборной площадью. Это самое высокое здание города (центральный купол с крестом возносится на 54 м). На верхнем ярусе собора размещена обзорная площадка, откуда видны главные достопримечательности городского центра. Архитектура собора воплощает стиль державной власти: это высокий классицизм с неорусскими мотивами, созвучный русской архитектуре середины XIX века. Скульптурный памятник Ушакову установлен на бульваре севернее собора.
Как реконструировать экстерьер цеха, каким может стать архитектурный облик арт-центра? В любом случае экстерьер должен «рассказать» о том, что находится внутри. Во-первых, здание композиционно можно решить как единый объем, выполненный, например, в классическом стиле. Недостаток такого решения заключается в том, что палаццо или периптер ассоциируется с музеем или театром, в то время как в арт-цен-тре будут собраны самые разные организации, объединения и мастерские. Во-вторых, объем можно разбить на части и получить живописный «городок». Внутри такого «хоромного строения» будет все - от «избы» гончара-ремесленника до колонного зала со сценой для симфонического оркестра. Более того, экстерьер может стать контрастным коллажем архитектурных форм, в котором классический ордер из камня может наложиться на существующие панельные стены и перейти в стеклянно-металлический хай-тек.
Наиболее спорным стал вариант в стиле «loft». Эта художественное поветрие сегодня в большом почете на Западе, пришло оно и в наши мегаполисы. Родился «loft» в подвально-чердачном мире западной богемы, которая осваивала бесхозные, заброшенные пространства, руины индустриального мира. Любование брутальным техническим наследием, ничем не приукрашенной правдой современной жизни и составляет суть этой антиэстетики. В качестве декора дизайнерами используются проржавевший металл, грубая каменная кладка, открытые металлические конструкции и коммуникации вдоль стен и потолков - фермы, балки, трубы, провода. Во многих голливудских кинофильмах сцены насилия происходят в гигантских заброшенных цехах. На Западе «1оА:»-студии в модных районах стоят дороже пентхаусов. Немало появилось в бывших цехах и художественных галерей, где выставляется актуальное искусство. Вернемся, однако, в наш «Красный Октябрь». Он буквально нашпигован трубами, балками, воздухозаборниками, вентиляционными коробами, наверняка, типография оставит здесь допотопные станки и устаревшее оборудование. Весь этот «heavy metal» с успехом можно использовать в дизайнерском решении, но... наши люди до такого юмора не доросли. В провинции даже кабинеты офисов оклеиваются мещанскими обоями. Обыватель, в том числе занимающийся искусством, убежден, что в месте, где он творит, все должно быть богато украшено. Что поделаешь: у нас всерьез и надолго воцарился культ псеводбуржуазности.
После краткого обмена мнениями студенты выполнили эскизные проекты. Назовем наиболее удачные работы. Проекты Ивана Ивкина и Иры Бобровой (АСФ) напоминают экспрессионизм 1920-х годов. Их обтекаемые формы эффектно откликаются на силовые линии пространства, но за счет обильного остекления образ арт-центра получился излишне стерильным и холодным. Проект Оли Ботиной (АСФ) - классический портик, обращенный на собор. При таком варианте северная часть площади получает почти симметричное решение: портик арт-центра напротив трехчастного неоклассического фасада офиса «ВолгаТелеком», между ними - скульптура Ушакова. Недостаток этого решения - портик ассоциируется со старым академическим театром, а не с кипящим как улей домом творчества. Антон Сокольников (ФЭТ) предложил сугубо дизайнерское решение. Арт-центр в его смелой интерпретации - это ковчег, причаливший между собором и Иоанно-Богословской церковью и поднимающий на свой борт всю художественную братию. Недостаток данного варианта в игнорировании градостроительного контекста: объем самодостаточен, он никак не реагирует на присутствие собора, на конфигурацию площади и сквера севернее типографии.
И другими студентами было предложено немало оригинальных идей. Например, 95метровые фасады здания можно закрыть, а на собор и Иоанно-Богословскую церковь обратить два торцевых зеркальных фасада. Они отразят храмы, один - древний, построенный в 1693 году (самая старая постройка города), второй - новейший (он освящен в августе 2006 года). В некоторых работах обыгрывается главный фасад, выходящий на Соборную площадь, предлагается его застекление для того, чтобы с трех этажей открылся великолепный вид на собор и памятник Ушакову. В одном из вариантов предлагается плоскую крышу протяженного здания сделать эксплуатируемой. Ее габариты 95х25 м, она разбивается на зоны: выставочную, детскую, кафе, здесь можно посадить деревья -и все это будет хорошо просматриваться с плоской крыши собора.
Таковы студенческие проекты, а какова реальность? Известно, что город застраивается по воле заказчика - городской власти, которая, как правило, игнорирует инициативные проекты, не вписывающиеся в ее планы. Скорее всего, в здании типографии будет открыт гипермаркет, потому что торговля приносит городу большие доходы, а перепла- нировка цеха в торговые секции больших затрат не составит. Супермагазин между двумя храмами - таким станет городской центр в ближайшем будущем. Найдется ли место культуре в этом специфическом соседстве?
Два года назад Николай Петрович Макаркин, посетив только что открывшуюся кафедру архитектурного проектирования и дизайна, спросил: а не могут ли ваши студенты делать проекты для последующего воплощения? Составить бы из лучших студенческих работ каталог и предлагать заказчикам? Первой реакцией на предложение ректора был протест: конечно, нет! Проекты ведь учебные. Студенты только учатся проектировать, а строят совсем по другим проектам. Заказчикам и строителям нужны рабочие чертежи, которые могут сделать лишь опытные специалисты. Настоящие проекты проходят многочисленные согласования, разрешающие инстанции и т. д. Кто-то скажет: сделать «рабоч-ку» малоопытный студент не в состоянии, но не отягощенный рутиной молодой человек может предложить свежие, оригинальные идеи, которые профессионал доведет «до ума». Дело, однако, заключается в том, что мы учим студента не только технологии проектирования. В первую очередь мы учим продуцировать нестандартные идеи. Для этого желательно усвоить шестилетний вузовский курс. Одним словом, студент к реальному проектированию пока не готов. Или все-таки готов?
В последние годы в Западной Европе проходят студенческие конкурсы, на которые представляют не только проекты, но и реализованные постройки. Причем они находятся в авангарде самых смелых творческих поисков. Например, в прошлом году студенты из Испании представили жилой дом, оснащенный солнечными батареями. В основе западной подготовки архитектора и дизайнера лежит прагматика. Его не обременяют такими «излишествами», как академический рисунок или этика. Поэтому уже на старших курсах он готов к профессиональной работе. У нас же ввиду технической отсталости перемешались две системы подготовки. Первая система, существовавшая еще в конце XIX века, готовила архитектора как художника-инженера широкого профиля. Вторая система, родившаяся в 1980-е годы на Западе, готовит архитекторов узкой специализации, всецело ориентированных на компьютерное проектирование.
Между тем дипломный проект, выполненный с целью последующего внедрения, не является новостью. «Реальное проектирование - это была моя идея, - вспоминает бывший декан строительного факультета Сергей Левков. - В необходимости реального проектирования я убедил ректора Григория Яковлевича Меркушкина. Мы поехали в министерство высшего и среднего специального образования. Обсуждали эту проблему вчетвером: министр, Меркушкин, ректор Московского строительного института и я. Начинаю излагать суть вопроса: реальное проектирование заключается в том, что мы даем наиболее подготовленным студентам тему, которая пойдет в производство, и проект будет использован на строительстве. Я имею большой опыт в этом деле и уверен в успехе. Меркушкин говорит, что Мордовский университет просит разрешить реальное проектирование, каким будет мнение министра? Министр отвечает: «Ни в коем случае! Мы и в Москве-то не можем найти такие темы для проектов». Я разъяснил, что у нас положение совсем иное, в саранских проектных институтах работают наши же ученики, почти все студенты-вечерники работают в проектных организациях. Министр подумал, и в порядке исключения нам разрешили. Реальное проектирование получило у нас большое распространение, были разработаны проекты для университета. Мы выполнили проект восстановления усадьбы Огарева в селе Старое Акшино - с раскопками, сбором материалов, опросом старожилов. Сделали проект реставрации Спасо-Преображенского монастыря под Краснослободском, проект биологической станции в Большеберезни-ковском районе на Суре и многое другое. Затем распространили тематику на памятники архитектуры: обмерили более 30 церквей, создали на них документацию (тогда же ничего не было), сделали макеты».
Реальное проектирование практиковалось не только в Мордовском университете. В каждом архитектурно-строительном вузе ежегодно несколько дипломных проектов, выполненных выпускниками специальности «Промышленное и гражданское строительство», получало гриф «реальный проект, внедренный проект». К сожалению, в 19801990-е годы, когда здравые идеи лицемерно подменялись очковтирательством, «реальные проекты» превращались в фикцию. В действительности большая их часть выполнялась в проектных институтах, а затем присваивалась нечестным студентом. Порочная практика сложилась по всей стране, не прекратилась она и сегодня. Например, в 2004 году на региональном конкурсе дипломных проектов в Нижегородском архитектурностроительном университете первое место занял проект реконструкции старинного местного ресторана, в котором любил гулять Шаляпин. Отличный проект. Над ним явно поработали профессионалы, наверное, целый отдел проектной фирмы, а функции студентов свелись, вероятно, к чисто техническим (обмеры старых построек, фотографирование, макетирование, вычерчивание).
Изживет ли эту фикцию эпоха всеобщей коммерциализации? Наступит ли время, когда студент архитектурно-строительных специальностей станет выполнять реальные проекты и получать за это деньги? В крупных городах эта проблема решена. Например, студент Московского архитектурного института после занятий вполне может заработать до тысячи долларов в месяц. Не мудрено, что за последние годы образ жизни студентов-архитекторов изменился. Двадцать лет назад они в свободное время безвозмездно помогали старшекурсникам на «сплошняках» или (наиболее продвинутые) делали «бумажные проекты» для международных конкурсов. Сегодня правильный студент - это тот, кто, сдав на «отлично» зачеты и экзамены, спешит на хорошо оплачиваемую работу.
В 2006 году архитектурно-строительный факультет получил грант Госкомитета по делам молодежи за студенческие проекты реконструкции Республиканского молодежного центра. Также мы получили премию за проект Республиканской доски почета. 70 тыс. руб. за 4 карандашных эскиза - это неплохо! Даже первокурсники могут выполнять несложные разделы реального проекта, помогая профессионалам. Наши студенты делали макеты Национального театра, построенного в 2007 году, и завода мобильных газовых систем, который заложен в нижегородских Починках. Зимой 2007 года студенты выполнили макет жилого района в пойме реки Тавла, который проектирует архитектор Владимир Годунов для всероссийского конкурса инвестиционных проектов. Эта работа «без отрыва от учебы», по сути, является хорошей проектной практикой. В планах помощь архитектору Сергею Нежданову, который выполняет проект реконструкции Пайгар-мского монастыря. Администрация Саранска просит включить в учебную программу такие темы, как праздничное архитектурно-художественное оформление города и ряд городских объектов, обещая утвердить премиальный фонд. Когда мы поручаем своим студентам заказные работы, то преследуем не только коммерческую цель. Главное, чтобы ребята стали профессионалами. Чтобы, проявляя свою фантазию, они не витали «в облаках», а могли решать реальные проблемы.
Одной из таких проблем стало восстановление утраченной сакральной среды Саранска. Сто лет назад в городе было множество православных церквей и часовен. В советскую эпоху наш город лишился большинства святынь. Сегодня город украшен кафедральным собором, строятся приходские церкви. В 2000 году Святейший Патриарх Алексий Второй во время своего пастырского визита освятил замечательно красивую часовню Александра Невского. Ее проект выполнил архитектор Владимир Бабаков, доцент кафедры архитектурного проектирования. К сожалению, многие недавно выстроенные часовни далеки от совершенства, например, Спасская, поставленная на месте снесенного в 1930 году кафедрального собора. В марте 2007 года студенты архитектурной специальности проектировали часовни. Некоторые из них могли бы стать украшением, как Саранска, так и других мест.
Начнем с университетской часовни, ибо разговоры об открытии вузовского храма ведутся давно. Перенимая московскую традицию, студенты решили посвятить часовню Мордовского университета великомученице Татьяне. Для установки часовни выбрали два места - в сквере по ул. Полежаева между зданиями Института физики и химии (проект Наташи Солдатовой) и в центре университетского квартала, где в 2008 году после постройки Института национальной культуры образуется небольшая площадь (проект Стаса Авдюшкина). Одна из этих белокаменных часовен может стать центром притяжения камерного пространства, которое ныне является не слишком обустроенным пустырем. В Татьянин день на площадке рядом с часовней можно развернуть многолюдный студенческий ритуал. Основной же наплыв посетителей ожидается здесь в январе и июне.
Не менее значимым в городском центре местом является сквер у комплекса МВД по ул. Коммунистической. Здесь высится стела, посвященная памяти погибших сотруд- ников республиканской милиции. Нами были представлены два варианта часовни - во имя Георгия Победоносца (Люда Стручкова) и Димитрия Солунского (Света Яшина). Оба варианта выполнены в монументальных неоклассических формах, соответствующих духу героики и жертвенности. Двухъярусная часовня Димитрия Солунского привлекает своими мужественными, четкими формами, объединенными дисциплинирующими вертикалями. Красно-белый объем завершен шпилем-клинком.
Как известно, развивающийся город быстро меняется, и многие важные для горожан объекты по разным причинам исчезают. Память об утраченном можно сохранить с помощью архитектурных символов. Наши студенты запроектировали часовни на месте снесенных в 1930-е годы городских кладбищ - по ул. Васенко у школы № 17 (здесь стояла Тихвинская кладбищенская церковь) и по ул. Кирова на Нижнем рынке (где находилась Константиновская кладбищенская церковь). Тихвинская часовня запроектирована Олей Пивцаевой в нетрадиционных экспрессивных формах и увенчана каркасной главкой в знак того, что в 1930-е годы старый храм был варварски разрушен. Кроме того, молодые авторы предлагают поставить часовни на двух существующих кладбищах -Старом у телецентра и в пос. им. Гагарина, у Республиканской клинической больницы, на родниках Девятая Пятница и в Луховке, в аэропорту, в Зеленой роще, где происходят военно-спортивные состязания «Весенние ристания». Часовни могут быть не только капитальными, но и временными постройками. Предлагается, например, Крещенская часовня, которая изготавливается в январе изо льда вместе с иорданью для водосвящения на реке Инсар возле моста, построенного в 1912 году.
Студенты выполнили проекты часовен и за пределами нашего города: в селе Лада на месте снесенной церкви (изящная работа Вали Беляковой), в Краснослободске на территории районной больницы (где до 1920-х годов находился Успенский женский монастырь). Среди иногородних часовен оригинальностью выделяется проект Наташи Самариной. Будучи прошлым летом на практике в Казани, она заинтересовалась находящимся неподалеку островом Свияжск, архитектурные древности которого взяты под охрану ЮНЕСКО. Наташа предлагает построить плавучую деревянную часовню во имя святого Христофора - покровителя путешествующих по воде (кстати, редкое изображение этого святого сохранилось в свияжском Успенском соборе). Предыстория Свияжска удивительна: он был основан как форпост для взятия Казани русским войском в 1551 году. В угличских лесах заготовили срубы, их сплавили по Волге к устью Свияги, где скоростным методом была собрана крепость. Автор проекта предлагает повторить ритуал основания легендарного города: срубить часовню в Угличе и на катамаране спустить ее к Свияжску. Плавучая часовня может совершать крестный ход вокруг острова, причаливать к монастырям, расположенным по берегам Волги и Свияги, служить «мобильным ритуальным объектом» в день речника и при открытии навигации, а также выполнять роль «ладьи Харона», перевозящей усопшего островитянина на кладбище, расположенное на материке.
При обсуждении студенческих проектов прозвучала мысль, что церковное строительство у нас возродилось, но архитекторы, вдохновляясь историческими прототипами, пользуются старыми формами, зачастую ходульными. И наши студенты брали для своих работ композиции, испытанные временем. Несколько учебных проектов сделаны так профессионально, что их вполне можно воплотить. Но даже из самого глубокого источника нельзя черпать бесконечно. Возникает опасность стилизаторства, нетворческого подхода, отказа от самостоятельного поиска образного решения. Найти место для строительства храма нетрудно, гораздо труднее с помощью архитектуры придать ему возвышенный, одухотворенный образ, соответствующий и великой христианской традиции и XXI веку.
Это был обзор наиболее примечательных работ студентов младших курсов. С четвертого курса перед студентом ставятся более сложные проектные задачи - функциональные, пространственные, композиционные, стилистические. Задача младших курсов - познакомить с профессией, войти в ее суть. Цель старших - воспитать профессионала.
Наша высшая школа всегда находилась в авангарде художественных поисков. Пионеры формообразования одновременно являлись крупнейшими педагогами, создававшими школы и художественные направления. В скором времени обновление художе- ственного языка архитектуры встанет в повестку дня: период стилизаторства и эклектики проходит, потребуются новые формы. Наивно уповать на появление оригинальной художественной концепции в провинциальном вузе вместе с первым набором студентов. Так же может быть оценена и попытка переноса «самого прогрессивного» на слабо возделанную культурную почву. Не призывая к эстетической революции «в местном масштабе», подумаем, как решить эту проблему, чтобы не плестись в хвосте профессионального образования.
Главное - опора на тысячелетнюю традицию отечественного зодчества и вдумчивый анализ отечественной архитектуры прошлого века, особенно советской архитектуры 1920-1950-х годов. Русский модернизм и неоклассика породили колоссальное количество идей, многие из которых до сих пор не реализованы. На наш взгляд, продолжить национальную традицию можно лишь одним путем - для этого не следует воссоздавать хрестоматийные стереотипы и в который раз воскрешать узнаваемые внешние формы. Украшательство в национальном духе давно признано кичем. Можно соединить русскую ордерную классику и советский авангард 1910-1930-х годов, избежав стилизаций на средневековые темы, на чем паразитировала эклектика XIX века. Возьмем курс на поиск новой национальной архитектуры. Основное условие: необходимо развивать традиционное пространственное мышление, только на этой основе можно создать композиционную модель архитектуры ближайшего будущего. Творческий поиск молодых архитекторов продолжается...
Список литературы Введение в архитектурную профессию
- Глазычев В. Л. Эволюция творчества в архитектуре/В. Л. Глазычев. М., 1986.
- Бархин Б. Г. Методика архитектурного проектирования/Б. Г. Бархин. М., 1982.