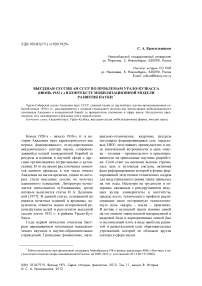Выездная сессия АН СССР по проблемам Урало-Кузбасса (июнь 1932 г.) в контексте мобилизационной модели развития науки
Автор: Красильников Сергей Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 8 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Урало-Сибирская сессия Академии наук СССР, ставшая одним из крупнейших научно-организационным событий начала 1930-х гг., рассматривается с позиций социального подхода как демонстрация мобилизационного потенциала Академии в конкурентной борьбе за приоритетное положение в сфере науки. Исследуются пред-посылки, ход, ожидавшиесяиреальные итогиданнойсессии.
Академия наук, урало-кузбасс, выезднаясессия, мобилизационные формы, имиджи науки
Короткий адрес: https://sciup.org/14737930
IDR: 14737930 | УДК: 930.85(571)
Текст научной статьи Выездная сессия АН СССР по проблемам Урало-Кузбасса (июнь 1932 г.) в контексте мобилизационной модели развития науки
Конец 1920-х – начало 1930-х гг. в истории Академии наук характеризуются как период форсированного огосударствления академического сектора науки, сопровождавшийся острой конкурентной борьбой за ресурсы и влияние в научной сфере с другими организациями (отраслевыми и вузовскими). В то же время ряд ключевых моментов данного процесса, в том числе ответы Академии на вызов времени, одним из которых стали выездные сессии, не получил адекватного освещения. Литература исчисляется несколькими публикациями, среди которых выделяется статья Н. А. Дедюши-ной [1977]. В данной статье, основанной на анализе печатных изданий и архивных документов, ставится задача исторической реконструкции целей и результатов выездной сессии летом 1932 г. в районы Урало-Куз-басса.
Годы первой пятилетки отмечены быстрым наращиванием потенциала неакадемических научных и научно-образовательных учреждений. Громадные финансовые, мате- риально-технические, кадровые ресурсы поглощала формировавшаяся сеть отраслевых НИУ, получавших преимущество в виде изначальной встроенности в цепь «наука – техника – производство» и ориентированности на прикладные научные разработки. Свой ответ на внешние вызовы стремилась дать и вузовская система, активная фаза реформирования которой в форме форсированной подготовки технических кадров для индустриального рывка также пришлась на эти годы. Несмотря на трудности и издержки, связанные с разукрупнением ведущих вузов, университеты и институты, прежде всего, технического профиля реализовывали свою отстроенную технологическую цепь «кадры – наука – практика». В активе у вузовской науки помимо самой на тот момент значительной материальной и кадровой базы и корпоративных связей был и несомненный плюс в виде наиболее развитой и разветвленной сети образовательных учреждений, которой не обладали другие сектора в сфере науки.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (соглашение № 14.В37.21.0960).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 8: История © С. А. Красильников, 2012
Руководство АН СССР, стремившееся не оказаться в положении догоняющего, шло по пути реализации своих собственных конкурентных преимуществ. Не обладая столь мощными материально-финансовыми вливаниями, которые направлялись в отраслевую / прикладную сферу, или преимущественно сконцентрированными в вузах научно-педагогическими кадрами (НПК), академическая элита пошла весьма прагматичным путем, комбинируя все имеющиеся возможности для обозначения и подтверждения своего особого положения в иерархии научных учреждений. Академия претендовала на роль высшего и самого авторитетного экспертного органа, а также единственного органа, способного работать на перспективу. Несомненным активом АН СССР в конкуренции за ресурсы была поли-дисциплинарность Академии, позволявшая позиционировать себя как учреждение комплексного типа. Поскольку статус академической корпорации требовал большей интеграции с политическими и хозяйственными корпорациями, то на решение этой задачи активно работали факторы пополнения Всесоюзной Академии после 1928 г. высокопоставленными, хотя и переходившими во «второй эшелон» политиками (Г. М. Кржижановский, Н. И. Бухарин, А. В. Луначарский, Н. П. Горбунов, М. Н. Покровский и др.), и такими знаковыми для технико-экономической модернизации страны учеными, как металлурги И. П. Бардин, А. А. Байков, энергетик И. Г. Александров, А. В. Винтер и др.
Вставшей на путь ускоренной интеграции в политико-экономическую мобилизационную систему Академии наук необходимо было принять и другие правила своего нового институционального существования – обеспечить своим действиям адекватное идеолого-пропагандистское сопровождение и обеспечение. Стандартными пропагандистскими акциями типа создания новых общественных организаций – например, Всесоюзной ассоциации работников науки и техники для содействия социалистическому строительству (ВАРНИТСО) или выпуска журналов под названиями «Фронт науки и техники», «Социалистическая реконструкция и наука» (СОРЕНА) – обойтись оказывалось трудно, требовались поиски новых каналов формирования позитивного образа Академии. Таковую функцию и призваны были сыграть оперативно организованные и проведенные акции «смычки» науки с производством, практикой в форме выездных, именовавшихся в документах самой Академии как чрезвычайные, сессий АН СССР. Пик их пришелся на год (июнь 1931 – июнь 1932 г.), на протяжении которого руководство Академии организовало три такого рода демонстрационные акции.
Первой и «ударной» во всех отношениях стала сессия, организованная и проведенная в Москве и области (21–24 июня 1931 г.). Накануне и во время самой сессии в «Известиях» публиковались призванные привлечь внимание к данной акции статьи В. П. Волгина, А. В. Луначарского, Г. М. Кржижановского 1. Роль последнего в реализации программ выездных сессий следует считать одной из ключевых. Будучи на тот момент вице-президентом Академии наук, он символизировал соединение в одном лице политика и ученого, привносящего в академическую науку новые принципы планирования и сближения с техникой и производством. Девиз «смычки науки и труда» реализовывался путем выезда ученых на предприятия Москвы и городов области (Орехово-Зуево, Коломна и др.) 2.
Вторая выездная сессия АН работала в Ленинграде с посещением предприятий города и области 25–30 ноября 1931 г. Будучи посвященной развитию производительных сил региона, программа работы сессии, с учетом новых реалий работы Академии, рассматривалась предварительно на заседании фракции академиков-коммунистов за месяц до ее проведения. Формат сессии воспроизводил московский опыт, ее лейтмотивом были слова академика А. П. Карпинского при открытии заседаний о связи науки и производства («Мы будем работать вместе»). Помимо собственно научной сессии ученые выступили с докладами на крупных предприятиях, где собравшаяся аудитория в совокупности, по оценкам организаторов, достигла 50 тыс. чел. [Кольцов, 1982. С. 241].
Урало-Кузбасская выездная сессия Академии, продлившаяся две недели и проходившая на Урале (4–9 июня) и в Западной Сибири (12–18 июня 1932 г.), несла в себе основные черты и признаки модели, сформированной двумя «столичными» сессиями, однако имела и очевидные черты сверхординарности. Никогда ранее, да и позднее, вплоть до эвакуации руководства и учреждений АН СССР в Поволжье и на Урал в годы Отечественной войны, не было аналогов подобной акции с участием крупнейших ученых страны в масштабных и многоплановых мероприятиях вне центрального региона. Достаточно отметить, что в поездке участвовало персонально все тогдашнее руководство Академии и за небольшими исключениями действительные члены и члены-корреспонденты (всего более 70 чел.).
Для руководства Академии «восточная сессия» 1932 г. имела принципиальное значение как демонстрация новых возможностей обновленной и динамично развивающейся академической науки. Для этого Урало-Кузбасс как приоритетный территориально-производственный комплекс первой пятилетки подходил как нельзя кстати. В переговорном поле, проводившемся руководством АН с региональными органами, присутствовала общность интересов и позиций по ряду ключевых вопросов (устойчивость присутствия Академии на Урале и в Сибири в виде сети стационарных учреждений – филиалов, баз; экспедиционное и консультационное сопровождение развития региональных производств и т. д.). «Выход на регион» отвечал общей стратегии развития Академии, и в рамках ее реализации уже были сделаны конкретные шаги: с весны 1930 г. в соответствии с решением Общего собрания АН начала действовать постоянная комиссия по изучению региона во главе с академиком А. Е. Ферсманом, получившая название «Сибирской», а несколько позднее, с организацией Совета по изучению производительных сил страны (СОПС) в его составе была сформирована структура, получившая название Урало-Сибирской секции. Развернулась деятельность академических экспедиций, получивших мощное по тогдашним меркам целевое финансирование от ВСНХ СССР: в 1931–1932 гг. почти 2/ 3 экспедиционных средств Академии были направлены на работы в зоне Урало-Куз-басса [Дедюшина, 1977. С. 192].
В научном сопровождении проблем Ура-ло-Кузбасса Академия искала свою приоритетную позицию. Базовый принцип заключался в том, чтобы не дублировать работу отраслевых НИУ, а проводить исследования комплексного, междисциплинарного характера, которые были не под силу ведомственным институтам, осуществляя, в частности, в области геологии не поисковые и разведочные, а важнейшие геофизические и геохимические исследования. Работы экспедиций АН в Западной Сибири этого периода времени не ограничивались изучением рудного или нерудного сырья для металлургического комбината. В начале 1930-х гг. здесь работали также Кузнецко-Барнаульская почвенная и Южно-Сибирская флористическая экспедиции. Особое место в деятельности Академии отводилось Ку-лундинской комплексной экспедиции по изучению соляных озер, в состав которой входили химики, геологи, гидрологи, микробиологи [Николаев, 1977].
Руководство Академии активно прорабатывало и вопрос о стационировании сети своих учреждений в восточных регионах. В октябре – декабре 1931 г. при АН были сформированы оргкомитеты по созданию баз / филиалов на Урале (Свердловск) и в Западной Сибири (Новосибирск). Но если «уральский проект» оказался подкреплен статусной фигурой выдающегося геолога А. Е. Ферсмана, давшего в начале 1932 г. в специальном письме на имя секретаря Уральского обкома ВКП(б) И. Д. Кабакова согласие на переезд на Урал в роли руководителя филиала, а региональные организации при поддержке крупных отраслевых промышленных предприятий изыскали 1,2 млн руб. на начальное финансирование филиала [Рубежи…, 2002. С. 34], то «западносибирский проект» «завис».
Первоначально динамика организационных решений позволяла надеяться на успех. Семнадцатого сентября 1931 г. в структуре Запсибкрайисполкома был впервые создан полномочный орган (Ученый комитет), координировавший деятельность региональных научных учреждений и осуществлявший связи с внерегиональными, академическими и отраслевыми НИУ, работавшими в Западной Сибири [Культурное строительство…, 1977. С. 276–278]. Это позволяло региональному руководству располагать в разработке планов научного освоения края спе- циальным аппаратом, готовившим предложения в данной области. Девятого января 1932 г. председатель крайисполкома Ф. П. Гря-динский официально обратился к руководству Академии с предложением провести в Новосибирске в феврале расширенное совещание с участием представителей Академии, Ленинградского университета с региональными научными учреждениями по координации планов НИР всех заинтересованных сторон на 1932 г. Приоритетным считался вопрос организации «комплексной базы Академии наук в Новосибирске» 3.
В начале февраля в Новосибирск из Ленинграда выехала специальная делегация Академии, которую возглавил член Оргкомитета, профессор В. А. Зеленко. Последний был далеко не рядовой фигурой в научной иерархии: занимая должность ученого секретаря форсированно развивавшегося СОПСа, он пользовался репутацией успешного переговорщика в общении с «отраслевиками» и «регионалами» при отстаивании интересов Академии в получении ресурсов на научные работы, экспедиционную деятельность, в особенности. Делегация ехала в Новосибирск с деловой, конструктивной программой действий. В ее задачу входило выяснение разноуровневых вопросов – начиная от проблемы финансирования и кончая прагматическими аспектами (размещение и снабжение могущих приехать в филиал из Ленинграда уже в течение 1932 г. 20 человек, включая аспирантов). Что касается стационарной сети, то, по мнению ученых, в течение 1932 г. предполагалось открыть: геофизический институт в Новосибирске со станциями в Горной Шории и на Алтае и рядом сейсмологических пунктов в Кузбассе; соляную станцию в Кулунде; станцию по изучению Севера в Томске; Абаканскую комплексную станцию. Первые шаги для этого в Ленинграде уже были сделаны – делегация везла переданные ей от групп ученых проекты и сметы по организации упомянутых выше, а также геохимических, ботанических и биологических учреждений будущего филиала.
В ходе переговоров делегации АН с представителями краевых органов была достигнута договоренность о том, что в 1932 г. начинается организация Кулундин- ской, Абаканской и геохимических станций. Что касается финансовой стороны, то по тем предварительным сметам, которые были подготовлены в Ленинграде, организационный этап развертывания филиала требовал в 1932 г. суммы приблизительно в 1 млн руб. Источники покрытия виделись таковыми: 600 тыс. из средств госбюджета целевым образом; по 250 тыс. из краевого бюджета и средств краевых хозорганов4.
Дальнейшие события показали осторожность позиций договаривающихся сторон в их готовности обеспечить финансирование мероприятий в запланированном объеме. Так, 27 февраля 1932 г. Президиум ЗСКиК принял решение об ассигновании из местного бюджета на развертывание филиала 150 тыс. руб., т. е. обеспечить две трети своего долевого участия. В свою очередь, 14 марта Президиум АН, проанализировав ситуацию вокруг филиала (выводы делегации), согласился включить в текущие планы АН организацию Кулундинской и Абаканской станций (организацию геохимических станций было сочтено необходимым отложить). Ввиду сложности вопроса со средствами (уже неясен был исход обращения в Москву о целевом финансировании из госбюджета) решение было принято осторожное: с одной стороны, «предложить Комиссии по базам составить проект договора с ЗСКиК, в котором предусмотреть точные сроки ассигнований»; с другой стороны, «вопрос об организации в Новосибирске отделения Академии наук при данных условиях оставить открытым...» 5. Двадцать девятого марта вице-президент АН СССР академик В. Л. Комаров в официальном обращении в крайисполком обозначил позицию руководства Академии так: «…вопрос об организации у Вас базы Академии наук остается открытым до получения от Вас сообщения о точной суммы финансирования базы, а также о Вашем согласии на проведение в жизнь представленных Вам нашей делегацией проектов организации учреждений базы» 6.
Тогда, в 1932 г., осторожный оптимизм ученых и краевых руководителей отчасти, и не без оснований, «подогревался» фактом проведения в июне 1932 г. в Свердловске и в Новосибирске выездной сессии АН, посвященной проблеме УКК. Сессия должна была стать пространством интенсивного взаимодействия трех заинтересованных сторон («академики», «регионалы», «отраслевики») в укреплении научного присутствия ученых в восточных регионах. В принятой сессией резолюции подчеркивалась необходимость «приступить в ближайшем будущем к организации филиала АН в Новосибирске», было одобрено ранее принятое решение об открытии в ближайшем будущем Кулундинской и Абаканской научноисследовательских станций [Проблемы…, С. 592].
Однако в действительности реализованным оказался только один из пунктов программы, да и то в «усеченном» виде. В 1932 г. в составе комплексной Кулундин-ской экспедиции СОПС АН была создана научно-исследовательская станция в Слав-городе (и ряд филиалов в районе соляных озер Кулунды) со смешанным ее финансированием из региональных средств и НКТП 7.
Какие же реальные цели и интересы, помимо продвижения стационарных учреждений на периферию, преследовала академическая элита, организуя научный «выездной десант» в восточные регионы? Выездная модель имела прагматичную подоплеку, реализуемую в трех аспектах – пропагандистско-политическом (демонстрационном), консультативном (выезды на производство) и профессиональном. Первые два взаимосвязанных между собой аспекта призваны формировать социальный и информационный контекст данной акции, или ее общедоступный для восприятия массового сознания формат. Реальные и содержательные моменты проявляли себя в процессе научного обсуждения актуальных проблем регионального развития на пленарных и секционных заседаниях сессии. В первом случае реализовывался в значительной степени инициируемый самими учеными публичный образ передовой отечественной науки, ставший в случае с феноменом выездных сессий 1931–1932 гг. даже самодостаточным явлением. Процессы же собственно внутри-научной, профессиональной рефлексии ока- зывались в известной мере подчинены логике формирования образа передовой науки.
«Вестник Академии наук СССР», посвятивший подготовке, проведению и предварительным итогам Урало-Кузбасской выездной сессии центральное место в четырех номерах (№ 6–9) за 1932 г., содержит важную по своей значимости информацию о том симбиозе демонстрационных (имиджевых) и собственно научных задач, которые решало академическое руководство, организуя данную сессию. Это – соединение документов (повестки сессии, итоговая резолюция), нарративов (впечатлений участников) и статей о сессии официальных деятелей Академии (А. П. Карпинского, В. Л. Комарова, В. П. Волгина и др.).
Блок «сессионных» материалов, помещенных в главном академическом издании – «Вестнике Академии наук» (ВАН), открывался публикацией ученого секретаря СОПС профессора В. А. Зеленко. В ней обосновывалось видение места Академии в новых условиях: участвовать под руководством компартии в социалистическом строительстве и осуществлять «всю свою работу под контролем советской общественности»; выездная сессия есть новая форма «смычки», «взаимного смотра» («Академия наук и строители социализма будут рапортовать друг другу о своих достижениях, нуждах, потребностях, трудностях») 8. Новая реальность предусматривала для Академии освоения правила двойного контроля над ее профессиональной деятельностью – партийного и общественного. И если партийный контроль действовал уже несколько лет, начиная с 1928 г., то руководству Академии предстояло теперь выработать технологию «широкого общения с массами». Выездные сессии являлись для АН тем самым полем «инициативного общения», формат которого включал отработку оптимальной модели взаимодействия двух субъектов интересов (академическая и региональные элиты) с привлечением искусственно структурированной «общественности».
Опубликованные в «Вестнике» и «Трудах» сессии тексты речей и приветствий официальных лиц имели весьма схожий формат «директивной пафосности». Выступления вице-президентов Академии В. Л. Ко- марова, Г. М. Кржижановского и непременного секретаря В. П. Волгина были политически взвешенными и существенно не отличались от публичных лозунговых стереотипов, которыми с ними обменивались встречавшие их региональные руководители. Вот типичное митинговое обращение Комарова к встречавшим ученых на вокзале в Свердловске 3 июня 1932 г.: «Под руководством Коммунистической партии, во главе с мировым вождем пролетариата т. Сталиным, при единении науки и труда мы осуществим великие задачи построения социализма» 9. Немногим отличался ответ Комарова на приветствие культармейцев 17 июня в Новосибирске: «Мы – одно целое в Советской стране… Академия наук, товарищи, находится под руководством той же партии, которая руководит и мировым пролетариатом, у нас один вождь, одни газеты» [Проблемы…, 1933. С. 573].
Г. М. Кржижановский, будучи более опытным партийным оратором, призывал присутствующих на открытии сессии в Новосибирске 12 июня 1932 г. к мобилизационной консолидации во «фронтовом формате»: «Объединенными усилиями с вами, работниками мест, мы создадим могучий фронт, который покажет всему миру, что великие задачи, стоящие перед нами во второй пятилетке, на этот раз подкреплены не только героическим энтузиазмом трудящихся, не только великим руководством закаленной в боях ленинской партии, но они уже подкреплены и мощным фронтом науки и техники» [Там же. С. 1].
Процитированный фрагмент примечателен также и массированным использованием терминов и словосочетаний в превосходной степени, присущих подобного рода речам («могучий фронт», «героический энтузиазм» и т. д.). Так, на неполную страницу текста своего выступления Кржижановский употребил 12 такого рода речевых оборотов. Выступавший следом за ним с приветствием от местной элиты председатель крайисполкома Ф. П. Грядинский принял «эстафету», использовав в своем двухстраничном изложенном тексте 21 пафосное выражение («великие задачи», огромнейшие богатства», «колоссальные запасы» и т. д.) [Там же. С. 2–3].
Наиболее емкий и квалифицированный обзор выездной сессии дан вице-президентом Академии В. Л. Комаровым 10. В обзоре сессия представлена как сложнейшая, ресурсозатратная и потребовавшая от всех вовлеченных в нее участников громадного напряжения сил мобилизационная кампания. Подготовительный период, длившийся до полугода, потребовал тщательного согласования формата сессии и нахождения средств на ее проведение (затраты легли на региональные бюджеты). Разрабатывались и аккумулировались региональные «обращения» к Академии «общественных, хозяйственных и научно-технических организаций» Урала и Западной Сибири с указанием перечня практических тем, нуждающихся в научном обеспечении. Сама сибирская часть сессии имела столь плотную насыщенность митинговыми, профессиональными и смотровыми (экскурсионно-консультационными) мероприятиями, что время для отдыха (помимо кратковременного сна) выпадало только на период переездов из города в город. Восьмидневное пребывание в Сибири (делегация прибыла в Новосибирск в 18 часов 11 июня и отбыла в такое же время 18 июня) включала в себя «конвейерные» разноплановые мероприятия, тщательно организационно и сценарно проработанные с заранее определенным форматом выступавших, лимитированным временем на их проведение, ежедневными утренними заседаниями оргкомитета и отчетными выступлениями руководителей секций и бригад по завершении научных или выездных в другие сибирские города акций. Самыми трудоемкими оказались выездные мероприятия бригад ученых, посетивших Сталинск, Кемерово, Прокопьевск, Томск, Омск (своего рода мини-сессии внутри «большой» сессии). Их работа также включала в себя комбинацию трех типов мероприятий (митинговых, научных и смотровых), разную для конкретных городов: в Томске и Омске приоритет отдавался научным мероприятиям, заседаниям с местными учеными, в других городах преобладал экскурсионно-консультационный компонент. На это отводилось почти три дня (бригады выехали из Новосибирска 14 июня и вернулись 16 июня ко второй половине дня).
В выездах присутствовал и элемент экстремальности (делегация в Кемерово летала на двух аэропланах; посещение кузбасских городов сопровождалось спуском и осмотром местных шахт). Торжественные заседания в формате сессий городских советов с «товарищескими чаями» с местными активистами в сочетании с профессиональными обсуждениями с региональными научнопреподавательскими кадрами и консультациями с производственниками требовали от ученых предельной самоотдачи. В. Л. Комаров, в частности, отмечал: «Выезды в совхозы и на заводы Сельмаша потребовали много времени, так что члены бригады во время пребывания в Омске почти не спали… Академик Осинский даже остался в Сталинске еще на сутки, т. к. пожелал углубить свои знания о сталинском строительстве» 11. В обзорной статье о работе химической секции выездной сессии М. А. Клочко писал: «Время, проведенное химиками в Новосибирске, было заполнено все без остатка. Даже в день отъезда (18 июня) на устроенном для участников сессии пароходном гулянии по Оби химики умудрились созвать в самой большой каюте совещание с представителями Наркомтяжпрома по вопросу о дальнейшей научно-исследовательской работе по Кулунде» 12.
Казалось бы, высказанное мимоходом замечание М. А. Клочко отразило реальную коллизию, оставшуюся в тени публичной стороны сессии. Если рассматривать структуру организации сессии в формате ее трех-компонентности (митинговой, профессиональной и смотровой), то время, отведенное на профессиональные научные и научнопроизводственные заседания и обсуждения, занимало не более половины всего сессионного времени. Это объективно ущемляло и заведомо снижало эффективность обсуждения и решения главных задач целевого научно-практического характера. На установление взаимодействия и согласования интересов регионального руководства, ведомственных / отраслевых структур с академическими учеными не хватало времени, выражением чего стало вынужденное «пароходное совещание» химиков АН с представителями ведомств уже за рамками завершившейся сессии.
Между тем противоречия и конфликты интересов разных сторон, безусловно, имели место. На упоминавшемся выше совещании, как писал Клочко, «выявилась безотрадная картина продвижения научных работ в производство. Деньги, ассигнованные местами на научные работы, в центре перераспределяются часто при игнорировании нужд того или иного объекта строительства. Отсутствует контакт между научно-исследовательскими учреждениями, работающими по Кулундинской проблеме… Совещание не совсем одобрило метод распределения кредитов, принятый в академическом Совете производительных сил 13.
Стенограмма заседаний геологической секции (Новосибирск, 13 июня 1932 г.) зафиксировала внутрикорпоративный конфликт двух групп геологов. Одна из них была представлена ленинградским профессором П. И. Лебедевым, делавшим секционный доклад по результатам Алтайско-Кузнецкой геохимической экспедиции, проведенной летом 1931 г. СОПСом на средства геологического ведомства. По его мнению, первые результаты камеральных исследований позволяли внести «значительные изменения» в сложившиеся представления о типе генезиса железорудных месторождений Горной Шории [Проблемы…, 1933. С. 180–181]. В свою очередь, выступивший в прениях по докладу лидер томской школы геологов профессор М. А. Усов поставил под сомнение сам подход и исследовательские методы Лебедева [Там же. С. 211]. В ответном слове Лебедев заявил: «Произнесенная с “большим подъемом” речь М. А. Усова была продумана и составлена, по-видимому, до того, как был заслушан мой доклад. Должен откровенно и по-товарищески сказать, что здесь готовилось определенное наступление сибирских геологов». Впрочем, он далее самокритично признал, что своим докладом не мог «претендовать на значительное дополнение выводов, сделанных в результате десятков лет работы по изучению Сибири». Сказанное позволило Усову погасить конфликт дипломатической фразой, что «мы относимся к нашим гостям с полной признательностью» [Проблемы…, 1933. С. 213, 215, 218].
Этот, как будто бы частный, случай высвечивал проблему о принципах взаимодействия в новых условиях АН с другими науч- ными учреждениями. В центральном пункте постановления по итогам работы выездной сессии ставилась задача «тщательного изучения тех наказов и встречных планов, которые были выдвинуты рабочими и научными учреждениями УКК» и признавалось необходимым отобрать из их числа те, которые «могут быть выполнены силами самой Академии», передав остальные «на разрешение в другие научно-исследовательские учреждения Союза» [Там же. С. 592]. Осознание той ответственности, которую вынуждена была принять на себя Академия, инициировав выездную сессию в районы Урала и Западной Сибири, привело академика В. П. Волгина в итоговой статье, подводившей работы сессии, к тезису о том, что комплексное научное сопровождение проблем УКК ставит вопрос не только о собственной глубокой структурной реорганизации, но и о возможном включении в состав Академии крупных отраслевых институтов 14.
Итоги работы выездной сессии следует оценивать в контексте действия двух тенденций – краткосрочного и долговременного характера. Ряд текущих решений не требовал серьезных временных и ресурсных затрат (двухтомник трудов сессии увидел свет в течение года; созданная через полгода комиссия по координации НИР для нужд комбината, проработав недолгое время, была прагматично трансформирована в Совет Урало-Сибирской секции СОПСа; в течение еще двух лет осуществлялась интенсивная экспедиционная деятельность в данных регионах). Сложнее оказалось реализовать перспективные направления (отделение технических наук (ОТН) конституировалось только в конце 1935 г.; академический филиал в Западной Сибири был создан десять лет спустя). В то же время мобилизационные технологии научной деятельности, апробированные в ходе сессии (выездные бригады ученых в промышленные центры и оперативные консультации производственникам), оказались востребованы и широко применялись в годы Отечественной войны в практике работ Комиссии по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны страны. Сама же «восточная» выездная сессия АН 1932 г. вошла в историю как символ действий науки нового типа, оставив в тени присущие ей мобилизационные принципы (экстраординарность, интенсивность, ресурсозатрат-ность, массовидность).
THE OFF-SITE SESSION OF THE ACADEMY OF SCIENCE OF THE USSR DEVOTED TO PROBLEMS OF THE URALS-KUZBASS (JUNE, 1932) IN THE CONTEXT OF MOBILIZATION MODEL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE