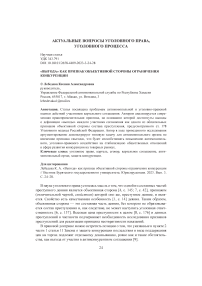Выгода как признак объективной стороны ограничения конкуренции
Автор: Лебедева К.А.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence
Рубрика: Актуальные вопросы уголовного права, уголовного процесса
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам антимонопольной и уголовно-правовой оценки действий участников картельного соглашения. Автором анализируется современная правоприменительная практика, на основании которой достигнуты выводы о дефиниции «выгоды» каждого участника соглашения как одного из обязательных признаков объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 178 Уголовного кодекса Российской Федерации. Автор в ходе проведенного исследования аргументированно демонстрирует типовую задачу для антимонопольного органа по вменению признака «выгода», что будет способствовать повышению антимонопольного, уголовно-правового воздействия на стабилизацию общественных отношений в сфере развития конкуренции на товарных рынках.
Уголовное право, картель, сговор, картельное соглашение, антимонопольный орган, защита конкуренции
Короткий адрес: https://sciup.org/148327716
IDR: 148327716 | УДК: 343.791 | DOI: 10.18101/2658-4409-2023-3-24-28
Текст научной статьи Выгода как признак объективной стороны ограничения конкуренции
Лебедева К. А. «Выгода» как признак объективной стороны ограничения конкуренции // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2023. Вып. 3. С. 24–28.
В науке уголовного права устоялась мысль о том, что одной из составных частей преступного деяния является объективная сторона [4, с. 145; 7, с. 42], признаком (отличительной чертой, свойством ) которой оно же, преступное деяние, и является. Свойство есть качественная особенность [1, с. 14] деяния. Таким образом, объективная сторона — это составная часть деяния, без которого не образовывается состав преступления и, как следствие, не может наступить уголовная ответственность [6, с. 137]. Высокая цена преступности в целом [8, с. 176] и данных преступлений в частности подчеркивает необходимость исследования признаков преступлений для реализации принципа неотвратимости наказаний.
В правовой доктрине можно встретить позиции о том, что указанные в пункте 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции последствия в виде поддержания цен на торгах подлежат отдельному доказыванию, ровно как и такие обстоятельства, как выгода от участия в антиконкурентном соглашении [9].
К. А. Лебедева. «Выгода» как признак объективной стороны ограничения конкуренции
С учетом того, что норма, закрепленная в ст. 178 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ), бланкетная, она отсылает нас к Закону о защите конкуренции, в котором заложены фундаментальные положения, нарушив которые лицо может стать субъектом преступления. Для этого он должен в том числе выполнить объективную сторону состава преступления. И в этом составном сегменте на практике возникают сложности.
Наряду с другими признаками картельного сговора «выгода», на наш взгляд, заслуживает наибольшего внимания для исследования, поскольку от ее наличия или отсутствия порой зависит судьба антимонопольного противодействия как одного из структурных элементов криминологического противодействия криминальным проявлениям ограничения конкуренции [5, с. 213].
Так, по мнению антимонопольного органа, в случае, когда антимонопольный орган доказал, что хозяйствующие субъекты-конкуренты заключили соглашение, целью которого было поддержание цен на торгах, возможность его квалификации по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции не ставится в зависимость от результатов торгов, обусловленных в том числе действиями других лиц, не участвующих в антиконкурентном соглашении.
Диспозиция части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции является альтернативной, поскольку в качестве квалифицирующего признака антиконкурентного соглашения названная норма предусматривает как реальную возможность, так и угрозу наступления последствий, предусмотренных в пунктах 1–5 данной нормы. Таким образом, Законом о защите конкуренции запрещены соглашения, участники которого ставят своей целью ограничение конкуренции в виде последствий, указанных в статье 11 закона вне зависимости от того, какой результат достигается.
Такой вывод был подтвержден определением Верховного суда Российской Федерации: «...при установлении наличия картельного соглашения подлежит доказыванию факт того, что участники картеля являются конкурентами на товарном рынке и достигнутые между ними договоренности имеют предмет, определенный в пунктах 1–5 части 1 статьи 11 Закона. Наличие конкурентных отношений между участниками картеля подтверждается результатами проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке. Ограничение конкуренции картелем в случаях, упомянутых в пунктах 1–5 части 1 статьи 11 Закона, в силу закона пред-полагает1 так называемое правило perse (от лат. — сами по себе), предусматривает изначальную незаконность действий субъекта, которая не зависит от последствий таких действий [3, с. 109]. То есть это то, что не требует доказательств, а существует априори.
Вместе с тем можно встретить выводы о недоказанности антимонопольным органом выгоды в действиях каждого из участников картельного соглашения.
По нашему мнению, понятие «выгода» применимо для картеля в целом, а не для каждого из его участников отдельно (отсутствие факта заключения контрактов с конкретным лицом соглашения не снимает с иных лиц (участников соглашения) вины по участию в антиконкурентном соглашении в пользу других членов картеля), участники картеля действуют во благо достижение общей цели и выгоды.
Указанное толкование постановления № 2 пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» нашло отражение в практике рассмотрения судами споров о картелях: «Законом о защите конкуренции запрещены соглашения, участники которого ставят своей целью достижение последствий, указанных в статье 11 Закона, при этом вывод по вопросу о таком соглашении не мог предопределяться... доказыванием той или иной выгоды заявителей от участия в антиконкурентном соглашении...»1.
Однако нам представляется, что суды, высказывая позицию относительно необходимости доказывания антимонопольным органом «выгоды» в действиях участников соглашения, закладывали следующий смысл. Антимонопольному органу необходимо установить, а затем и описать в своем решении сведения, свидетельствующие о заинтересованности участников сговора в антиконкурентном поведении на рынке.
Такими сведениями могут быть как имущественные отношения (корысть в чистом виде) между сторонами, так и «иная личная заинтересованность». К последним ученые относят следующие категории: «власть», «блага», «социальные связи (взаимоотношения)», «статус», «карьера (служба)», «закон», «санкции (наказание)», «личность (направленность личности)» [2, с. 301] и другие.
Здесь в связи с вышесказанным уместно озвучить задачу для антимонопольных органов. В тех случаях, когда на практике антимонопольному органу участники антиконкурентного соглашения дают свои пояснения: «...нас попросили поучаствовать в торгах и побеждать в таких торгах они не планировали», объективно нет оснований вменить признак «выгода». Но если антимонопольный орган найдет, а затем и отразит в своем решении сведения, выражающие внешнее проявление «выгоды», раскроет внутреннюю характеристику свойств «выгоды», то в такой ситуации судам будет с фундаментальной точки зрения более решительнее принимать позицию антимонопольного органа.
Положительная наработка в установлении в антиконкурентном «картельном» соглашении «выгоды» у участников такого соглашения будет свидетельствовать о наличии признаков объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ. Без «выгоды» не будет признака объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, а следовательно, не может в дальнейшем идти речь об антимонопольном, уголовно-правовом воздействии на стабилизацию общественных отношений в сфере развития конкуренции на товарных рынках.
Список литературы Выгода как признак объективной стороны ограничения конкуренции
- Векленко С. В., Семченков И. П. Критический анализ "объективной стороны" как элемента состава преступления и предварительные итоги серии статей // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2022. № 4(70). С. 14-18. Текст: непосредственный.
- Воронова Ю. В., Пряхина А. Б. Интерпретация понятий "иная личная заинтересованность" и "ложное понимание интересов службы" через призму объективного восприятия субъектами следственной деятельности. 2019. № 5. С. 299-302. Текст: непосредственный.
- Козлова М. Ю. Принцип правовой определенности (на примере Антимонопольного законодательства) // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 5. Юриспруденция. 2011. № 2(15). С. 108-112. Текст: непосредственный.
- Лебедев А. С. К вопросу об объекте подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сборник материалов XII Международной научно-практической конференции (19-20 февраля 2009 г.): в 2 частях. Красноярск: Изд-во СибЮИ МВД России, 2009. Ч. 1. С.145-148. Текст: непосредственный. EDN: RKUQLD
- Лебедев А. С. Криминологические средства воздействия на деликты // Актуальные проблемы современного законодательства: сборник статей участников VII Всероссийской межвузовской научно-практической конференции. Москва, 2022. С. 212-215. Текст: непосредственный. EDN: XLCSZY
- Лебедев А. С. Момент окончания преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ // Проблемы правоохранительной деятельности: международный научно-теоретический журнал / Белгородский юридический институт МВД России. 2011. № 1. С. 136-137. Текст: непосредственный.
- Лебедев А. С. Предмет преступления, связанного с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 УК РФ) // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы международной научно-практической конференции (27-28 ноября 2008 г.). Новокузнецк: Изд-во Кузбас. ин-та ФСИН России, 2009. Ч. IV. С. 42-43. Текст: непосредственный. EDN: IATAFC
- Лебедев А. С. Цена преступлений, предусмотренных статьями 264 и 326 УК РФ // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2022. № 4(49). С. 176-182. Текст: непосредственный.
- Соловьева О. А. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ) - миф или реальность в практике применения (теоретический аспект) // Baikal Research Journal. 2018. Т. 9, № 1. Текст: непосредственный. DOI: 10.17150/2411-6262.2018.9(1).18 EDN: XPFSUH