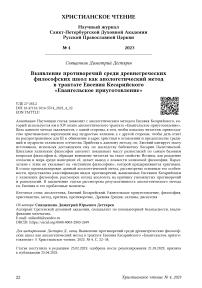Выявление противоречий среди древнегреческих философских школ как апологетический метод в трактате Евсевия Кесарийского «Евангельское приуготовление»
Автор: Дегтярев Димитрий Юрьевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Богословие
Статья в выпуске: 4 (107), 2023 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья знакомит с апологетическим методом Евсевия Кесарийского, который используется им в XIV книге апологетического трактата «Евангельское приуготовление». Цель данного метода заключается, с одной стороны, в том, чтобы показать читателю превосходство христианского вероучения над мудростью эллинов, а с другой стороны, чтобы дать ответ на распространенное для III в. обвинение в адрес христиан в оставлении и предательстве традиций и мудрости эллинского отечества. Прибегая к данному методу, еп. Евсевий цитирует массу источников, используя доставшуюся ему по наследству библиотеку Кесарии Палестинской. Цитатами эллинских философов апологет показывает массу разногласий по самым базовым вопросам философии и, обращая внимание читателя на такое свойство Истины, как рождение согласия и мира среди нашедших её, делает вывод о ложности эллинской философии. Параллельно с этим он указывает на «истинную философию», которой придерживаются христиане. В статье проанализирован данный апологетический метод, рассмотрены основные его особенности, представлена классификация видов противоречий, выявляемых Евсевием Кесарийским у эллинских философов, рассмотрен взгляд апологета на причину упомянутых противоречий и разногласий. В заключение статьи рассмотрена результативность апологетического метода еп. Евсевия и его проблемные моменты.
Апологетика, евсевий кесарийский, евангельское приуготовление, философия, христианство, метод, критика, противоречие, древняя греция, эллины, дискуссия
Короткий адрес: https://sciup.org/140303097
IDR: 140303097 | УДК: 27-285.2 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_4_22
Текст научной статьи Выявление противоречий среди древнегреческих философских школ как апологетический метод в трактате Евсевия Кесарийского «Евангельское приуготовление»
Трактат Евсевия Кесарийского «Евангельское приуготовление» был написан в начале IV в. и предназначен для каждого человека, желающего познакомиться с христианством. Полемике с эллинской философией посвящены главным образом последние шесть книг трактата (X, XI, XII, XIII, XIV, XV книги), которые представляют из себя единый смысловой композиционный блок. В кн. X, XI, XII еп. Евсевий стремится показать в первую очередь согласие между словами библейских пророков и идеями лучших языческих философов начиная с Платона. В кн. XIII, XIV и XV апологет концентрируется на критике эллинских философов. Кроме Платона в этих книгах представлено множество философов речь идет о таких средних платониках, как Нумений, Аттик, Аристокл Мессенский и др. Именно благодаря прямому цитированию Евсевием Кесарийским важные фрагменты трудов этих философов сохранились до наших дней. Среди христианских или языческих авторов, цитирующих «Законы» Платона, Евсевий Кесарийский занимает первое место как по количеству ссылок, так и по интересу к вариантам текста. Например, Климент Александрийский, который также часто обращается к Платону, цитирует его по памяти или проявляет крайнюю вольность с текстом, который он в большей или меньшей степени синтезирует со своими собственными воззрениями. Напротив, Евсевий Кесарийский четко упорядочивает избранные отрывки и скрупулезно цитирует их, что обуславливает ценность его труда.
Критикуя эллинскую философию, Евсевий Кесарийский стремится, с одной стороны, показать читателю превосходство христианского вероучения над мудростью эллинов, а с другой стороны, ответить на выдвигаемое в адрес христиан обвинение в оставлении традиций и мудрости предков-язычников и обосновать правильность выбора христианства. Выстраивая критику против философии, Кесарийский епископ использует различные методы и аргументы. Один из основных его методов, которому он полностью посвящает одну из самых больших книг трактата — кн. XIV, заключается в выявлении противоречий и демонстрации отсутствия согласия эллинских философов по каким-либо основным вопросам в философии. Подобным методом среди раннехристианских апологетов пользовались такие апологеты, как Татиан, Феофил Антиохийский, Ермий Философ и Минуций Феликс1. Однако отличительный подход еп. Евсевия заключается в большом объеме цитирования и использования источников и в большем количестве приведенных противоречий. Евсевий Кесарийский уделяет внимание как каждой заметной и известной философской школе, так и рассмотрению отдельных философских вопросов и идей.
Чтобы выявить и показать упомянутые противоречия с наибольшим эффектом для читателя, еп. Евсевий представляет на страницах трактата борьбу философов между собой как поединок борцов или боксеров2 на арене. Борьба представляется им в качестве заочного словесного поединка, в котором каждый из философов, критикуя других своих коллег, старается опровергнуть чужие идеи касательно самых основных вопросов философии. Евсевий Кесарийский пишет о методе демонстрации споров и противоречий эллинских философов так:
Давайте, например, сразу посмотрим, как, с одной стороны, Платон насмехался (σκώπτω) над самыми ранними философами, которые предшествовали ему, и как другие насмехались уже над друзьями и учениками Платона: и снова, в свою очередь, как ученики Платона критиковали мудрые доктрины плодотворной мысли Аристотеля: и как те, кто хвастался Аристотелем и перипатетической школой, доказывали, что взгляды тех, кто предпочитал противоположную философскую школу, были чепухой. Вы также увидите, как разумные и изощренные тонкости учения стоиков высмеиваются в свою очередь иными философами, и как [абсолютно] все философы со всех сторон борются против своих собратьев и наиболее храбро вступают в битву и борьбу, так что руками и языком, или, скорее, пером и чернилами, они строят военные ограждения друг против друга, нанося, так сказать, удары, и при этом сами будучи поражены копьями и различным оружием этой многословной войны. И в этой борьбе спортсменов3 на нашей арене будут, в дополнение к уже упомянутым, люди, лишенные всякой истины, которые в этом противостоянии взялись за оружие против одинаково всех философов-догматиков; я имею в виду пирронистов, которые заявили, что в мире людей нет ничего постижимого; и тех, кто сказал вместе с Аристиппом, что чувства были единственными объектами восприятия, а затем тех, кто вместе с Метродором и Протагором сказал, что мы должны верить только ощущениям тела. Против них мы противопоставим школы Ксенофана и Парменида, которые встали на противоположную сторону и полностью пренебрегли чувствами. Не будем пропускать мимо и борцов за [чувственное] удовольствие, и включим их лидера Эпикура в число уже упомянутых. Но против всех одинаково мы будем использовать их же собственное оружие, чтобы изложить их опровержение. Также из всех так называемых натурфилософов я вытащу на свет как противоречия их философии, так и тщетность их усердных исследований; однако здесь я выступаю вовсе не как ненавистник эллинов или разума, отнюдь нет, но для того, чтобы устранить все основания для клеветнических обвинений [против христиан] в том, что будто бы мы предпочли еврейских пророков лишь из-за того, что пророки были плохо знакомы с эллинской мудростью (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление, 1983, 260–261. XIV. II. 2–7).
Епископ Евсевий на страницах книги выступает в качестве комментатора этого зрелищного поединка, а читатель, и особенно читатель-язычник, который привык и ценит такого рода развлечения, выступает в роли зрителя. Евсевий Кесарийский комментирует около половины цитируемых им источников, но сам при этом в кн. XIV открыто не занимает чью-либо позицию в спорах эллинских философов. В других книгах, посвященных критике эллинской философии, где используются другие методы, апологет уже не занимает столь нейтральную позицию и высказывается как о согласии с мнениями некоторых философов, выражая при этом порой признание авторитета таких философов, как Платон, Сократ, Аристотель, так и заочно дискутирует по поводу некоторых вопросов, которых касались философы. В кн. XIV нейтральная позиция занимается автором с целью показать, что христиане, приняв Божественную Истину, стоят выше всяких человеческих споров. Этим апологет старается уменьшить в глазах читателя авторитет человеческих измышлений философов в сравнении с ценностью Божественного Откровения: «Но когда я сравниваю их со священными писателями и пророками евреев и с Богом, который через них предсказывал грядущие события и демонстрировал удивительные произведения, более того, заложил основы обучения религиозному учению и истинным доктринам, я больше не думаю, что кто-то должен с полным основанием обвинять нас в том, что мы предпочитаем Бога вместо людей, а саму истину вместо человеческих рассуждений и догадок» (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуго-товление, 1983, 259. XIV. I. 3).
Сравнивая философов с олимпийскими спортсменами, еп. Евсевий обращает внимание на то, что победители постоянно сменяют друг друга на пьедестале в этом соревновании. Появившись на исторической арене, очередная новая философская школа проходит определенный путь развития, в течение которого имеет шанс, критикуя другие философские школы, вырваться в фавориты среди них, подобно спортсмену на соревнованиях. Таким образом соревнуясь друг с другом в философских спорах, эти школы сменяют друг друга подобно чемпионам, которые меняются почти каждую олимпиаду. И как среди всех чемпионов олимпиад нет «вечного» победителя, так и среди философских школ нет той, которая бы нашла вечную Истину. И хотя философы верят, что смогут найти через философию и науку эту Истину, еп. Евсевий показывает читателю в контексте выявления противоречий взглядов философов, почему это невозможно.
Демонстрация противоречий и споров между эллинскими философами в кн. XIV «Евангельского приуготовления» строится на цитировании аргументов философов друг против друга. Евсевий Кесарийский ограничивается цитированием одного-двух сочинений против каждой заявленной им философской школы и показывает их разобщенность по самым базовым и общим вопросам, на которые старалось ответить большинство философских школ. Заканчивая приводить цитаты философов по какой-либо теме, еп. Евсевий нередко дает свой комментарий, обращая внимание читателя на бессмысленность описываемых споров и бесплодность философских идей, которые постоянно опровергаются или оспариваются следующим поколением философов. Однако апологет комментирует далеко не все приведенные им противоречия философов, и порой после цитирования молча переходит к следующему вопросу, оставляя читателю поле для самостоятельного размышления над показанной глубиной противоречий в эллинской философии. По поводу этой особенности современный исследователь апологетики Аарон П. Джонсон отмечает, что еп. Евсевий «раскрывается как „крайне нерегулярный“ автор, который „мало склонен исследовать или основательно обосновывать идеи, истинность и обоснованность которых он про-возглашает“ [Bounoure, 1982, 438]; вместо этого Евсевий создал „мозаику, которой не хватает красноречия“» [Johnson, 2006, 117]. При этом сам Кесарийский епископ неоднократно обращает внимание читателя на то, что в трактате представлена лишь небольшая выборка аргументов эллинских философов друг против друга относительно всей их совокупности.
Хотя еп. Евсевий в трактате никак не классифицирует противоречия и дискуссионные вопросы и рассматривает их по отдельности, однако саму постановку им проблемы можно разделить на несколько видов: во-первых, еп. Евсевий показывает противоречия внутри одной философской школы или течения; во-вторых, демонстрирует разногласия между ближайшими учениками и учителями; в-третьих, показывает дискуссии между разными философскими школами; и, в-четвертых, им затронута тема противоречий, которые возникали у одного и того же философа в его собственной философской концепции или взглядах.
В первом случае, для выявления противоречий внутри определенных философских школ и течений, апологет использует цитаты из сочинения псевдо-Плутарха «Мнения философов»4. В них он демонстрирует отличающиеся друг от друга философские идеи Эмпедокла, Демокрита, Гераклита, Анаксимена, Анаксимандра, Анаксагора5 о первооснове мира — архэ. При этом еп. Евсевий делает следующий вывод: «Так велик диссонанс первых натурфилософов: таково также их мнение относительно первопричин, которые предполагают, как они думали, отсутствие в первопричинах Бога, Создателя, Творца, ни какой-либо другой [духовной] причины вселенной, ни богов, ни бестелесных сил, ни разумных существ, ни разумных сущностей, ни вообще чего-либо, недоступного чувствам» (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление, 1983, 298. XIV. XIV. 7). При выявлении противоречий в этом вопросе разумного творения мира и существования Бога, или разума (греч. νούς), еп. Евсевий снова ссылается на Плутарха Херонейского, который сначала показывает противоречия среди таких атеистов, как Анаксагор, Диагор Мелосский, Феодор Киренский и Эвмер Тегейский (Εὐήμερος ὁ Τεγεάτης)6, а после обличает их неверие в разумность первопричины мира. В противовес идеям атеизма Плутархом ставятся философские идеи о разумной первопричине мира и о боге, которых придерживались Фалес, Анаксимандр, Демокрит7, Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель, стоики и эпикурейцы. Кратко описав их противоречия, апологет заключает: «Таковы разногласия и богохульства в отношении Бога у натурфилософов» (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление, 1983, 302. XIV. XVI. 6).
Противоречия и отсутствие согласия в философской среде между ближайшими учителями и их учениками8 еп. Евсевий выявляет на примере р аздоров в Академии
Платона, расхождений взглядов у Платона и Аристотеля и в целом у сократиков. В качестве подтверждения им приводятся выдержки из трудов Нумения Пифагорейца, который в своем трактате «О неверности Академии Платону»9 защищал Платона от критики его учеников и преемников по Академии.
Помимо демонстрации разногласий между учителями-философами и их учениками, еп. Евсевий приводит критику и аргументы различных представителей одних школ против школ других. К примеру, цитируется Аристокл Перипатетик (II в.)10, чья критика обращена против Ксенофана Колофонского11 и Парменида Элейского, которые утверждали, что вещи можно постигать только разумом, а не через чувства. Также Аристокл выступает у еп. Евсевия на страницах трактата с критикой последователей Пиррона, называемых скептиками или эфектиками12, которые заявляли, что истина в принципе непознаваема13. Особое место уделяется критике Аристиппа и гедонистов14, которые считали, что только чувствами мы можем судить о других вещах и что нет иного способа постижения окружающего мира. Цитаты из Аристок-ла также направляются еп. Евсевием и против эпикурейцев15. Уже против софистов, которые также были представителями концепции античного субъективизма, как и скептики16, используются цитаты из диалогов Платона, в которых аргументация направлена против Протагора из Абдеры с софистами и Метродора Хиосского17. В частности, критикуется утверждение Протагора «человек есть мера всех вещей»18 и его античный субъективизм (Платон. Федон, 161 C, 166 C). Также цитатами из диалогов Платона «Театет» (Платон. Театет. 152. D, 179. C) и «Софист» (Платон. Софист. 242. C, 245. E) демонстрируются противоречия натурфилософов Древней Греции, в частности споры о принципах бытия и природе существующих вещей у последователей Протагора, Гераклита, Эмпедокла, Мелисса Самосского и Парменида.
Отдельно еп. Евсевий при помощи выдержек из трактата «О природе» свт. Дионисия Александрийского (II–III вв.)19 критикует атомистов и материалистов. Святитель Дионисий Александрийский, по слову Евсевия Кесарийского, придерживался «христианской философии»20 (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление , 1983, 324, XIV. XXII. 17), а потому еп. Евсевий встраивает критику свт. Дионисия среди критики эллинских философов. Епископ Евсевий не представляет свт. Дионисия, подобно эллинским философам, как борца на арене, в силу того что он уже нашел Истину, так как является «христианским философом» и потому находится как бы вне этой битвы. Руководствуясь текстом Библии, он, аналогично самому еп. Евсевию, критикуя веру материалистов в самозарождение Вселенной и самоорганизацию атомов, показывает противоречия сражающихся философов. Помимо этого, свт. Дионисий против материалистов использует телеологический аргумент21 и указывает на противоречия материализма атомистов с языческой верой их предков-язычников.
Противоречия и несогласованность Кесарийский епископ показывает не только между различными философами и их идеями, но и в философской концепции одного и того же философа. В качестве одной из причин появления этих противоречий еп. Евсевий выделяет страх философа перед толпою, перед наказанием от своих соотечественников за нетрадиционные для языческого эллинистического общества философские идеи. Вследствие этого страха философ вынужден озвучивать противоречащие его философии мысли, чтобы избежать суда и наказания. В связи с этим в «Евангельском приуготовлении» вспоминаются гонения на Сократа, Протагора, Эпикура. На последнего как раз ссылается еп. Евсевий как на пример раздвоенности и противоречий внутри собственной философии. В подтверждение этому апологет снова цитирует свт. Дионисия Александрийского, который заочно обличает Эпикура в страхе перед афинянами. Из-за этого страха Эпикур был вынужден публично исповедовать веру в богов, будучи материалистом-атомистом22. Свт. Дионисий Александрийский выражает непонимание по поводу исповедания Эпикуром веры в богов, ведь его материалистическая философия самодостаточна и в этом не нуждается, а потому философу и его последователям заочно предлагается демонстрировать целостность эпикурейства и материалистического взгляда на мир, не внося в свою философию двоякость и противоречия верой в богов из-за страха. Параллельно с критикой боязни Эпикура и эллинов в гл. XXVII кн. XIV присутствует сравнение языческой мифологии и эпикурейского материализма в контексте нравственных критериев. Это сравнение проводит цитируемый еп. Евсевием свт. Дионисий Александрийский, который приходит к выводу о том, что эпикурейская вера в неделимые атомы пребывает вне нравственных категорий и понятий, а потому исповедование языческой веры намного безнравственнее, чем материализм сам по себе. В остальном аргументы свт. Дионисия Александрийского представляют по большей части анализ идей эпикурейства с точки зрения Священного Писания.
Продолжая развивать проблему гонений эллинских философов соотечественниками-язычниками, еп. Евсевий упоминает гонения на Протагора за атеизм. Здесь апологет обличает эллинов в том, что они сами, не разобравшись в учении Протагора и не проявив должного почтения к философии, выгнали его из полиса. Неоднократно в трактате еп. Евсевий обращает внимание на то, что язычники-эллины обвиняют христиан в неуважении к философам и непонимании их философии, хотя сами, как видно из примера с Протагором, не избежали этой вины. Он пишет: «А что касается Протагора, то сообщается, что его называли атеистом. На самом деле он когда писал о богах, использовал такого рода введение: „О богах я не могу знать, есть ли они, нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию, — и вопрос тёмен, и людская жизнь коротка“ (см.: (Диоген Лаэртский: Протагор, 1979, 375. IX. 51). — свящ. Д. Д.). Этого человека афиняне наказали изгнанием и публично сожгли его книги посреди рыночной площади» (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление, 1983, 315. XIV. XIX. 10). Стоит отметить, что на сегодня неизвестно, насколько точны эти сведения об изгнании Протагора. Рассказ об этом изгнании нередко называют легендой, а «современные исследователи сомневаются в историчности этого сообщения» [Афонасин, 2020, 309], хотя и подтверждают, что Протагор был скорее агностиком в современном смысле этого слова, а не атеистом [Schamp, 1990, 178]. И хотя еп. Евсевий в своем аргументе использует только пример Протагора, на сегодня известны и другие примеры древнегреческих философов, которые были гонимы или презираемы согражданами.
Эллины-язычники критиковали христиан за пренебрежение наукой наравне с философией, потому еп. Евсевий выявляет противоречия и отсутствие согласия в науках, изучение которых было необходимо для каждого философа23. В ответ на это обвинение еп. Евсевий, во-первых, обращает внимание на то, что «астрономия, арифметика, геометрия, музыка пришли к эллинам от варваров» (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление , 1983, 288, XIV. X. 10), во-вторых, указывает на расхождение взглядов на необходимость изучения наук у самих же эллинов. Данное расхождение демонстрируется словами эллинского писателя и историка Ксенофонта24 из «Послания к Эсхину», где он обращает внимание на бесполезность наук25, изучающих природу, в делах научения нравственности и воспитания добродетели26, а также на то, что в крайних случаях увлечения естественными науками можно сойти с ума, как Анаксагор27.
В-третьих, показывая, что наука для философов — это еще один повод поспорить друг с другом, еп. Евсевий демонстрирует споры и противоречия в научных изысканиях среди философов. Один из любопытных примеров — это попытка Ксенофонта опровергнуть утверждение Анаксагора о том, что солнце — это огненный камень. Ксенофонт употребляет несколько аргументов, подвергая в том числе сомнению утверждение, что у солнца вообще есть какой-либо огонь: «Ибо, когда он говорил, что огонь и солнце — одно и то же, он игнорировал тот факт, что, хотя люди легко различают огонь, все же они не могут смотреть на солнце; и когда они подвергаются воздействию солнечного света, их цвет лица темнеет, но не так от огня. Также он не знал, что из растений, которые произрастают из земли, никто не может хорошо расти без солнечного света, в то время как все погибают при нагревании огнем. И говоря, что солнце было огненным камнем, он также не знал об этом факте, что, хотя камень, помещенный в огонь, не светит и не длится долго, солнце все время остается самой яркой из всех вещей» (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление, 1983, 290. XIV. XI. 6).
Критикуя эллинских философов за чрезмерное внимание к наукам, еп. Евсевий смещает акцент важности с знаний о тварном мире на знание о мире духовном. В этом эллинам противопоставляются варвары, которые и уделяли необходимую меру внимания науке, и это им не мешало успешно развивать философию и религию. Епископ Евсевий пишет: «И это покажет также тысячи греков и тысячи варварских рас, из которых первые с помощью вышеупомянутых наук не признавали ни Бога, ни добродетельной жизни, ни вообще ничего превосходного и полезного, в то время как вторые без всех этих наук были выдающимися в религии и философии» (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление, 1983, 288. XIV. X. 11). В целом, выражая свое отношение к науке, еп. Евсевий не призывает отказываться от каких-либо научных дисциплин28 , но словами Ксенофонта призывает каждого овладевать науками настолько, насколько это будет приносить ему действительную пользу, без вреда для добродетели. Кесарийский епископ утверждает, что наука сама по себе не приводит к истинному богопознанию, познанию Божественного замысла о мире или бо-гопочитанию — к этому приводит Сам Бог через Свое Откровение, — и заключает, что без истинной религии наука лишена смысла и истины.
Обозначая еще один дополнительный аргумент в контексте критики противоречий в науке, апологет обращает внимание читателя на эллинскую дихотомию «эллин-варвар». Оппозиция «эллин-варвар» является одной из основных в эллинской культуре. В качестве одной из причин эллинской уверенности в своем превосходстве над варварами еп. Евсевий выделяет убежденность эллинов в том, что будто бы никто не владеет и не занимается науками в столь же высокой степени, как они. Вследствие этого эллинами заключалось, что варвары не имеют сравнительно высокого познания о мире и о замыслах богов о нем. Поэтому, как отмечает еп. Евсевий, варвары для эллинов «не лучше скота»29. Здесь стоит отметить, что чувство собственного превосходства было распространено у эллинов не только в отношении варваров по этническим мотивам или по причине неизучения последними наук и философии, но и внутри собственного этноса — эллины превозносились друг над другом на основании принадлежности к разным философским школам30. Это являлось одной из причин раздоров между ними, на что апологет обращает внимание.
Причину зарождения противоречий у эллинских философов еп. Евсевий видит в «суеверии многобожия»31 (ἡ πολύθεος δεισιδαιμονία), которое с древности уводит от Божественной истины, в отличие от единобожия. Кесарийский епископ, отрицая реальное существование языческих божеств, описываемых в мифах32, утверждает, что по причине оторванности от Божественной Истины эллины-язычники с древности не могли удовлетвориться язычеством, а потому начали искать Истину путем человеческих измышлений, вследствие чего и появилась философия.
Стоит отметить, что в вопросе критики противоречий еп. Евсевий занимает достаточно выдержанную позицию относительно причины их возникновения. Так, к примеру, если, рассуждая над причиной противоречий в «Евангельском приуго-товлении», Кесарийский епископ делает акцент на том, что философия это лишь плод человеческого разума в контексте поиска Истины, то, к примеру, христианский апологет I–II вв. Ермий Философ, изучивший немало философских трудов, прямо заявлял, что «философия берет свое начало от злых ангелов, потому мнения философов абсурдны и противоречат друг другу» [Hermias, 1872, 32]. Также, сравнивая подходы еп. Евсевия и Ермия, можно отметить, что еп. Евсевий старается более рационально подходить к аргументации в своей полемике, чем Ермий, который прямо насмехается над философами: «Излагая разнообразнейшие философские взгляды, Ермий картинно изображает, как он, усвоив каждое новое учение, увлекался им и признавал его истинность, но потом, после знакомства с другими учениями, отвергал прежние и отдавал предпочтение новейшему из них, пока, наконец, от разнообразия полученных идей и впечатлений у него не закружилась голова» [Реверсов, 2007, 139]. Высмеивание противоречий философов именуют в западной исследовательской литературе «аргументом нелепости (смехотворности)» (лaт. аrgumentum irrisionis) [Hermias, 1872, 32]. Евсевий Кесарийский выбирает более целесообразный подход в аргументации и отмечает больше «неточность» философии, утверждая, что существующие противоречия свидетельствуют о наличии ошибок в ней: «Философия эллинов была продуктом человеческих догадок и множества споров и ошибок, но не какого-либо точного рода занятий (ἀλλ’ οὐκ ἔκ τινος ἀκριβοῦς καταλήψεως)» (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление, 1983, 288. XIV. X. 9).
Выявляя противоречия в философии, еп. Евсевий не показывает, как сами же критикуемые им философы разрешали свои споры и противоречия во внутри-философской среде, но, противопоставляя эллинской философии христианское вероучение, предлагает свое собственное решение данной проблемы. Епископ Евсевий стремится показать читателю, что у варваров есть своя истинная и благочестивая философия33 (об этой истинной и благочестивой философии древних евреев, наследниками которой стали христиане, он пишет в кн. VII–IX трактата)34 и что часть этой философии эллины заимствовали у евреев: к примеру, о заимствованиях Платоном у евреев см. кн. XI, XII «Евангельского приуготовления». Вину Платона в плагиате у евреев отмечали и другие раннехристианские писатели, такие как Климент Александрийский, Афинагор Афинский, Феофил Антиохийский, сщмч. Ипполит Римский, Тертуллиан. Другая же часть эллинской философии, по мнению еп. Евсевия, не превосходит философии варваров. Данные утверждения подкрепляются в «Евангельском приуготовлении» цитатами критика христиан неоплатоника Порфирия, который любил искать мудрость в ближневосточных культах, т. е. у варваров. Порфирий в «Послании к египетскому жрецу Анебону» упоминает про найденные им множественные противоречия у философов, и выражает желание научиться мудрости у египтян. Он пишет: «Ибо дорога к богам окована медью, и крута, и неровна, и на ней варвары нашли много путей, но греки сбились с пути, в то время как те, кто уже владел ею, даже разрушили ее; но открытие было приписано свидетельством бога египтянам, финикийцам и халдеям (ибо это ассирийцы), лидийцам и евреям»35 (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление, 1983, 287. XIV. X. 5). Мудрость евреев является, как апологет замечает, «истинной религией и истинной философией» (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление, 1983, 262. XIV. III. 5), которая строится на правильной вере, благочестии и богообщении с истинным Единым Богом (см.: (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление, 1983, XIII. XIII. 63; XIV. III. 1; X. I. 1))36, рождает согласие, а не раздоры и споры37. Грекам и эллинским философам апологет противопоставляет древних евреев38, христиан и Моисея, которые хранили и хранят истину в согласии, не прилагая к вероучению человеческих измышлений и распрей. Кесарийский епископ пишет: «Моисей премудрый, который был старше всех греков, никогда не думал о том, чтобы нарушать и изменять какие-либо положения, которых придерживались его предки в отношении вероучения» (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление, 1983, 261. XIV. III. 2). Также не нарушали и ветхозаветные пророки после него (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление, 1983, 261. XIV. III. 3), в том числе «даже наша христианская школа, которая берет свое начало от них [ветхозаветных пророков] и вдохновленная Божественной силой, наполнила одинаково всю Грецию и варварские земли, не внесла ничего, что противоречило бы более древнему вероучению; или, возможно, лучше сказать, что не только в вероучении, но и в образе жизни христианство предписывает тот же курс, что и [предписывали] благочестивые евреи до Моисея» (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление, 1983, 261. XIV. III. 4).
Приводя читателю в пример «нашу христианскую школу», еп. Евсевий старается представить христиан как укрепленных в Истине единомышленников, которые не вносят противоречия в свое вероучение и которым чужд раздор по этому поводу. Здесь стоит вспомнить об арианских спорах, которые начались как раз во время написания трактата «Евангельское приуготовление» и привели к созыву I Вселенского Собора, активным участником которого являлся еп. Евсевий. В связи с активными спорами среди христиан император Константин Великий высказывался следующим образом: «Когда вы спорите между собою касательно неважных предметов, тогда самое несогласие ваших мыслей не позволяет вам управлять таким множеством народа Божия; мало этого — оно делает ваше управление даже противозаконным. A чтобы представить пример вашему благоразумию, скажу следующее. Вы знаете, что и сами философы одной школы живут в союзе; когда же случается им разногласить касательно какого-нибудь частного предмета, то, разделяясь между собою по степени понимания, тем не менее сходятся друг с другом по единству школы» (Деяния, 1910, 31). Император ставит в пример разногласящим христианским богословам (в первую очередь свт. Александру Александрийскому и пресв. Арию) согласие философов внутри одной школы, которое как раз критикует еп. Евсевий. Хотя события I Вселенского Собора пришлись на то время, когда трактат «Евангельское приуготовление» был уже закончен, все же нельзя сказать, что еп. Евсевий не знал об арианских спорах во время написания трактата. Очевидно, что, в отличие от споров внутри философских школ, христиан приводили к единству и единому вероучению Вселенские Соборы и церковная рецепция, хотя и положения Соборов принимали не все еретики. Однако Евсевий Кесарийский в своем апологетическом трактате не перечисляет и не разбирает факторы, которые решают проблему внутрицерковных раздоров. Он просто утверждает единство между христианами как факт, описывая его как наследие, которое было воспринято христианами вместе с ветхозаветным Откровением от древних евреев.
Оканчивая выявлять противоречия между эллинскими философами, еп. Евсевий резюмирует: «И что мы можем ожидать [от них], или чему научиться у философов? Или какая надежда может быть на их помощь, если действительно их утверждения, их первые принципы и их доказательства по большей части выводятся из предположений и вероятностей? И какая польза от споров, если все аргументы философов легко опровергаются из-за софистического использования языка по всем предметам? Ибо эти заявления вы слышите не от нас, а от самих [философов]. Поэтому полагаю, что не безосновательно, но справедливо и с хорошо обоснованным суждением мы [христиане] презирали учение такого характера и приветствовали учения евреев не потому, что они получили свидетельство от демонов, а потому что им показано, что они обладают превосходством и силой Божественного вдохновения» (Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление, 1983, 288. XIV. X. 8, 9). В итоге, выявляя противоречия эллинских философов, еп. Евсевий показывает, что христиане отказались от философии не из-за ее незнания, а в силу ее тщательного изучения. Исследователи апологетики Евсевия Кесарийского отмечают значительность данного аргумента: «его самым важным вкладом, по-видимому, является экстравагантная демонстрация учености, чтобы доказать, что христиане действительно знали дела своих противников и не обратились в христианство без тщательного рассмотрения других вариантов» (см. подр.: [Johnson, 2006, 78; Laurin, 1954, 365; Schwartz, 1909, 1393]). Такой метод выявления противоречий, используемый еп. Евсевием, демонстрирует читателю не только отсутствие согласия между эллинскими философами, но и уровень знания философии у образованных христиан, которые, ознакомившись с философией и посчитав ее результатом человеческих измышлений, полным догадок и ошибок, нашли взамен нечто действительно более ценное — христианское вероучение.
В результате использования метода выявлений противоречий у эллинских философов еп. Евсевий обращает внимание читателя на нравственный, этический аспект истины. Благочестивому согласию и мирному существованию христиан противопоставляется безнравственный раздор, неприязнь и вражда эллинских философов. Однако, как замечал А. Ф. Лосев, «для грека воспитание есть воспитание эстетическое» [Лосев, 2021, 95], а не этическое. И не только воспитание, но и вся философия Древней Греции в первую очередь основывается на эстетическом восприятии, а не на этическом: «принципиально не может быть у греков такой философии, которая не была бы эстетикой, и такой эстетики, которая не была бы в то же время философией, и именно „первой философией'1»39 [Лосев , 2021, 94]. Таким образом, при использовании метода выявления противоречий обращение еп. Евсевия к этическим категориям могло быть не так убедительно и эффективно для читателя-язычника, получившего классическое образование, как для читателя-христианина.
Проблематика, которая выявляется при анализе применения Евсевием Кесарийским метода выявления противоречий, разнообразна. К ней относятся и вопрос точности сообщаемых еп. Евсевием сведений о критических позициях разных философов, и проблема принадлежности источников цитируемым авторам (например, для цитируемого еп. Евсевием Псевдо-Плутарха, автора сочинения «О мнениях философов»). Важной проблемой использования этого метода в полемике с язычниками видится следующая: философы, в принципе, и без этого выявления их противоречий были в курсе постоянных собственных споров, так как сами принимали в них активное участие, и это была часть эллинской культуры. Дискуссия являлась одним из способов выяснения истины, каковым она является и сейчас: «В дискуссии выражается коллективный характер творческой познавательной деятельности, она выступает средством продуктивного общения, коммуникации членов научного сообщества. Без такого общения невозможны разносторонность исследования, критическая оценка полученных результатов, всесторонняя проверка и развитие научн. гипотез и теорий» [РСЭ, 1999, 125]. Однако апологетика еп. Евсевия главным образом отражает и несет в себе духовную составляющую христианства, а потому еп. Евсевий осмысляет дискуссию в апологетическом контексте не как нечто вредное для научного познания мира или для познания в принципе, ведь и ап. Павел говорит христианам: «надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор 11:19). Апологет осмысляет дискуссию именно в крайних формах раздора и неприятия оппонентами, что является показателем отсутствия сопричастия язычников духовной истине. К моменту написания трактата для жителей Римской империи было очевидно повсеместное распространение христианства. И хотя у христиан были собственные противоречия и споры с еретиками, однако, с одной стороны, внутрицерковные противоречия преодолевались стремлением к единомыслию на церковных Соборах, а с другой стороны, христиане против языческой религии выступали единым и согласным фронтом, а потому то свойство подлинной истины, которое заключается в том, чтобы объединять и примирять, действительно было наблюдаемо язычниками в христианстве. В силу этого данное свойство истины было своевременно обращено еп. Евсевием в его апологетике в мощный аргумент, который может быть актуален и сегодня в контексте полемики в современной научной или философской нехристианской среде.
Список литературы Выявление противоречий среди древнегреческих философских школ как апологетический метод в трактате Евсевия Кесарийского «Евангельское приуготовление»
- Афонасин и др. (2022) — Афонасин Е.В., Афонасина А.С., Диллон Дж. Философская история Платоновской Академии. Тексты и исследования. СПб.: РХГА, 2022. 284 с.
- Афонасин (2020) — Афонасин Е.В. Протагор из Абдер. Фрагменты и свидетельства // Scholae. Философское антиковедение и классическая традиция. Новосибирск: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 2020. Т. 14. Вып. 1. С. 309-338.
- Василий Великий: Беседа 13 (1857) — Basilius Magnus. Homilía XIII. Exhortatoria ad sanctum baptisma // PG XXXI. París, 1857. Col. 423B-444C.
- Гомер (1960) — Гомер. Илиада / Пер. Н. И. Гнедича. М.: ГИХЛ, 1960. 435 с.
- Деяния (1910) — Деяния Вселенских Соборов. Казань: Центральная тип., 1910. Т. I. 404 с.
- Диоген Лаэртский (1979) — Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979. 629 с.
- Евсевий Кесарийский: Евангельское приуготовление (1982, 1983) — Eusebius werke. Die Praeparatio Evangelica // Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte / Hrsg. von K. Mras. 2. bearbeitete auflage hrsg. von Ed. des Places. T.VIII, 1. Berlin: Akademie-Verlag, 1982. 686 s.; T.VIII, 2. Berlin: Akademie-Verlag, 1983. 604 s.
- Платон (1993) — Платон. Собрание сочинений: в 4 т. М.: Мысль, 1993. Т. 2. 528 с.
- Античные писатели (1999) — Античные писатели. Словарь. СПб.: Лань, 1999. 448 с.
- Афонасин (2016) — Афонасин Е.В. Гален. О моих воззрениях // ХХОЛН. Философское антиковедение и классическая традиция. Новосибирск: Ред.-изд. центр НГУ, 2016. Т. 10. № 1. С. 281-306.
- Богуславский (1990) — Богуславский В.М. Скептицизм в философии. М.: Наука, 1990. 272 с.
- Диллон (2005) — Диллон Д. Наследники Платона. Исследование истории Древней Академии (347-274гг. до н.э.). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. 281 с.
- Лосев (2000) — Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Ранняя классика. М.: ACT, 2000. Т. 1. 624 с.
- Лосев (2020) — Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Итоги тысячелетнего развития. М.: ACT, 2000. Т. 8. 832 с.
- Лосев (2021) — Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Академический проект, 2021. 755 с.
- Мочалова (2007) — Мочалова И.Н Философия ранней Академии. СПб.: Изд-во ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2007. 144 с.
- НФЭ (2010) — Новая философская энциклопедия. 2-е изд., испр. и допол. М.: Мысль, 2010. Т. 1-4. 2816 с.
- Реверсов (189) — Реверсов. И.П. Апологеты защитники христианства. СПб.: Сатисъ; Держава. 2007. 189 с.
- Рожанский (1983) — Рожанский И.Д. Анаксагор. М.: Мысль, 1983. 142 с.
- РСЭ (1999) — Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. академика РАН Г. В. Осипова. М.: Издат. группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. 672 с.
- Ястребов (1999) — Ястребов А. Евсевий Кесарийский. Исторический очерк // Богословский сборник. Вып. III. М., 1999. С. 136-151.
- Johnson (2006) — Aaron P. Johnson. Eusebius' Praeparatio Evangelica as Literary Experiment // Greek Literature in Late Antiquity: Dynamism, Didacticism, Classicism. London: Routledge, 2006. P. 67-90.
- Bounoure (1982) — Bounoure G. Eusèbe citateur de Diodore // Revue des études grecques. 1982. Vol. 95. P. 433-439.
- Burnet (1920) — Burnet J. Early Greek philosophy. 3rd ed. London: Adam & Charles Black, 1920. 389 p.
- Cherniss (1945) — Cherniss H..F. The Riddle of the Early Academy. Berkely; Los Angeles: University of California Press, 1945. 103p.
- Encyclopaedia Britannica (1911) — Encyclopaedia Britannica, 11th ed. New York: Encyclopaedia Britannica inc., 1911. Vol. 9. 997 p.
- Hermias (1872) — Hermias O. Hermiae philosophi Irrisio gentilium philosophorum: Apologetarum Quadrati, Aristidis, Aristonis, Miltiadis, Melitonis Apollinaris reliquiae. Illam ad optimos libros MSS. nunc primum aut denuo collatos recensuit, prolegomenis adnotatione versione instruxit, has undique collegit, praemissis dissertationibus edidit, commentariis illustravit Io. Car. Th. eques de Otto. Insunt et Marani Prolegomena in Iustinum, Tatianum, Athenagoram, Theophilum, Hermiam. Cum specimine lithogr. Codicis Hermiae vindobonensis Ienae In libraria Maukii. H. Dufft, 1872. 535 p.
- Laurin (1954) — Laurin J.-R... Orientations maitresses des apologistes chretiens de 270 a 361. Rome, 1954. 487 p.
- Norton (1999) — Norton G. The Cambridge History of Literary Criticism. New York: Cambridge University Press. 1999. Vol. 3. 762 p.
- Kristeller (1965) — Kristeller P. O. Renaissance Thought II: Papers on Humanism and the Arts. New York: Harper Torchbooks, 1965. 233 p.
- Schwartz (1909) — Schwartz E. Eusebios von Caesarea // Paulys Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft / Hrsg. von A. F. von Pauly. Stuttgart, 1909. Vol. 11. P. 1370-1439.
- Schamp (1990) — Schamp J. Des Places (Edouard) (Intr., texte, trad. et annotation). Eusèbe de Césarée. La préparation évangélique. Livres XIV-XV // Revue belge de Philologie et d'Histoire. 1990. Vol. 68-1. P. 177-179.
- Wagner (1983) — Wagner D.L. The Seven liberal arts in the Middle Ages. Bloomington: IU Press, 1983. 282p.