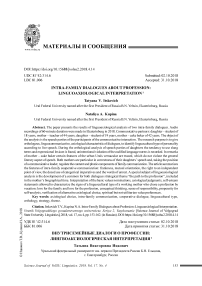Выражение личностного смыслав современном политическом дискурсе: лексический аспект
Автор: Зарезина Светлана Николаевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 4 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме выявления личностного смысла, который рассматривается как особенность политического дискурса. Раскрывается содержание понятия «личностный смысл» в разных аспектах, дается его авторское определение и характеризуются его источники: неоднозначность реальности, тенденциозность представления человеком объективной картины мира, создание личностных миров в процессе творчества, постоянное расширение знаний. На основе анализа опубликованных в российских СМИ журналистских текстов, содержащих прямые цитаты из речей современных политических деятелей, и текстов, созданных политиками, показано, что личностный смысл отражает целевую установку политика (автора высказывания) и реализуется при помощи определенных языковых сигналов, описанных в статье. Выявлены такие лексические средства выражения личностного смысла, как слова, относящиеся к политической лексике и имеющие позитивную или негативную коннотации, неологизмы, заимствования, обобщенные номинации, обладающие яркой дерогативной окраской, слова с аксиологическим значением, стилистически маркированные лексемы (книжные и разговорные) и некодифицированные лексические единицы. Установлено, что в российском политическом дискурсе сохраняется тенденция к снижению порога приемлемости в использовании нелитературной лексики в речи политических деятелей.
Личностный смысл, политический дискурс, источники личностного смысла, лексические единицы, политическая лексика, неологизм, заимствование, стилистическая окраска слова
Короткий адрес: https://sciup.org/149129926
IDR: 149129926 | УДК: 81’42:32 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2018.4.15
Текст научной статьи Выражение личностного смыслав современном политическом дискурсе: лексический аспект
DOI:
Citation. Itskovich T.V., Kupina N.A. Intra-Family Dialogues about Profession: Linguoaxiological Interpretation. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2, Yazykoznanie [Science Journal of Volgograd State University. Linguistics], 2018, vol. 17, no. 4, pp. 153-162. (in Russian). DOI:
Разработанная процедура лингвоаксиологической интерпретации диалогического взаимодействия, выделение в качестве объекта анализа речевых партий работающих матерей позволяют подойти к решению проблемы систематизации способов формирования внутрисемейной кооперативной коммуникации, а также конкретизировать решение проблемы выявления и описания гендерных лингвокультурных типажей.
Студенты первого курса Уральского федерального университета, изучающие дисциплину «Введение в теорию коммуникации», в мае 2018 г. получили задание записать на аудионосители и расшифровать внутрисемейный разговор продолжительностью не менее 30 минут. Заданная продолжительность не встретила возражений, что косвенно свидетельствует о сохраняющейся традиции повседневного внутрисемейного речевого взаимодействия. Посколь- ку задание не было ориентировано тематически, содержание разговора и выбор коммуникативных партнеров инициировались студентами самостоятельно. Характерно, что записи в большинстве случаев представляют собой межличностные диалоги с матерью, которая воспринимается младшими членами семьи как коммуникативный лидер.
Материал анализа – два диалога (далее – Д1 и Д2), сходные по ролевым параметрам участников речевого взаимодействия. Д1: У. – дочь, 19 лет, студентка; О.Н. – мать, 44 года, учитель. Д2: Л. – дочь, 18 лет, студентка; М.А. – мать, 42 года, пекарь-кондитер. Обе семьи проживают в Екатеринбурге.
В процессе исследования диалогов использованы методы и приемы ортологической диагностики, контекстологического анализа, лингвоаксиологической интерпретации контактоустанавливающих речевых актов, номинаций базовых ценностей, аксиологических установок и суждений.
Результаты и обсуждение
Ортологическая характеристика диалогов . Оттолкнемся от определения языковой правильности как «системы обязательных манифестаций – принятых единиц и правил их использования» [Костомаров 2014, с. 16]. Отметим, что как для первого, так и для второго диалогического взаимодействия непреднамеренные грубые отступления от кодифицированных норм литературного языка не являются типичными. В репликах дочерей встречаются общежаргонные экспрессивы-интенсивы:
-
У .: Ну это круто! Ой / на дачу как мы ходили; Ну это он в прикол сказал; Нифига себе (Д1).
Ср.:
Л .: Офигеть; Типа офигеть; Нифига ты темы меняешь; Ну / блин; Блин / ну на самом деле; Прикольно / понятно; Прикольно у тебя жизнь сложилась! (Д2).
По наблюдениям лингвистов, специально изучающих литературную разновидность устной разговорной речи, жаргон «осознается, во всяком случае частью говорящих, не как социально чуждая языковая подсистема, средства которой недопустимы в культурном общении (что было характерно для общественного языкового сознания еще в недавнем прошлом – в 50–60 гг.), а как источник особо выразительных, экспрессивных слов и оборотов, которые могут быть использованы в литературной речи в определенных ситуациях общения» [Крысин, 2004, с. 400]. Граница между общежаргонной и разговорной лексикой оказывается нежесткой. Так, если слово круто , употребляемое для выражения восхищения чем-либо необычным, еще на рубеже веков осознавалось как жаргонное (ТСРОЖ, с. 85), в наши дни оно прочно вошло в разговорную речь (АЛ, с. 519); в то же время отмеченные в диалогических репликах слова блин , прикол , офигеть (производное от фиг ) трактуются нормативными словарями XXI в. как жаргонные (АЛ, с. 140; 793; 1024). Усиливая приподнятую эмоциональную тональность, эти экспрессивы одновременно поддерживают непринужденность межличностного общения, сокращают межвозрастную ролевую дистанцию.
Мать-учитель привычно следит за правильностью речи дочери. Замечания, однако, носят шутливый характер и воспринимаются адресатом с пониманием:
-
У .: Есть щАвель и рЕвень //
О.Н. (шепотом): щавЕль (смеются) / дво[еш]-ница //
Еще один пример:
-
У . : У меня сёдня [сегодня] была одна пара / я там / только я приехала / и сразу спать захотела // Я кофе с автомата купила //
О.Н. : С автомата / м-м-м ... // Ты сказала «с автомата» //
-
У . : Из автомата?
О.Н. : Ну // Кофе / который продается / в автомате //
-
У . : Ну да // Кофе / который продается в автомате // (смеются)
В речевой партии матери (Д1) прослеживается дидактическая составляющая, лишенная менторства. Шутливо-ироническая тональность не задевает ни авторитета матери, речь которой в кругу семьи остается образцом для подражания, ни чувства собственного достоинства дочери-студентки, с готовностью исправляющей допущенные ошибки.
Вопреки ожиданиям, пекарь-кондитер М.А. (Д2) не является носителем уральского городского просторечия. В ее речи зафиксированы отдельные фонетические просторечные вкрапления ( дак , чё , ничё ) и склонность к однотипному интонационному оформлению императивов ( давай ищи ; давай сдавай ; думай давай ), однако они не нарушают общего разговорно-литературного облика ее речи. Развернутые реплики М.А. характеризуются тематической определенностью, связностью, четким фонетическим членением, логичностью. Она привычно использует книжную лексику, ненавязчиво выражает собственную точку зрения. Например:
М.А. : Нам / видишь / мама привила с детства / эстетическую красоту / то есть я вот люблю / красивый интерьер и / например / в интерьере / соответственно красивая посуда / красивые шторы / все чтобы было красиво / гармонично // Кому-то может быть все равно / но я люблю даже постельное белье красивое // Вот ты знаешь / что я люблю полотенца красивые // Люблю всё красивое!
М.А. фиксирует ошибки в речи дочери:
Л. : На свадьбах обычно плакают (о родителях молодоженов).
М.А. : Ну коне[ш]но / плакают // (смеется).
Зеркальный повтор, сопровождаемый смехом, свидетельствует об ортологической зоркости М.А.
Как видим, языковая правильность цементирует общение. Это то, «что всех объединяет в повседневности семьи» [Костомаров, 2014, с. 9]. Именно в семье формируется и развивается ортологическая компетенция языковой личности.
Анализируемые диалоги выступают как образцы современной устной разговорной речи, которая представляет собой «неподготовленную речь носителей литературного языка, обнаруживающуюся в условиях непосредственного общения при неофициальных отношениях между говорящими и отсутствии установок на сообщение, имеющее официальный характер» [Русская разговорная речь, 1973, с. 17]. Оставляя в стороне вопрос о градационном подходе к «типам речевой культуры» [Сиротинина, 2003], позволим себе определить общий культурный уровень участниц общения как среднелитературный.
Стратегия. Инициатором каждого из рассматриваемых диалогов является дочь-студентка, получившая определенное задание, разработавшая, в соответствии с целевой установкой «актуализатора», стратегию кооперативной речевой коммуникации, предполагающую другоцентризм, стремление «разговорить» коммуникативного партнера, «возбудить в себе неформальный интерес к собеседнику, умение настроиться “на его волну”» [Седов, 2000, с. 307]. Планирование предстоящего коммуникативного взаимодействия опирается на личный опыт повседневного домашнего общения, включающего комплекс компонентов, «сгруппированных вокруг основных параметров, формирующих любую коммуникативную ситуацию: Пространство. Время. Партнеры коммуникации. Тема» [Китайгородская, Розанова, 2010, с. 34]. Спроецируем эти параметры на анализируемые диалоги. Обеими студентками для планируемого диалога выбран одинаковый отрезок времени: после окончания рабочего и учебного дня. Простран- ство – городская квартира, в которой проживает семья. Выбор коммуникативного партнера обусловлен общей апперцепционной базой, доверительными отношениями с матерью, которую дочь воспринимает как неординарную личность.
Поскольку органическим свойством разговорного диалога является его политематич-ность [см.: Земская, 1988; Сиротинина 1983], замысел инициатора разговора должен включать запланированную предметную тему в ее ориентации на особенности лингвокультурного типажа собеседника.
Мы разделяем следующую точку зрения: «Категория замысла, признаваемая психолингвистической базой целостности любого текста, свойственна и спонтанному разговорному диалогу, но имеет в нем специфику, которая формируется за счет особых условий порождения текста, рассматриваемого типа (коммуникативное соавторство, спонтанность, коммуникативная координация речевого поведения)» [Борисова, 2000, с. 243]. Установка на коммуникативное соавторство, знание биографии матери, ее профессиональных интересов и достижений обусловили независимый выбор инициаторами диалогов предметной темы – «Путь в профессию».
Данная тема получает последовательное развитие, а соответствующие фрагменты разговоров характеризуются содержательной целостностью и связностью. Внутри текстовых фрагментов, которые составляют предмет дальнейшего анализа, тематические переключения отсутствуют.
В Д1 запланированным репликам расспрашивания предшествует экспозиция, формирующая фатическую функцию общения: «Вступить в контакт в той форме, которая принята в данной среде» [Бартминьский, 2005, с. 143]. В семье принято обмениваться информацией о времени, проведенном вне дома. Вопросы, обращенные друг к другу, носят стереотипный характер. Ответные реплики, с помощью которых преодолевается рутинный характер повседневного общения, характеризуются индивидуальной детализированной манерой интерпретации ситуации:
О.Н. : Дочь / привет!
-
У . : Привет / мам //
О.Н. : Как у тебя сегодня день прошел?
-
У . : У меня хорошо // Я сегодня сдала / латынь! А у тебя как день прошел?
О.Н. : О-о-о! Ты молодец! У меня / очень насыщенно // Ты знаешь / я сегодня прихожу домой / выхожу из лифта / поворачиваю / на ле[сн]ицу / и там сидит / мой ребенок / из пятого бэ // Я сначала вообще не поняла // Я говорю / «Ты чего здесь делаешь?» // А он мне говорит / «Можно / я исправлю двойку / на тройку?»
-
У . : Прям у подъезда?
О.Н. : В подъезде // Я говорю / «Влад / ты хочешь ее исправить прямо здесь и сейчас?» Он / «Да» // Я говорю / «Ну / давай исправим» // И он мне рассказал стих // На ле[сн]ицах / в подъезде! (смеется) Вот так вот! / Ну [ш]то / пришлось // Растопил мое се[рцэ] и я ему поставила / три //
-
У . : Три?
О.Н. : Ну / так / а там больше и не получалась // (смеется) / Нет / я ему поставила / четыре за стих / но / общая у него получалась три / вот // А так мои девятиклассники / коне [ш]но / они все в подготовке к ОГЭ / они же завтра пишут русский // Я / наверно / переживаю больше чем они //
Искренняя похвала матери соседствует с рассказом о нестандартной ситуации: школьник, узнавший, где живет учительница, дожидается ее у дверей квартиры. Ключевым является сочетание мой ребенок , информирующее о глубокой привязанности О.Н. к детям, способности понять их ошибки, оценить непредвиденные поступки. Выведение коммуникативной ситуации из автоматизма учебного процесса усиливает эмоциональную реакцию ( растопил мое се[рцэ] ), которая, однако, не мешает учителю справедливо оценить знания пятиклассника.
-
У . не только с удивлением и пониманием реагирует на рассказ матери, но и побуждает ее продолжить повествование о старших школьниках. Зная о том, что О.Н. отдает себя «без остатка» ученикам, дочь не претендует на внимание к собственной персоне (латынь, и это известно О.Н., – один из самых сложных учебных предметов). Другоцентризм – важнейшая примета кооперативной коммуникации:
-
У . : Расскажи / мам / а вот / у тебя / получае[ца] / был последний звонок / ты провожала / этих детей / они же у тебя с пятого класса / и до / девято[ва] //
О. : Да / это мои любимые дети / это мои лу[тш]ие дети / я про них могу говорить / часами //
Если я сейчас начну опять чего-нибудь говорить / я опять начну плакать // Я каждый раз подхожу кокну / и вижу / эту надпись / которую они мне написали // Мне прям / так грус[но] грус[но] / [ш]то они уже ушли / ну / точнее мы / еще коне[ш]но с ними увидимся / но потом / перво[ва] сентября / их у меня уже не будет // Очень жаль //
-
У . : Но они же все равно будут к тебе / приходить //
О. : Ну / я очень надеюсь / [ш]то они будут ко мне приходить //
Характеризующие предикаты любимые , лучшие в соединении с местоимением мои имплицитно передают информацию, важную для понимания результатов профессиональной деятельности: учебные достижения девятиклассников, их нравственный облик, креативность ( надпись / которую они мне написали ) – заслуга О.Н. Эмоциональные сигналы ( я опять начну плакать; гру[сно]; очень жаль ) позволяют судить о внутреннем психологическом состоянии О.Н., которая по-матерински относится к своим ученикам, нуждается в общении с ними. Более того, и ученики испытывают потребность в неформальной связи с наставником:
О.Н. : Я им классный руководитель / я им как родная / и они мне могут в любое время утра и ночи писать / как вот недавно / меня кот разбудил / и я в четыре утра написала детям / и Валера спросил «Вы вообще спите»?
Разговор о школьных буднях позволяет У. сформулировать стратегически обусловленный вопрос и получить на него развернутый ответ, включающий два тематически связанных внутритекстовых фрагмента: путь в профессию определил первый учитель; выбор профессии был сделан осознанно, с учетом индивидуальных аксиологических предпочтений:
-
У . : А / почему ты стала именно учителем / а не кем-то другим?
О.Н.: Не знаю / я когда пришла в первый класс / и училась в начальной школе / у меня была / мой первый учитель Нелли Васильевна Новикас / и я очень хорошо помню / как она стояла с указкой / у доски / как она показывала нам на глобусе все материки / страны // И мне вот в тот момент... / я поняла / [ш]то я очень хочу быть учителем / и эту мысль я выдержала в течение всех одиннадцати лет // Как-то / даже / не было другой мысли / [ш]то я кем-то еще хочу быть // И когда / я помню / наш семейный совет / мы сидели еще в Североуральске / ну ты помнишь нашу кухню // Да?
-
У . : Да //
О.Н. : И мы сидели / сидел папа / твой дедушка / Таня / и они говорят / «Ну куда / ты будешь поступать?» / Я говорю / «Однозначно в пед!» // Я очень благодарна родителям / [ш]то они не стали меня отговаривать // Папа / коне[ш]но / сказал / [ш]то это низкая зарплата / очень большая работа / высокая ответственность / то есть он показал мне все минусы / и сказал / «Ну / теперь принимай решение сама» // Я сказала / «Да / все равно / несмотря на все / я хочу быть учителем» // Но для меня тогда / учитель / это было ... я такая молодая / такая красивая! / У меня была учительница / по математике / вот она как раз / молодая / такая она красивая / она всегда заходила в класс / и мы всегда ею любовались // У нее у первой были длинные ногти / синие ногти / в то время (улыбается) это вообще было / в восьмидесятые года / О-о-о! Синие ногти // У нее такие были всегда модные платья // И тогда мне казалась / работа учителя / ну вот она заключается в том / [ш]то ты вся такая красивая невозможно / вот учишь детей // Я тогда / не знала / какой это колоссальный труд / какая это большая ответственность / какая это любовь / любовь к детям / к своей профессии // И если учитель это действительно призвание / тот кто не любит детей / не может понять их / те не работают в школе / они не задерживаются // Я не жалею / [ш]то я там // Я всегда говорю / «Я [щи]сливый человек / у меня замечательная дочь / у меня прекрасные дети / у меня любимая работа / так [ш]то / я [щ]итаю / я состоялась» //
Включенные в биографическое время я -высказывания ( я поняла / [ш]то я очень хочу быть учителем; несмотря на все / я хочу быть учителем ) позволяют составить представление о постепенном созревании аксиологического выбора – первоначально под влиянием ценностного ориентира ( мой первый учитель ); затем путем накопления «обширного опыта очевидности» ( в течение всех одиннадцати лет ) и развития «способности к вчувствованию, глубокого чувства ответственности, искусства творческого сомнения и вопрошания, упорной воли к окончательному удостоверению и живой любви к предмету» [Ильин, 1994, с. 500–501].
Событийным моментом для юной О.Н. стал семейный совет, культурный сценарий которого воспроизводится в компрессированном виде. Важный разговор, как это приня- то, происходит на кухне. Здесь очевидной является иерархия распределения семейных ролей. Глава семьи – отец. Именно он четко формулирует аргументы против выбора профессии учителя: низкая зарплата / очень большая работа / высокая ответственность. В то же время глава семьи с уважением относится к аксиологическому упрямству дочери (Однозначно / в пед!).
Призвание осмысляется как одухотворяющее дело жизни: я всегда говорю / «Я [щи]сливый человек / у меня замечательная дочь / у меня прекрасные дети / у меня любимая работа / так [ш]то / я [щ]и-таю / я состоялась» //
В разговоре о профессии (Д1) вербальную выраженность получает характерное для женского варианта типажа учителя органическое сочетание природного материнского пред- назначения и осознанного профессионального призвания. Более высокий уровень обобщения, отраженный в классификации, предложенной В.И. Карасиком [Карасик 2010, с. 178; 193; 207], позволяет отнести данный лингвокультурный типаж к типажам-«характерам».
Перейдем к анализу Д2. Как было отмечено, центральной в разговоре дочери (Л.) и матери (М.А.) является тема профессии.
В начальной вопросительной реплике Л. тема формулируется в проекции на род занятий матери. Акротеза, содержащаяся в реплике-реакции М.А., уточняет поставленный вопрос. В свою очередь Л. акцентирует смысл «планирование, этапы пути в профессию», который получает разворот в логически выстроенном повествовании М.А.
Л. : Ну [ш]то / с чего началась твоя пекарная жизнь?
М.А. : Не пекарная / а жизнь в общепите // Скажем так / случайно совершенно //
Л. : Не / ну ты планировала где работать?
М.А. : В магазине я работала //
Л. (с удивлением): Продавцом просто?
М.А. : Да / совсем не собиралась в общепит //
Л. : Прикольно / понятно // И поначалу у тебя в общепите хорошо получалось / или вообще не получалось?
М.А. : Ну-у-у / не совсем хорошо получалось / потому [ш]то во-первых / приходилось работать / с не очень / скажем / качественными продуктами / а-а-а / качество выпечки напрямую зависит / например / от качества дрожжей // Если дрожжи хорошие / то выпечка / мне кажется / сто процентов будет хорошая // Если дрожжи не очень хорошие / не по[дымица] тесто // А у нас приходили всякие // Поэтому в первое время мучилась // Потом меня уже отправили / ну как отправили / у бабушки нашей знакомая была / в физкультурном колледже работала / тетя Света её звали / женщину // Она очень хороший специалист была // Вот / я у нее собственно научилась / как работать с тестом // Потом уже / на курсы пошли / пошла / отправили меня / учиться //
Л. : М-м-м //
М.А. : Мне уже дали / сразу / кондитера / четвертого разряда / по моим способностям / во-о-от //
В границах реального времени М.А. последовательно выделяет пройденные этапы: обыденные (работа в магазине, в общепите) и личностно значимые. Событийное время она связывает с полученной возможнос- тью учиться профессии у хорошего специалиста, знающего, как работать с тестом. Важно, что тетя Света – знакомая бабушки. Узнаваемая подтекстная ситуация: опытный специалист уделяет внучке своей приятельницы особое внимание, прививает пытливой ученице любовь к профессии, бескорыстно раскрывает секреты мастерства.
В оппозиции общепит – хороший специалист тетя Света маркирован правый член, выделяющий фактор личности. Работник общепита приобретает профессиональный опыт: выпечка напрямую зависит от качества дрожжей и поставляемых качественных продуктов . Индивидуально выпекаемые кондитерские изделия – результат творческой работы, предполагающей не только специальные знания ( на курсы ... пошла ... учиться ), но и личностную одаренность. Дифференциальные признаки концепта «профессиональный кондитер»: знания, профессиональные умения, природные данные. При этом осознание меры собственной одаренности – характерологическая черта личности профессионала, у которого есть эталонный образец для подражания: Мне уже дали сразу кондитера / четвертого разряда / по моим способностям . Выбор профессии, как полагает М.А., непосредственно связан с самоанализом. Параллельно отметим, что аналитический подход к аксиологическому выбору – жизненный принцип М.А. Спонтанность, как она полагает, простительна молодости. В зрелом возрасте персональное решение должно быть продуманным:
Л. : Ты как относишься к спонтанным решениям?
М.А. : Ну сейчас уже не так как раньше / это в молодости спонтанность // присутствовала всегда наверно //
Л. : То есть [щас] ты не всегда ... //
М.А. : А [щас] я всегда более взвешенно / решение принимаю //
Вернемся к теме профессии. Уловив готовность матери к обсуждению творчества, Л. просит у нее разрешения исполнить роль интервьюера, М.А. включается в ролевую игру.
Л. : Как бы на самом деле я знаю / [ш]то у тебя очень много талантов // Я сегодня как интервьюер // (смеется) Буду брать интервью //
М.А. : Давай бери //
Л. : Ну вот смотри / значит / ты / хорошо готовишь / вообще всё / ну-у-у / это можно не скрывать / тут всё понятно // Ты ж ещё хорошо рисуешь / [ш]то насчет этого / ты скажешь?
М.А. : Надо было развивать эту способность / рисования-то //
Л. : Ну ты представляешь / [ш]то если бы ты...
М.А. : Ну не совсем уж у меня такой талант / потому [ш]то есть действительно вот / может быть / какие-то художники знаменитые / действительно таланты от Бога // Я могу срисовать только хорошо // У меня фантазии не хватит / [ш]то-то изобразить самой //
Л. : Ну по сути / я иногда тоже хорошо могу срисовать / но не так как ты // Ну я не знаю / раньше я помню / я видела / как ты рисовала / допустим даже / самые пустяковые рисунки / и то / не каждый так может // Ты бы могла / развить это / [ш]то-бы больше этим заниматься / или ты / ну как / не особо видишь себя в этой деятельности?
М.А. : Ну сейчас уже нет // Мне хватает творчества с тортами // Это тоже специфика такая / это надо только кондитерски наверно заниматься / [ш]тобы развивать / если [щас] в управлении расписывают даже / торты / специальными красками пищевыми // Этим надо заниматься //
Л. пытается заострить проблему личностно ориентированного выбора профессии. Она говорит о таланте матери к рисованию ( не каждый так может ), конструирует предположение: что / если бы ты ... Ответные реплики-самооценки основаны на дихотомии способность – талант . Талант, в восприятии М.А., – дар Божий, самобытность. Аксиологическое приращение получают глаголы рисовать , срисовать . Талант сопровождает творчество истинного художника, но не подражателя: Я могу срисовать только хорошо // У меня фантазии не хватит / [ш]то-то изобразить самой . Очевидна выверенная эстетическая позиция, на основе которой формируется мнение о возможности приложения собственных способностей к творчеству кондитера ( Этим надо заниматься ).
Сдержанная реакция на комплименты мотивирует дальнейшее обсуждение профессии кондитера. Л. понимает, что творческая натура матери нуждается в признании и одобрении:
Л. : Кстати / Полина мне сказала / [ш]то хочет у тебя / заказать торт / радужный вот этот / как ты-ы-ы
/ скидывала фотографию // Она влюбилась / хочет заказать на свой день рождения / она прям уже / сто процентов уверена в этом // Ну это я тебе так просто сказала / [ш]тобы ты знала / на будущее //
М.А. : Пускай заказывает //
Л. : Ей очень нравятся твои торты // Ну я ж часто показываю девочкам / и выкладываю в инстаграм / вот // Так [ш]то все в восторге //
Показательно, что для рекламы кондитерских изделий М.А. использует современные технологии ( торт / радужный вот этот / как ты скидывала фотографию ). Дочь с готовностью поддерживает мать ( твои торты ... я же часто выкладываю в инстаграм ). Привычное использование компьютерной лексики свидетельствует о том, что средства электронной коммуникации прочно вошли в повседневное существование семьи. Немаловажным является тот факт, что восприятие торта ( радужный ) пользователями Интернета основано на визуальном впечатлении. Личные и коллективные реакции со стороны ( Полина ... влюбилась; Ей очень нравятся твои торты; все в восторге ) связаны с эмоционально-эстетической оценкой авторских кондитерских изделий и креативных находок М.А. Стоимость заказов не обсуждается.
Анализ речевых партий дочери и матери в их сопоставлении позволяет отметить, что неподдельный интерес участниц общения друг к другу, стремление к взаимопониманию и любовь поддерживают коммуникативный лад, снимают эмоциональное напряжение. Инициатором важного разговора может стать не только мать, но и дочь, выполняющая ролевые обязанности и реализующая установленные в семье коммуникативные права. Как мать, так и дочь стремятся к субъектно-субъектному общению:
Л. : Вопросов много // Ты же моя любимая мама / как тут можно не интересоваться? На самом деле я / хоть мы / и (смеется) живем вместе / все равно немного / что знаю / Знаю / как вы познакомились / ещё знаю / про вашу свадьбу // А сколько всего ты мне еще можешь рассказать!
М.А. : А ты мне?
Л. : И я тебе тоже //
В разговоре о профессии (Д2) вербальную поддержку получают черты, характерные для варианта лингвокультурного типажа замужней работающей женщины: любовь к членам семьи, созидательное отношение к профессии, стремление к разработке профессионально направленных креативных технологий. Этот типаж можно отнести к типажам-«характерам».
Выводы
На основе проведенного лингвоаксиологического анализа диалогов о профессии можно выделить общие особенности семейной кооперативной коммуникации: неподдельное желание членов семьи говорить друг с другом откровенно; другоцентризм, стремление выслушать собеседника, понять его позицию и одновременно отстоять независимую точку зрения; ограниченное употребление категорических императивов; одобрительное отношение к шутке, языковой игре.
Стратегическая разработка дочерью-студенткой предметной темы разговора с матерью и способов реализации кооперативного сотрудничества свидетельствует об осознании инициатором диалога коммуникативного лидерства собеседника. В семейном общении мать регулирует содержательную и фа-тическую составляющие речевого взаимодействия, проявляет себя как авторитетный носитель культурных норм и традиций, транслирующий проверенные жизненным опытом аксиологические установки.
Любящая мать, выбравшая профессию по призванию, предстает как неординарная личность. Склонность к самоанализу, сложившиеся представления о правильном и должном, духовные, но не утилитарные ценностные предпочтения, концептуальность мышления, обостренное чувство ответственности, принцип выверенности, лежащий в основе альтернативного аксиологического выбора (в том числе выбора профессии), склонность к вербальному оформлению аксиологических суждений и установок – общие приметы гендерного лингвокультурного типажа как «характера».
Список литературы Выражение личностного смыслав современном политическом дискурсе: лексический аспект
- Зарезина С. Н., 2004. Устойчивые личностные смыслы в аспекте межкультурной коммуникации (на материале статей о России в англоязычной прессе за 1991-2004 гг.): дис. канд. филол. наук. Иркутск. 236 с.
- Красных В. В., 1998. От концепта к тексту(к вопросу о психолингвистике текста) // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. № 1. С. 53-70.
- Леонтьев А. Н., 2000. Лекции по общей психологии. М.: Смысл. 511 с.
- Стрелкова О. А., 2006. Особенности современного женского политического дискурса (на примере речевых портретов женщин-политиков): дис канд. филол. наук. Курск. 183 с.
- Чудинов А. П., 2009. Современная политическая коммуникация. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т. 292 с.