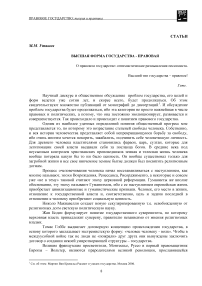Высшая форма государства - правовая
Автор: Утяшев М.М.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (28), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье подробно представлена хронология развития теории правового государства, его понятие и основные характеристики данной правовой категории. Автор излагает мысли и идеи основоположников государственного права, философов и историков, изучавших генезис государства, его назначение и цели.
Правовое государство, теория правового государства, общественный прогресс, николо макиавелли, жан боден, джон локк, томас гоббс, иммануил кант, роберт фон моль, алексис де токвиль, рудольф гнейст, лоренц штейн
Короткий адрес: https://sciup.org/142234124
IDR: 142234124
Текст научной статьи Высшая форма государства - правовая
ВЫСШАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВА - ПРАВОВАЯ
О правовом государстве: оптимистические размышления пессимиста.
Высший тип государства – правовое!
Гете.
Научный дискурс и общественное обсуждение проблем государства, его целей и форм ведется уже сотни лет, и скорее всего, будет продолжаться. Об этом свидетельствуют множество публикаций от монографий до диссертаций1. И обсуждение проблем государства будет продолжаться, ибо эта категория не просто важнейшая в числе правовых и политических, а потому, что она постоянно эволюционирует, развивается и совершенствуется. Так происходило и происходит с понятием правового государства.
Одним из наиболее удачных определений понятия общественный прогресс мне представляется то, по которому это возрастание степеней свободы человека. Собственно, и вся история человечества представляет собой непрекращающуюся борьбу за свободу, ибо очень многим хочется покорить, закабалить, подчинить себе человеческую личность. Для древнего человека властителями становились фараон, царь, султан, которые для легитимации своей власти выдавали себя за посланца богов. В средние века под неусыпным контролем христианских проповедников земная и телесная жизнь человека вообще потеряла какую бы то ни было ценность. Он вообще существовал только для загробной жизни и все свое никчемное земное бытие должен был посвятить религиозным догмам.
Процесс очеловечивания человека начал восстанавливаться с наступлением, как многие называют, эпохи Возрождения, Ренессанса, Рисорджименто, а некоторые и совсем уже «не в тему» таковой считают эпоху церковной реформации. Гуманисты же вполне обоснованно, эту эпоху называют Гуманизмом, ибо с ее наступлением европейская жизнь приобретает цивилизационные и гуманистические признаки. Человек, его место в жизни, отношение к государственной власти и, соответственно, цель и задачи последней в отношении к человеку приобретают социальную ценность.
Николо Макиавелли создает новую секуляризированную т.е. освобожденную от религиозных догм светскую политическую науку.
Жан Боден формулирует понятие государственного суверенитета, по которому верховная власть принадлежит суверену, правителю независимо от мнения религиозных владык.
Томас Гоббс выдвигает договорную концепцию происхождения государства, в основу которого закладывает экстремистскую форму: «человек человеку - волк». Чтобы в междуусобной войне так не люди не «пожрали» друг друга они вынуждены заключить договор о создании некоей умиротворяющей структуры – государства.
Великие французские просветители, Монтескье, Руссо и первый правозащитник Европы – Вольтер, являются прародителями великой революции, прославившейся

принятием Декларации прав человека и гражданина. Но они, эти просветители, не звали к революции.
Они сделали более важное дело.
Они возвысили человеческую личность на небывалую высоту, на которой только и подобает быть человеческому индивиду. И эта личность, понявшая, что она «не червь, а человек!», осознав свое величие и подобающее ей место в жизни, потребовала уважения ее чести и достоинства2.
«Представители французского народа, считая единственными причинами народных бедствий и развращенности правительства незнание, забвение или презрение прав человека, «напомнили, что «цель всякого политического союза – сохранение естественных и неотчуждаемых прав человека. Права эти суть: свобода, собственность, безопасность и противление угнетению». «Общества, в которых не обеспечена гарантия прав и не установлено разделения властей, неконституционны!»3
Но все эти новации, являясь обоснованными и вполне приемлемыми идеями совершенствования государственного механизма, разумного сопряжения диктата государственной власти и одновременного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, принципа разделения властей, равноправия, народовластия и т.д. представляли собой лишь фрагменты, лишь подходы к идее правового государства но не доктриной правового государства.
Наиважнейший вклад в передовую науку о государственном управлении внесли Локк, Гроций французские просветители, которые сформулировали новое понимание естественных прав человека и договорного происхождения государства.
В сочинении «Два трактата о правлении» Дж. Локк поясняет, что «Состояние полной свободы» человека означает свободe их действий «в отношении распоряжением своим имуществом и личностью, в соответствии с тем, что они считают подходящим для себя в границах закона природы, не испрашивая разрешения у какого-либо другого лица и не завися от чьей либо воли».4
В естественном состоянии, говорит Локк, - никто не имеет права вредить жизни, здоровью, свободе, имуществу другого.
Таким же естественным, - Локк считает, - право каждого «наказать преступника», таким образом «быть исполнителем закона природы».5 И вот тут рождается первая «Божья искра» по которому воедино сливаются идея «конституционного ограничения государственной власти» во исполнении основных прав и свобод человека и гражданина.
Локк уважительно относится именно к личности, а не к государству и на том же фундаменте договорного государство строит совсем иное, нежели Гоббс, "здание". Он считает личность разумной, обладающей неотчуждаемыми правами, то есть такими притязаниями, которые никто отнять у него не может, в том числе и государство». Личность нужно охранять от посягательств и лучшим средством является установление правовых границ для верховной власти. Способом ограничения возможного произвола Локк считает разделение властей на законодательную, исполнительную и союзную (федеративную).
Позднее более полную разработку теории разделения властей проводит Монтескье. Исходные позиции Монтескье базируются на убеждении, что власть монарха должна быть ограничена представительным органом. Эту не очень новую он идею отстаивает в таких рассуждениях: "Уничтожьте в монархии прерогативы сеньоров, духовенства, городов, и у
нас скоро будет или демократия, или деспотия. Он уверяет читателей в том, что где нет дворянства, там нет и монарха, а есть только деспот"6.
Ученый, выросший в старой аристократической семье, был уверен в необходимости некоей сдерживающей монарха силе в виде представительства от аристократии, средних слоев. Развивая теорию разделения власти, Монтескье понимает условность этого деления, проистекающую из внутреннего противоречия самой власти. Если, поясняет Монтескье, законодательная власть соединена с исполнительной в одном лице или же в одном учреждении (магистратуре) свободы не будет, ибо может статься, что монарх или сенат станут издавать тиранические законы или осуществлять их исполнение тираническими способами. Также угрожает свободе, если власть судебная не будет отделена от законодательной и исполнительной. В этом случае законодатель через судью или сам судья мог бы сделаться тираном. В случае же разделение властей "одна власть может остановить другую"7. На этом примере мы можем хорошо видеть, как Монтескье превратил идею ограничения монархии представительным органов в принцип разделения властей, в научную теорию, в учение.
Иное содержание в понятие правового государства вводит Ж.Ж Руссо. Исходные позиции его покоятся на представлений о том, что человек по природе своей есть доброе и хорошее существо и лишь государственные учреждения делают его плохим. Отсюда его критическое отношение к государственной власти и стремление возвысить личность. Он считает, что государство должно не только признавать за гражданами право на свободу, но, и обязано обеспечивать самые насущные и неотчуждаемые права, а также политические и социальные потребности людей. Не случайно его знаменитый трактат "Об общественном договоре" начинается со слов, ставших афоризмом: "Человек рождается свободным, а везде он в цепях"8.
Поэтому в представлении Руссо, люди, соединяясь в сообщество и утверждая над собой власть, делают это не ради нее, а ради сохранения своей свободы, своих собственных прав. И власть при этом должна не просто присутствовать, а активно содействовать в защите граждан. Такое общественное устройство способно отвечать самому главному предназначению государства - осуществлению народного суверенитета9.
Итак, мы рассмотрели наиболее важные идеи, суждения, учения о государстве, праве, личности... нового времени, идеи прогрессивные, гуманистические. Скажите, по какому признаку их можно разделить на два противоположных мировосприятия? Одни ученые в своих построениях исходят из того, что человек по своей природе плох, злобен, эгоистичен, не способен руководствоваться разумом, не склонен к осознанному и рациональному поведению и т.д. Все критическое в этом ключе приводит к выводу о необходимости мудрого руководства, сильной руки, крепкой власти, которая бы вела народ в правильном направлении, в светлое будущее, к счастью, под ее руководством.
Противоположный взгляд на человека приводит с неизбежностью к тому, что человек сам лучше всего знает свои потребности и возможности, не следует ограничивать его свободу, и он сам вправе решать, как ему поступать, он, непосредственно или через своих представителей должен осуществлять и оценивать государственную власть и если она не решает его проблем имеет право сместить неугодную и избрать новую власть.
Теперь посмотрим, как эта дихотомия ведет к искомому понятию правового государства.
Идеи правового государства произрастают из политико-правового представления о народном суверенитете, о верховенстве права, а не власти, и не закона, которые должны функционировать только во имя всеобщего блага. Идея правового государства базируется
на гуманистическом представлении о справедливости, как основном принципе государственно-правовой регламентации, как правило, социального общежития, хотя и создаются государством, но являются для него такими, же обязательными, как и для граждан.
Отталкиваясь от этих прописных истин, великий Кант, автор категорического императива «Человек, личность есть всегда и во всем только цель и никогда не средство» 10 , нашел необходимым ограничение государства автономией личности. Это возможно только путем точного определения границ деятельности государства и сферу свободы граждан. Это означало связать государство правом (не законами, а правом).
Основополагающая концепция правового государства предельно четко обозначена кенигсбергским философом так: «Гражданин должен обладать той же возможностью принуждения властвующих к точному и безусловному исполнению закона, которой обладает властвующий в отношении к гражданину». Далее мысль Канта такова: «Государство создано всеми вместе и каждым в отдельности путем делегирования ему части своей свободы для правомерного решения своих проблем».
В самом лучшем виде это могло выглядеть так: пределы, до которых может вторгаться государство в жизнь граждан, определяется правовым порядком, им самим установленным с согласия гражданского общества. Государство, которое соблюдает эти пределы и есть правовое или точнее правомерное11.
Дискурс о правовом государстве мы начинаем с правовых и политических воззрений Канта еще и потому что ему принадлежит заслуга в обосновании важнейшей ипостаси правомерного и конституционного государства – наличие гражданского общества.
На политических и гражданских идеях Канта выросли И.Фихте и В.Гумбольдт, углубившие каждый по своему, обсуждаемые нами проблемы.
Фихте писал: Я убежден, что царству исконного врага человеческого рода – зла, в различные эпохи являющегося в различных видах, конец может быть положен только развитием науки в человеческом роде. Всем известно, что я разумею под этим воплощением знания, разума, мудрости в самую жизнь…
Но духовная война против зла, требует внешнего мира, тишины, неприкосновенности личностей, ее ведущих. Если бы это условие было нарушено, если бы свободное развитие человеческого духа стеснялось или запрещалось, тогда прежде всего другого следовало бы завоевать эту свободу, ничего не щадя для нее, жертвуя ей кровью и достоянием, потому что, если она не завоевана и пока она не завоевана, немыслимо никакое улучшение человеческих отношений, и человеческий род вынужден вести постыдное и бесцельное существование12.
Для Гумбольдта индивид – самодовлеющее целое: не человек для государства, а государство для человека. Главнейшим в государственном управлении, по мнению ученного является правильное определение предметов, на которые должно распространяться управление, а так же к которым государство не должно иметь касательства. Вот это второе, т.е. определение границ государственного вмешательства является наиболее важным. «Последнее, поскольку оно затрагивает частную жизнь граждан и определяет меру их свободной и беспрепятственной деятельности, является подлинно основной целью: первое служит лишь средством, необходимым для ее достижения»13, - говорит гуманист.
Иеремия Бентам, полностью разделяя теорию народного суверенитета, добавляет блестящие идеи о всеобщих, тайных, равных и справедливых формах выборности должностных лиц. Избирательные права граждан он связывает с неприкосновенностью личности и невмешательством в личную жизнь граждан. В этом вопросе он поддерживает требование Адама Смита на свободу экономического поведения, расширяя это требование до социальной и духовной неприкосновенности личности14.
Бенжамен Констан тоже развивает принцип народного суверенитета, но в отличие от Руссо он понимает непреходящую ценность прав человека15. И если Руссо доводит идею народного суверенитета до парадокса, по которому суверенный народ, передав все свои прав верховной власти, полностью лишается всех своих прав, то есть отчуждается от управления самим собой, то Констан не может даже помыслить такого. Ценитель свободы, сторонник демократии и прав человека, он провозглашает первой потребностью человека личную независимость и непременное участие граждан в управлении государственными делами. Отсюда остается только один шаг к осознанию того, что если представительный орган был необходим, чтобы оградить народ от возможного произвола монарха, от деспотии и тирании самодержавного правления, единоначалия, то необходимо еще оборонить народ и от возможной тирании выборного органа, представительной ветви власти, которая тоже способна посягнуть на права личности. И этот шаг сделал Токвиль.
Поддерживая принципы народного суверенитета и разделения властей, Токвиль предлагает гармонично развивать свободу и равенство, демократические институты, независимые ветви власти, народовластие, сочетание которых только и способно установить надлежащее общественное устройство в государстве16.
Ради полноты обзора, скажем еще об убедительных либеральных обоснованиях правового государства, проведенного русским ученым Новгородцевым в предреволюционные годы, но уже обреченных на забвение, ибо Россия встала на иную парадигму развития государства и права. Когда в 1988 году в СССР, с разрешения ЦК КПСС было введено в оборот понятие о "социалистическом правовом государстве", то это напоминало оксюморон в форме "горячего льда" или "холодного кипятка". Теоретически могло быть или правовое государство, или социалистическое государство советского типа, а социалистическое правовое государство в сочетании с советским государством понятия несовместимые по сущностному содержанию17.
Правда, это замечание не относится к тем возможным в истории государствам, которые, будучи правовыми, осуществляют на правовой основе социалистические, социал-демократические преобразования, но это возможно в будущем. Я пока говорю о прошлом.
Правовые государство - это антипод тоталитарного социалистического государства. Можно представить, что оно уже по замыслу, по идее предполагает торжество права и законности, демократические формы правления, гражданские свободы и прав человека, народовластие и народное представительство.
Мы с вами имели возможность убедиться, что власть - это всегда ограничение свободы людей, это принуждение, и она всегда действует в некоем поле напряжения, давления, противостояния со своими поданными. Значит, противостоят государственной власти интересы личности, индивидуальные свободы, социальные интересы граждан. И вот во всей истории политической и правовой мысли мы можем проследить поиск принципа, порядка или возможности ограничить власть – насилие. Обратите внимание: не
уничтожить, а ограничить. Проследим этот поиск на двух примерах: Древнекитайской патриархальной политической мысли казался вполне логичным такой выход: "Тирану узурпатору или власти силы может быть противопоставлена только отеческое отношение мудрого правителя к народу"18.
После опубликования Декларации независимости и принятия Конституции Соединенных Штатов, французской Декларации прав человека и гражданина идеи, положенные в государственную основу стали гимном человеческой личности, его чести и достоинству, естественным правам и свободам. Ведь именно этими идеями наступившей эпохи гуманизма Гольбах, Дидро, Руссо, Монтескье, Вольтер пробудили народную энергию, приведшую к великой революции.
Все эти опытным путем проверенные и обоснованные находки и идеи, в наибольшей степени отвечавшие целям и задачам благого управления государственными делами собранные воедино составили основу и принципы того государственного устройства, которое и получило наименование правового. Наибольшая заслуга в формировании доктрины правового государства по заслугам принадлежит немецким ученым.
В начале 70х годов XIX столетия германский правовед Роберт Моль употребил это словосочетание, отличая такое государство от теократического, деспотического, патриархального и патримониального19.
Обобщая эти и большинство других известных характеристик государственной власти и функций государства немецкие правоведы более всего продвинулись в формировании понятия правового государства. Именно в этом смысле одним из первых применил это словосочетание Роберт Моль в книге «Полицейская наука в принципе правового государства»20. Профессор Тюбингенского университета Р. Моль, известный юрист и крупный политический деятель еще будучи депутатом Вюртенбергской палаты резко критиковал правительство этого королевства, за что был лишен кафедры и практически изгнан. Затем он был избран в франкфуртский парламент и был заместителем министра юстиции, а также заведовал кафедрой права в Гендельбергском Университете. Позже Моль был членом баденской палаты, а затем депутатом германского рейхстага, где входил в либеральную фракцию.
Именно Моль стал на практике разделять понятие государства и гражданского общества, как о самостоятельном союзе граждан, преследующем свои собственные цели.
Правовое государство Моль вполне обоснованно противопоставляет античному и теократическому, ибо оно сформировалось на ином уровне общественных отношений, чтобы ни утверждали некоторые российские ученые21. По мысли Моля правовое
государство должно служить достижению различных жизненных целей граждан для ограждения и защиты их прав и свобод. В уже упоминавшейся книге о полицейском праве Моль дает полицейской деятельности исключительно отрицательную оценку, ибо она не занимается основной своей обязанностью – всемерно способствовать развитию всех человеческих возможностей. Эта задача возлагается на государственную власть потому, что сами граждане не могут самостоятельно устранить все преграды на пути к такому развитию человечества22.
Суть этих размышлений состояла в том, что немецкие юристы того времени яростно дискутировали о соотношении закона и подзаконных актов, о чистой науке, о государстве, то есть о будущей политологии, о соотношении «чистых» наук с практикой, о простых и сложных формах государственного устройства.
В книге «Государственное право королевства Вюртемберг» Р.Моль подробно рассматривает соотношение закона и указа весьма важного, как он полагал для уяснения правового характера государства. Еще более важно то, что в этой работе Моль дает первую трактовку конституционализма и вот такой ограниченный конституцией государственный строй отвечает идеалу ученого как правомерное правление. Кстати, отсюда пошло отождествление некоторыми учеными понятий конституционного и правового государства23.
Р. Моль указывает четыре признака правового государства, но поскольку он живет при монархическом строе, первые же принципы звучат не очень убедительно. Еще хуже то, что по Молю искомый тип государства оказывается, не зависит и от формы правления. Однако к достоинствам ученого Моля следует добавить, что идею правового государства он прослеживает начиная с эпохи гуманизма и прочно увязывает с естественно-правовой концепцией происхождения государства, и что еще важнее, определяет соподчиненность и взаимосвязь правового государства с правами и свободами человека и гражданина. Он впервые четко разграничил понятия государства и гражданского общества, как самостоятельного союза граждан, преследующим свои собственные интересы, дозволенные правом.
Наконец, Р.Моль обосновал роль правового государства, которое у него является лишь средством для достижения различных жизненных целей и обеспечения индивидуальных прав личности24.
Крупный немецкий правовед Генрих Гнейст, будучи свидетелем призрачного конституционализма, в Германии начала XIX века, грубого произвола и насилия властей печально заметил: одни парламенты, еще не создают правового государства.
Но ведь так никто не считал. Гнейст обратился к истории Англии, считавшейся образцом обеспечения гражданских свобод. А если это, правда, а это было правдой, то там должно быть правовое государство. И он решил, что признаки такого правления он найдет в суде присяжных. Это был хороший опыт справедливого правосудия.
Но затем внимание ученого было переориентировано на достижения островного самоуправления. И он становится адептом английского самоуправления. Он, с таким восхищением описывая эту форму народоправства, что этим затмил даже достижения английского парламентаризма, Великую хартию вольностей и Хабеус Корпус Акт, Гнейст пришел к выводу, что «немыслимо правовое государство без коренного переустройства администрации и передачи важнейших функций управления органам самоуправления».
Под сильным влиянием Гнейста, но, вероятно, не столько ученого, а многолетнего депутата прусского, затем общегерманского рейхстага, члена верховного административного суда, была проведена реформа прусского самоуправления, которая затем послужила образцом для других германских государств.
Наряду с Гнейстом, другим классическим разработчиком теории прав человека в Германии считается Лоренц Штейн25.
По учению Штейна, начало общественной организации кроется в ограниченности сил индивида, в возможности удовлетворения его потребностей одними личными силами; отсюда стремление подчинить себе других лиц и приспособить их для своих эгоистических целей; общественный строй всегда, поэтому, приводить к зависимости слабых от сильных, неимущих от богатых, т.е. к неравенству и несвободе. В основе самой общественной организации кроется противоречие между идеальным назначением личности и возможностью ее существования и преуспеяния в виду ограниченности ее сил. Это противоречие призвано разрешить государство – высшая форма общежития. Государство – коллективный индивид, возвысившийся до личности, до самосознания. Задача государства – способствовать материальному и духовному развитию каждого из образующих его индивидов. Для осуществления этой задачи воля государства, как высшей формы личности, должна соответствовать воле составляющих его индивидов, не становясь орудием господствующего общественного класса или партии; следовательно, воля государства может быть выражена органом, стоящим вне борьбы общественных классов и глубоко понимающим идею государства и его задачи. Идея государства заключается в восстановлении равенства и свободы в поднятии низших обездоленных классов до уровня богатых и сильных26.
Самоопределение воли государства составляет содержание государственной власти, воздействие на внешний мир – содержание правительственной власти, управления. В управлении, по Штейну, сосредоточиваются все задачи государства, вся деятельность государственной власти, распадающаяся на три отрасли: государственное хозяйство, правосудие и внутреннее управление. Каждая из этих трех отраслей имеет двоякую задачу: установление условий, содействующих благоприятному развитию отдельных лиц, и ограждение их от угрожающих им опасностей, не устранимых личными усилиями. Для выполнения этих задач органы исполнительной власти пользуются правом издавать основания на законе предписания и распоряжения и правом непосредственного устранения угрожающих опасностей, путем принуждения; таким образом исполнительная власть распадается на распорядительную и принудительную. Деятельность исполнительной власти регулируется так называемым административным правом в широком смысле слова27.
На низших ступенях правового развития государства оба вида выражения государственной воли – закон и административное распоряжение – слабо различаются; в государствах же, стоящих на высшей ступени развитая, закон есть сама государственная воля, получившая выражение через народное представительство, между тем как распоряжение выражает лишь волю исполнительной власти; отсюда следует, что административное распоряжение имеет силу лишь по стольку, по скольку оно совпадает с общей государственной волей, т. е. с законом. Из подчиненности административного распоряжения закону Штейн выводить ответственность министров, которой он посвящает обширный сравнительно - исторический очерк, различая две формы ответственности министров— политическую и судебную. Системе административного управления Штейн противопоставляет систему самоуправляющихся общественных единиц (провинции, округа,
города и общины) и систему общественного союзного строя вообще, выражающегося в разнообразных свободных общественных организациях и корпорациях: сословных, классовых, промышленных, коммерческих и т. д. Штейн подробно останавливается на вопросе об огромном значении для достижения культурных задач государства самоуправляющихся организаций и свободных союзных учреждений, а равно на разграничении деятельности исполнительной власти и работы свободных общественных организаций. Чем совершеннее организована государственная власть, тем более простора дается деятельности общественных организаций28.
В сферу личной жизни, по Л. Штейну, входят заботы о физической жизни человека (население, народное здравие и продовольствие) и о духовной жизни человека (народное образование); к хозяйственной жизни он относит вопросы, связанные с собственностью, промышленностью, путями сообщения, денежным и кредитным обращением; наконец, в общественную сферу входят интересы, связанные с различными союзными организациями (семьей, профессиональными корпорациями и т. д.).
Таково, в общих чертах, учение Л.Штейна о государстве и об управлении, оказавшее глубокое влияние на все последующее развитие государственных наук. Таким образом, теория правового государства Л. Штейна из области догадок складывается в научную доктрину.
Можно сказать, Штейн идеализировал не какое-нибудь конкретное государство, а сам принцип государственности. Но, с другой стороны, правовая свобода не может вполне устранить общественной необходимости, и уже по этому одному нельзя превратить государство в исключительно правовую организацию. Само же понятие правового государства не есть что-либо априорное или связанное с духовными свойствами какой-нибудь определенной национальности29; оно вполне отражает исторические условия. Если принять во внимание последние, то в современном мире правовым государством может быть признано таковое, где управление соответствует конституции.30 Л. Штейн указывает, что в современных европейских обществах уже установлено во всех главных чертах единогласие относительно существа свободного государственного устройства; великий вопрос ближайшего будущего касается существа свободного управления, т. е. отношения исполнительной власти к законодательной, указа к закону. Правовое государство не означает такое, которое вводит в свои задачи создание права, — тогда под эту категорию попадает всякое государство; правовым именуется государство, поскольку оно развивает не право вообще, но определенную область последнего — не гражданское, уголовное, общественное (gesellschaftlich), но право управления в широком смысле (Regierungsrecht). «Требование правового государства соответствует именно этому моменту, когда от государства ожидается создание для новой государственной жизни действующей системы права управления; когда развитому и сильному организму правительственной власти противополагаются в качестве грани закон, самоуправление и право отдельного гражданина, в целях обеспечить самостоятельность этих трех факторов относительно правительственной власти. Идея правового государства означает систему правовых основоположений и средств, которые признаются обязательными для правительства в его указной и конкретной деятельности, обязательными в целях сохранения права, установленного в законодательстве».31
Таким образом, правовое государство предполагает верховенство закона, осуществляющееся в конституционном государстве, но оно вместе с тем утверждает проникновение этого верховенства во всю область государственного управления — утверждает наличность целой разработанной публично-правовой системы.32 Понятие правового государства, в отличие от Моля, значительно конкретизируется: оно есть определенная разновидность конституционного государства.
Из этого не следует, конечно, что вопрос о правовой защите гражданина — не заслуживал величайшего внимания. Л. Штейн остановился на нем со всем таким вниманием, создавая свое учение об административной юстиции. Если он решительно отказывает гражданину в праве прибегать к активному сопротивлению незаконным требованиям власти и разрешает в некоторых пределах лишь сопротивление пассивное, а в то же время наделяет правительственную власть возможностью принудительного выполнения своих требования, то у гражданина остается путь жалобы и иска — сообразно с тем, нарушены ли только его интересы. Вообще только наличность административной юстиции обеспечивает неприкосновенность тех граней, которыми в правовом государстве окружена деятельность правительства. В конце концов правовое государство для Л. Штейна есть конституционное государство с правильно устроенной административной юстицией — юстицией не только по имени, но и по духу.
Продолжение разработки теории правового государства взял на себя правовед Отто Майер. Во-первых, в его глазах идея правового государства совершенно лишена государственной окраски. Во-вторых, конечно, права человека стоит в непосредственной связи с конституционным строем, но нельзя ставить знак равенства между конституционным и правовым государством; последнее не только должно иметь облик
законченного конституционализма, но обладать управлением, связанным с правовыми нормами; такая связанность санкционируется административной юстицией…
Правосудие само по своей природе уже связано с законом; управление должно стать таковым – это постулат: он требует, чтобы «государство как можно более полно пользовалось законом для создания правовых положений, регулирующих управление, и возможно больше пользовалось административными актами для разрешения отдельных случаев в соответствии с его правовой связанностью»35
Через несколько десятилетий до совершенства теорию прав человека развили российские правоведы. Характеризуя правовое государство Б.А. Кистяковский признал, что «основной признак этого государства заключается в том, что в нем власти положены известные границы здесь власть ограниченна и подзаконна».36
Другой типичный признак прав человека, по Кистяковскому, это безличность власти. «В правовом государстве, - говорит он, - господствуют не лица, а общие правила или 37
правовые нормы».
Он конечно, прав когда говорит, что фактически сложившиеся отношения кажутся освященными нормами права. В общественном сознании появляется убеждение, что то что существует и должно быть.
Еще ранние сторонники естественного права называли эту категорию идей права. Кистяковский поясняет как эволюционирует эта идея. Постепенно правовая идея берет верх над существующим и все было идеей изменяется и согласовывается тем, что должно быть. Таким образом правовая идея, идея должного приобретает господство над властью. «Только если власть способствует тому, что должно быть, только если она ведет к господству идеи».38
Господство правовой идеи выражается в том, что все действия власти в нем обусловливаются и регулируются правовыми нормами. В таком государстве, люди облеченные властью подчинены правовым нормам на ровне с другими лицами, не обладающими властью. Но первые по должности являются исполнителями предписаний, содержащихся в этих нормах. Власть является для них не столько их субъективным правом, сколько их правовой обязанностью 39.
Резюмируя множество подходов, идей, теоретических воззрений теорию прав человека можно в общих чертах сформулировать следующим образом:
Государство, исполняя свою законодательную функцию, устанавливает правила поведения для всех и каждого. Это аксиоматическое положение правового государства не соблюдается в неправовом, в котором законодатель исходит из представления, что нормы поведения принятые ими распространяются на всех других, но только не на них самих. Этим чувством законодатель, народный представитель руководствуется, охотясь на архара, занесенного в Красную книгу, занимаясь иными запрещенными законом делами. Он вовлекает в нарушение норм права своих окружающих, об их беззакониях знают обслуживающие их люди, которые проникаются правовым нигилизмом.
Определяя законами, общие правила поведения всех и каждого, устанавливая границы дозволенного и запрещенного, государство тем самым устанавливает и границы своей деятельности. Конституция правового государства определяет границы не для граждан, ибо их права и свободы безграничны. Она устанавливает границы государственного вмешательства в сферы, в которых граждане могут обойтись без государственного контроля и надзора. Такое самоограничение тоже свойство правового
государства. Поэтому такая Конституция обычно гласит. «Конгресс не может… или парламент не в праве…».
Таким образом, пределы, в которые может вторгается государство определяется правовым порядком, им самим установленным. Государство, которое в своей деятельности соблюдает границы, установленные правопорядком и есть правовое или правомерное. Существо правомерного государства заключается в самоограничении, в строгом соблюдений предписаний законы, в силу чего никакой акт государственной власти не может противоречить закону. В отечественной политико-правовой науке концепция правового государства активно разрабатывается с конца XIX века. В то время ей уделяли внимание многие русские исследователи, среди них С.А. Котляревский, Б.А. Кистяковский, Г.Ф. Шершеневич, В.М. Гессен, М.А. Рейснер и другие.40
В начале века «Рассуждая об истоках правового государства, юрист и философ права Л.М. Родионов писал: «великий смысл развития демократического начала, за которые боролись и борются народы, заключается в том, что только таким путем – и никаким иным – может быть достигнуто обеспечение права, а стало быть, и интересов общества и отдельных личностей в государстве. Ведь интересы человеческой личности и ее достоинство составляют конечную цель всех политических движений и переворотов. А так как сознание современного человечества говорят о равном достоинстве…».
А уже в начале века П.И. Новгородцев первую главу введения в философию права называет «Кризис теории прав человека».
Но это весьма поверхностное суждение, даже высказанное знаменитым демократическим мыслителем. На самом деле такая борьба нового со старым, парламентаризма с единовластием, народовластия с абсолютизмом является естественным процессом нарождающегося нового.41 Столь же беспредметны были опасения всеобщих прямых бессословных и тайных выборов, доказавших несостоятельность всех опасений прямого участия граждан в управлении государственными делами. Не этого надо опасаться. Верна прямо противоположенная позиция. «До настоящего времени парламент не является действительным выразителем желаний и воли народного большинства: именно этим – а не чем либо иным, - обьясняется тяжелый кризис, переживаемый парламентаризмом в большинстве стран Западной Европы» – писал сто лет тому назад профессор В.М.Гессен.42
Но об английском парламенте того же времени, говорится что среди прерогатив свойственных исключительно ему одному находится право «принимать петиции исходящие от частных лиц и касающихся любых лиц и касающихся любых предметов».43
Авторы единодушны в оценке раннего парламентаризма в высказываниях типа «парламент разделяет власть с народом», «народ участвует во власти», «выборы превратили народ в орган управления», «парламент стал источником конституционного 44 законодательства».
Но самой значительной ролью представительного органа становился социальный контроль за исполнительной властью, законотворчество, ограничения единовластия… Воля народы, его интерес. Гражданско-общественная воля «безответственных» министров потребовали различения, размежевания.
Опасное усиление исполнительной власти уже тогда заметили проницательные мыслители. «Носители исполнительной власти, - учил Руссо – не начальники народа, но 45 его чиновники; он может назначать и смешать их, когда ему угодно».
Под железной пятой необходимости парламенты принуждены не только подчинятся руководству неправительственной власти, но и уступить ей управление страной.46
46 Там же.
Список литературы Высшая форма государства - правовая
- Мартин Ван Кревельд Рассвет и упадок государства. Москва 2006.
- Утяшев М.М. Курс лекций по истории политических и правовых учений. Уфа 1999, с.17.
- Декларация прав человека и гражданина 1789 г.
- Локк. Собрание сочинений в 3-х томах. М. 1988. т.3 с.263.
- История политических учений. М. 1955. с. 247.