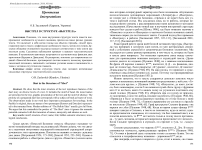Выстрел в структуре "выстрела"
Автор: Заславский Олег Борисович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Прочтения
Статья в выпуске: 1 (44), 2018 года.
Бесплатный доступ
Показано, что сама внутренняя структура текста повести воспроизводит особенности дуэльного поединка, причем на самых разных уровнях текста. Это включает в себя мотив головы как объекта стрельбы, способ представления имен в тексте, графические особенности текста, мотив отсутствия. Ду-эльное обещание отложенного выстрела находит соответствие в теме книги как носителя слова. Сделанные наблюдения приводят к важным текстологическим выводам. В пушкинском оригинале встречаются в усеченном виде фамилии двух прототипов (Бурцова и Давыдова). Их раскрытие, типичное для современных из-даний «Повестей Белкина», противоречит поэтике повести, поскольку пропадает смысловой потенциал, связанный с мотивами усечения имени и анонимности, а также с мотивом отсутствия как такового.
Мотив, структура текста, имя, заглавие, неочевидные смысловые структуры, текстологические следствия
Короткий адрес: https://sciup.org/14914679
IDR: 14914679
Текст научной статьи Выстрел в структуре "выстрела"
Среди других «Повестей Белкина» повесть «Выстрел» вызывает заметно повышенный интерес исследователей. Можно думать, что это связано с наличием интуитивно ощущаемой повышенной структурной упорядоченности этого произведения. Попытки ее выявить и описать делались уже давно [Петровский 1924, 173-204], [Благой 1955, 223-240]. Однако в основном работы о «Выстреле» (как и о других «Повестях») носили цели- ком историко-литературный характер или были посвящены обсуждению психологических мотивировок персонажей. (Литература о «Выстреле», не говоря уже о «Повестях Белкина», огромна и не может быть вся учтена в короткой статье. Мы ссылаемся лишь на те работы, которые непосредственно связаны с рассматриваемыми нами аспектами и методами исследования.) Качественно новый шаг в изучении внутренней структуры повести был сделан в работе [Шмид 1996], где было показано наличие в «Повестях» в целом и «Выстреле» в частности богатых мотивных связей, типичных скорее для поэтического текста. Сходный подход был применен к «Выстрелу» в работах [Заславский 1997, 122-131], [Заславский 2001, 117-131], [Заславский 2016].
В настоящей работе среди всей богатой мотивной структуры «Выстрела» мы выбираем в основном один мотив, но зато центральный, связанный с собственно стрельбой и семантически близкими элементами. Мы исследуем его самые разные проявления, в том числе те, которые не были в тексте даны напрямую. Это позволяет прояснить связь между ключевым для произведения понятием выстрела и структурой текста. (Далее цитаты даются по изданию [Пушкин 1948], но с важным исключением. Во фразе «Я перепил славного Б***, воспетого Д. Д - м» фамилии, данные не полностью, были раскрыты: «Б<урцова>, воспетого Д.<енисом> Д<авыдовы>м» [Пушкин 1948, 69]. На наш взгляд, это приводит к существенным смысловым потерям (см. далее). Поэтому мы придерживаемся исходного написания [Пушкин 1831]).
Можно заметить, что в тексте содержится довольно заметное число прямых и косвенных упоминаний головы или родственных с ней слов. «Голова моя шла кругом...» [Пушкин 1948, 74], «Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы» [Пушкин 1948, 65], «Впрочем нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость» [Пушкин 1948, 66], «Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова» [Пушкин 1948, 71], «Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета» [Пушкин 1948, 65]. Граф прострелил Сильвио фуражку «на вершок ото лба» [Пушкин 1948, 68]. Когда во время ссоры офицер Р*** швыряет шандал в Сильвио, в тексте не поясняется, куда он метил; однако представляется очевидным, что поскольку эта был знаковый жест, а не попытка искалечить, то Р*** мог метить только в голову своего противника - ту часть человека, которая метонимически представляет его личность. Когда Сильвио тренируется в стрельбе, он стреляет в туза, т.е. главную карту.
Сильвио рассказывает, что перепил Б***, воспетого Д. Д-м. В тексте упоминается «поместье, принадлежащее графине Б***» [Пушкин 1948, 71]. От имен и фамилий здесь оставлены только заглавные буквы. Это же относится к географическому названию - деревенька Н** уезда.
Два эпиграфа, в которых говорится о дуэли, стоят в начале, «во главе»
текста, тем самым иконически соединяя мотив головы и стрельбы. А поскольку в обоих эпиграфах речь идет об одном и том же (дуэли), они удваиваются и структурно повторяют двойной след в картине, оставленный Сильвио, который всадил пулю в пулю. В данном контексте становится значимым то обстоятельство, что слово «Выстрел» вынесено в заглавие.
В доме графа рассказчик обращает внимание, что «около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст» [Пушкин 1948, 71]. Бюст - это такое изображение, в котором концентрирована роль головы. Более того, здесь шкафы с их содержимым и бюсты как бы представляют тело человека (книги) и его голову (автора), в совокупности составляя единый образ.
Мотив головы имеет в произведении по меньшей мере двойной, причем контрастный смысл. С одной стороны, он реализует собой главную черту Сильвио - стремление первенствовать. С другой, как это видно в приведенных выше примерах, голова соединяется с мотивами жертвы, ущербности и относится к объекту стрельбы.
Как известно, в «Выстреле» содержатся явственные отсылки к «Вильгельму Теллю» Шиллера [Коджак 1970, 204-206, 211-212], [Жолковский 1994, 254], [Шмид 1996], [Заславский 1997, 122-131], [Davydov 1989, 68, 73], [Востриков 1995, 414]. В том числе, соответствие произведений касается сцен «Вильгельма Телля», связанных с головой (на шест была водружена шляпа наместника, на голову сына стрелка было поставлено яблоко). Здесь мы хотим подчеркнуть, что детали, связанные с головой, не только служат сопоставлению обоих произведений, но и оказываются глубоко содержательными во внутренней структуре «Выстрела».
К мотиву головы примыкает мотив лица (в прямом или условном смысле). В своем полку Сильвио на дуэлях бывал «действующим лицом». В цитированных выше строках о готовности офицеров полка подставить голову под пулю Сильвио просматриваются, очевидно, евангельские строки о подставляемых щеках. «Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания» [Пушкин 1948, 74]. Граф покраснел, вспоминая о неприятном для него происшествии, как если бы он получил пощечину. Т.е. здесь ему в некотором смысле вернулась рикошетом пощечина, которую он дал Сильвио. Значимость лица в приведенном выше фрагменте усиливается звуковой оркестровкой, основанной на слове «лицо»: палы/ем, восклш/ания. Общие звуковые фрагменты как бы повторяют общность эмоций, захвативших всех трех участников разговора.
Лицо может присутствовать в тексте и косвенно, без явного упоминания этого слова. Сильвио вспоминает про 1-ю дуэль с графом: «я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства» [Пушкин 1948, 70]. Это означает, что он пристально вглядывался именно в лицо противника.
В данном контексте, как мы сейчас увидим, важно, что в повести присутствуют мотивы выпивки и пьянства. Они уже становились объектом 192
специального обсуждения в упомянутой выше книге В. Шмида [Шмид 1996, 177-178, 188] в связи с мотивировкой отказа Сильвио от выстрелов, но нам необходимо к этому вернуться под другим углом зрения. Кроме того, выпивка отнюдь не всегда сводится здесь к пьянству и относится не только к Сильвио. Перечислим:
«вечером пунш и карты» [Пушкин 1948, 65], «шампанское лилось притом рекою» [Пушкин 1948, 65], «я перепил славного Б***» [Пушкин 1948, 69], «пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно» [Пушкин 1948, 68], «Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться пьяницею с горя, то есть самым горьким пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большею частию в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее» [Пушкин 1948, 71], «знать у тебя, брат, рука не подымается на бутылку» [Пушкин 1948, 72], «Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки» [Пушкин 1948, 72].
Столь настойчивое варьирование мотива выпивки требует объяснения. Учитывая контекст произведения в целом, здесь важно то, что выпивка бьет в голову, лишает человека возможности ясного и независимого поведения, оказывается ударом по свойству «быть личностью». Связь выпивки со стрельбой дана в тексте явно - в эпизоде, когда рассказчик не может попасть в бутылку, а ротмистр шутит, что у того на бутылку не подымается рука. Но намеки на выпивку, связанные как раз с ролью стрельбы, присутствуют и в не вполне явном виде. Хлопанье пробок на прощальном вечере - это отзвуки дуэльного выстрела, за которым Сильвио уезжает и в честь этого устраивает данную встречу. Постоянное хлопанье пробок от шампанского подразумевается и в рассказах Сильвио о разгульной молодости, включающей попойки. Неслучайно сразу же за фразой о том, как Сильвио перепил «славного Б***», следует фраза «Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом» [Пушкин 1948, 69]. Отношение смежности между обеими фразами удостоверяет связь дуэлей и пьянства.
Наряду с угрозой физической гибели от попадания пули в голову в произведении присутствует и экзистенциальная опасность торжества бессмыслицы. Такой унылый потенциальный результат как превращение в горького пьяницу бросает обратный свет и на разгульную (казалось бы, насыщенную) жизнь военного общества (что относится к молодым годам как Сильвио, так и рассказчика, который по ней тоскует - «я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни» [Пушкин 1948, 70]), намекая на то, что по сути бессмысленна и она.
И наоборот - соседство с мотивами пьянства содержит намек на бессмысленность той жизни, которую выбрал для себя Сильвио, сосредоточившись на мести: его оставшийся выстрел столь же бессмыслен, как и удар вина в голову горького пьяницы.
Еще одна реализация идеи первенства связана с противопоставлением множественного и единичного. С самого начала текста, в нем противопоставляются местоимения «мы» и «он», «я» [Шварцбанд 1989, 141-142]. Что особенно интересно, акцент на таком противопоставлении не только реализуется на уровне лексики и грамматики, но также получает и графическое выражение. Первый эпиграф состоит из двух слов и заканчивается на «мы». Вторым словом второго эпиграфа является «я». Основной текст начинается словом «мы». Далее в абзацах несколько раз подряд или через один на первом месте стоят слова, связанные с единичностью или ее отрицанием (те. слова, связанные с первенством, стоят впереди абзацев): «один», «однажды», «мы», «на другой день», «один». Тем самым мотив исключительности находит подтверждение в графическом устройстве текста.
Семиотическим аналогом выстрела по человеку или его умаления является в «Выстреле» лишение его полноценного имени. Имя главного героя не вполне настоящее: «Сильвио (так назову его)» [Пушкин 1948, 65]. Сам Сильвио говорит о графе: «молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его)» [Пушкин 1948, 69]. «Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой» [Пушкин 1948,70]. Здесь анонимность двойная. Во-первых, указание «кто-то» делает отсутствие имени поверенного значимым фактом. Во-вторых, называние «известная особа» указывает на графа, не называя не только его имени (которое ранее Сильвио не захотел сообщить), но даже и не упоминая наименование «граф».
К этому можно прибавить усечение имени, от которого остается лишь одна «голова». Один пример - сумасброд Р***_ Другой - упоминание Б***, воспетого Д. Д-м. (Тем самым раскрытие имен Бурцова и Давыдова в современных собраниях сочинений противоречит поэтике повести. Здесь пропадает смысловой потенциал, связанный не только с мотивом усечения имени и анонимности, но и с мотивом отсутствия как такового [Заславский 2016, 9]. Соответственно, актуальным является сохранение всех авторских элементов текста - см. дискуссию на эту тему [Лотман 1987, 89-95], [Шапир 2009, 249-274]). Сообщается про поместье, принадлежащее графине Б***. В первом же (а потому особо значимом) предложении основного текста говорится: «Мы стояли в местечке ***». О месте поселения рассказчика в отставке говорится - деревенька Н** уезда, он «отправился после обеда в село ***». В этих примерах сошлись 1) мотив пустоты, 2) мотив головы в отрицательной реализации и 3) отсутствие имени.
Даже в том случае, когда имя раскрывается, это делается не сразу, а через стадию анонимности: «- А сказывал он вам имя этого повесы? - Нет, ваше сиятельство, не сказывал... Ах! ваше сиятельство, - продолжал я, догадываясь об истине, - извините... я не знал... уж не вы ли?..» [Пушкин
1948, 73].
В обсуждаемом аспекте представляет интерес еще одно обстоятельство, до сих пор как правило игнорировавшееся исследователями и критиками или ставившее их в тупик. «У него водились книги, большею ча-стию военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; за то никогда не возвращал хозяину книги, им занятой» [Пушкин 1948, 65]. По этому поводу еще недоумевал Надеждин: «К чему еще эта подробность, что Сильвио не отдавал книг, взятых на прочтение?» [Пушкин в прижизненной критике 2003, 133]. Между тем, с сюжетом повести здесь связь прямая. Продемонстрирована автономность, неотменяемость слова (строительного материала книг): коль скоро оно раз дано, обратно потребовать его уже нельзя. По сути, здесь обыгрывается поговорка «дать слово». Именно это и происходит со словом графа, неосмотрительно пообещавшего Сильвио право отложенного выстрела.
Сходные взаимосвязи присутствуют и во фрагменте о жизни рассказчика в деревне: «Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть» [Пушкин 1948, 71]. Слово откладывается в памяти рассказчика и становится неотменяемым, тем самым приобретая довлеющий характер.
Таким образом, тема слова как сущности, связанной со стрельбой и выстрелом, имеет самые разные, в том числе и неявные, проявления в повести. Более того, данные наблюдения допускают обобщение: в повести самостоятельную значимость приобретает не только тема слова как такового, но и тема текста как сущности, в которой отдельные слова складываются в систему. При этом происходящее с текстом, как сейчас увидим, переплетается с темой стрельбы - вплоть до того, что сама структура текста в ряде случаев воплощает в себе свойства выстрела.
Сюжет повести, напомним, демонстративно ориентирован на «Вильгельма Телля». Когда Сильвио стреляет в картину, всаживая пулю в пулю, он своей меткостью как бы повторяет выстрел Вильгельма Телля. А поскольку там изображен вид из Швейцарии, то Сильвио к тому же метонимически как бы поражает тот самый текст, персонажем которого Телль является, а тем самым - и самого себя. (Ранее нам уже приходилось писать, что граф в сцене дуэли стоит напротив зеркала, те., нарушая правила дуэли и повторно стреляя по противнику, в некотором смысле стреляет в самого себя, разрушая свою личность [Заславский 1997, 123]. Таким образом, оба противника стреляют в своих двойников - литературного и зеркального.) Он этим ставит точку в собственной судьбе, которая с окончанием истории с графом исчерпывает смысл, а вскоре оканчивается и буквально под Ску-лянами, где Сильвио оказывается жертвой стрельбы.
О буяне Б*** говорится, что он был воспет Д. Д-ым - реальный дуэлянт Бурцов становится героем текста. Еще один элемент связи текста и жизни - прямое дублирование в эпиграфах, те. сущностях текстовой природы, элементов сюжета, взятых из «реальности» «Выстрела» и связанных с дуэльной историей. Начальная фаза вражды соперников передана как своего рода дуэль на текстах: «на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами» [Пушкин 1948, 69].
Шкафы с книгами и стоящими наверху бюстами антропоморфным образом воспроизводят фигуру человека. Но, с другой стороны, шкаф с бюстом своими очертаниями также напоминает и бутылку. В ней горлышко соответствует голове, а основная часть - туловищу. В эпизоде, когда рассказчик тренируется в стрельбе после вынужденного перерыва, он стреляет как раз по бутылке и промахивается. Но бутылка здесь заменяет противника - и по функции, и по внешнему очертанию. Таким образом, шкафы с книгами, бутылка и человек под прицельным огнем оказываются тремя вариантами одного и того же. Соответственно, мотивы стрельбы соединяют персонажей из совершенно разных миров - графа (с его книжными шкафами) и рассказчика (с его обществом горьких пьяниц, одним из которых он сам чуть не стал).
«Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня» [Пушкин 1948, 74] - здесь благодаря слову «поразило» ак-туализуется мотив стрельбы. Это подтверждается композиционно: беседа с графом внезапно обрывается, происходит скачок, в котором сказано о гибели Сильвио, а затем внезапно обрывается и текст повести. Дело обстоит таким образом, как если бы в словесном известии о гибели Сильвио пуля поразила бы его самого, а также текст в целом. (С.Г. Бочаров подчеркивает: «Повесть не тождественна рассказываемой “истории”, фабуле. Повесть Пушкина - композиция этой истории, фабулы, та композиция, в которую членится история в рассказах ее участников» [Бочаров 1974, 175]. Мы же, наоборот, выявляем структурные элементы, общие между повестью и историей - этими двумя, действительно, разными сущностями.) Более того, пока текст длился (жил своей жизнью), погибших в повести не было. И только в конце точка в тексте ставит точку в жизни Сильвио. Но поскольку с прекращением истории о Сильвио прекращается и текст в целом, а рассказчик исчезает одновременно с ним, это служит намеком, что смысл жизни повествователя исчерпан рассказом о дуэльной истории - вне ее у него в жизни ничего нет (как это видно и по образу его жизни в деревне).
Текст в произведении (словесный или изображение) обладает важным общим свойством. Он тем или иным образом подвергается порче, насилию или является дефектным изначально. Сильвио не возвращает взятых книг, в деревне рассказчика книги находятся в неподобающем месте (под шкафом или в кладовой), офицер Р*** стирает с доски счет, написанный Сильвио, сведения о судьбе Сильвио отчасти обесцениваются тем, что они не вполне достоверны («сказывают»), фамилии Бурцова и Давыдова представлены лишь заглавными буквами, остается неизвестным, что Сильвио сказал на ухо графу, когда спровоцировал дуэль, Сильвио всаживает пули в изображение туза на воротах, потом он простреливает картину двумя пулями.
Тем самым в произведении разрушительные тенденции проявляют себя двояко - и по отношению к человеку (мотивы стрельбы) и по отношению к тексту, чем проявляет себя параллелизм между ними.
Таким образом, ключевые мотивы выстрела, стрельбы и разрушения не только воплощены в сюжете явным образом, но и реализованы в самой структуре текста. (Здесь можно говорить о наличии «неочевидных смысловых структур» текста [Карасев 2009].) Проведение одного и того же лейтмотива на разных уровнях повторяет, иконическим образом реализует образ жизни героя, маниакально посвященной одной идее. Реализация комплекса, связанного со стрельбой и разрушением, в структуре текста деавтоматизует и делает ощутимым само понятие текста, что приводит к параллелям между текстом и судьбой человека.
Список литературы Выстрел в структуре "выстрела"
- Благой Д.Д. Мастерство Пушкина. М., 1955. С. 223-240.
- Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. М., 1974.
- Востриков А.В. Специфика конфликта повести Пушкина «Выстрел» связи с пространственно-временной организацией текста//Лотмановский сборник. Вып. 1. М., 1995. С. 410-414.
- Гей Н.К. Проза Пушкина. Поэтика повествования. М., 1989.
- Жолковский А. Семиотика «Тамани»//Сборник статей к 70-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тарту. 1994. С. 248-256.
- Заславский О.Б. Двойная структура «Выстрела»//Новое литературное обозрение. 1997. № 23. С. 122-131.
- Заславский О.Б. О пушкинском «Выстреле»: отсутствие как элемент структуры//Toronto Slavic Quarterly. 2016. № 58. URL: http://sites.utoronto. ca/tsq/58/index_58.shtml (дата обращения 1.03.2018).
- Заславский О.Б. Парадокс жертвы в «Выстреле»//Парадоксы русской литературы. СПб., 2001. (Петербургский сборник. № 3). С. 117-131.
- Карасев Л.В. Флейта Гамлета. Очерк онтологической поэтики. М., 2009.
- Коджак А. О повести Пушкина «Выстрел»//Мосты. 1970. Т. 15. С. 190-212.
- Лотман Ю.М. К проблеме нового академического издания Пушкина//Пушкинские чтения в Тарту. Таллин, 1987. С. 89-95.
- Петровский М.А. Морфология пушкинского «Выстрела»//Проблемы поэтики. М., 1924. С. 173-204.
- Пушкин в прижизненной критике. 1831-1833/под общ. ред. Е.О. Ларионовой. СПб., 2003.
- Шапир М. Статьи о Пушкине. М., 2009.
- Шварцбанд С. История «Повестей Белкина». Иерусалим, 1993.
- Шмид В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении. «Повести Белкина». СПб., 1996.
- Davydov S. "The Shot" by Aleksandr Pushkin and its Trajectories//Issue in Russian Literature before 1917. Selected Papers of the Thirs World Congress for Soviet and East European Studies/ed. by J. Douglas Clayton. Columbus, Ohio, 1989. P. 62-74.