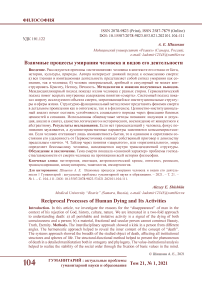Взаимные процессы умирания человека и видов его деятельности
Автор: Шишкин Алексей Ефимович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (53), 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. Расследуются причины «исчезновения» человека в контексте его отказа от Бога, истории, культуры, природы. Автора интересует двоякий подход к осмыслению смерти: а) вся тленная и имитационная деятельность представляет собой сигнал умирания как сознания, так и человека; б) человек материальный, дробный и секулярный не может конструировать Красоту, Истину, Вечность. Методология и новизна полученных выводов. Междисциплинарный подход показал излом человека с разных сторон. Герменевтический подход помог вскрыть внутреннее содержание понятия «смерть». Системный подход показал широту исследуемого объекта смерти, затрагивающей все институциональные структуры и сферы жизни. Структурно-функциональный метод помог представить феномен смерти в детальном проявлении как в онтогенезе, так и в филогенезе. Ценностно-институциональный анализ помог осознать устойчивость социального порядка через фиксацию базовых ценностей в сознании. Использованы общенаучные методы познания: индукция и дедукция, анализ и синтез, единство логического и исторического, восхождение от конкретного к абстрактному. Результаты исследования. Если нет трансценденций у человека, фокус понимания зауживается, а духовно-нравственные параметры заменяются консьюмеристскими. Если человек отстаивает лишь имманентность бытия, то в одиноком и сиротливом состоянии его удаленность от Первоисточника означает собственный приговор к довольству предельным «ничто». Ч. Тайлор через понятия «закрытого», или «горизонтального», мира определяет бессмыслицу человека, находящегося внутри трансцендентной структуры. Обсуждение и заключение. Тема смерти показала «сквозной характер» проблемы господства/зависимости от смерти человека на протяжении всей истории философии.
Негэнтропия, имитация, антропологический кризис, онтогенез, ремиссия, трансцендирование, коммунитаризм, танатология, иммортология
Короткий адрес: https://sciup.org/147218527
IDR: 147218527 | УДК: 101.122 | DOI: 10.15507/2078-9823.53.021.202101.104-111
Текст научной статьи Взаимные процессы умирания человека и видов его деятельности
Философия только тем и занята, что осмысляет умирание и смерть [22, с. 10–11]. Главная научная проблема заключается в тенденции увеличения депрессивного состояния, связанного с повышением уровня безработицы1, разводом семей (80 %), нищенской заработной платой (от 8 тыс. руб.) и оскорбительной пенсией (теневой бизнес 25 % без отчисления налогов). По данным Всемирной организации здравоохранения, от суицидов смертей бывает больше, чем от всех войн вместе взятых [6]. Причем мужчины совершают самоубийства в пять раз чаще, чем женщины, в соотношении 45,7:100 против 9,8:100 тыс. чел. [13, с. 86]. Возможно, статистические данные значительно занижены, потому как в исследовании профессионального выгорания врачей показатель в разных специальностях доходит до 72 % без всякой надежды на ремиссию [28].
Культурфилософские мутации темы смерти представляют процессы, где визуальная мозаика доминирует над сакральным текстом, цифра вытесняет букву, компьютер заменяет человеческое общение, медиасоциализация оттесняет общинную коммюнотарность, клиповое сознание опровергает созерцание, скорочтение становится предпочтительнее осмысления произведений.
Методология исследования
Аксиологический подход показывает и предопределяет испорченность нравов в связи со смещением ценностных ориентиров. За опошлением сакрализации Бога, философии и науки скрывается смерть человека. Ценностно-институциональный анализ помог осмыслить вестернизацию как насаждение чужих паттернов, трансформирующих социальный иммунитет общества.
Метафизический подход рассматривает диффузию мира в эсхатологической перспективе. Концепция «философии общего дела» (Н. Федоров) заставляет задуматься о способах борьбы со смертью и придает теме смерти этический характер и космопланетарный масштаб.
Дихотомический подход раскрывает природу смерти с диаметрально противоположных берегов зрения. Ф. Ницше представляет смертельно больного паразитом общества, которого следует со стороны врачей беспощадно давить и устранять как вырождающуюся жизнь [21, с. 8]. И. Кант, напротив, говорит: «Если больной, долгие
1 В 2010 г. безработица составила 8,6 %. К 2017 г. лишь каждый пятый безработный регистрировался в государственной службе занятости. Такую ситуацию можно объяснить высоким уровнем бюрократизации в службе занятости, сложностью постановки на учет, низким пособием по безработице. В 2020 г. безработица увеличилась за счет пандемии COVID-19.
годы прикованный к постели, испытывающий жесточайшие страдания, постоянно призывает смерть, которая избавит его от мучений, – не верьте ему. Это не есть его действительное желание» [17, с. 300].
Танатология как наука о смерти, хотя и изучает динамику механизма умирания и причины смерти, но акцент делает лишь на патологических отклонениях.
Научно-оптимистическая иммортология осуществляет вызов смерти посредством клонирования человека, трансплантологии органов и создания искусственных хромосом. Не механистически и автоматически с помощью медицины воссоздается бессмертие, а исключительно метафизически, где «идеализм трансцендирования заканчивается посмертным бытием» [5, с. 18].
Объектом исследования является человеческая смерть как неизбежное социальное явление в земной юдоли.
Предметом исследования является двусторонний процесс умирания, как от тления человека к аннигиляции общества, так и от несовершенного, разлагающегося мира происходит разрушение отдельной личности.
Цели исследования: 1) объяснить роль депрессии/смерти как социальное явление, втягивающее в свою орбиту все структурные взаимосвязи; 2) обозначить поиск соборного и коммунитаристского смысла жизни, с которого начнется восстановление человека, семьи, общества, природы и Бога. Для всех народов исходным пунктом в поиске «смыслов» является национальное и религиозное самосознание. Нежелание укреплять социальные институты и насаждение потребительского отношения к природе заканчиваются «иссыханием культуры» (О. Шпенглер) и человека.
Результаты исследования
Депрессивное состояние «живого мертвеца» обусловлено рядом факторов, связанных с отторжением Бога, чрезмерной эксплуатацией человека, небрежным отношением к природе, упразднением памяти предков (коммеморация), забвением философии, устремленностью к консьюмеризму.
Смерть Бога обусловлена переходом из мистического Средневековья в секулярную эпоху Возрождения и Нового времени. Если раньше Бог был трансцендентным, то теперь – имманентным в «проекции человеческой субъективности» (Л. Фейербах). Если в Средневековье Бог был «Кто», то при капитализме стал «что», как фактор, мешающий эксплуатировать и наслаждаться плодами преступлений. Редукция Бога просматривается в нисхождении из экзистенциального бытия в разряд секуляризма и постмодернизма.
Остатки «наличия Бога» обусловлены утилитаризмом по логике «из двух зол выбираем меньшее». Если Его присутствие регулирует преступность, то – хотя и не верим в Бога, поддерживаем религию как фактор сдерживания от произвола.
Смерть Бога мы рассматриваем как утерю смысла коммунитарной жизни, как смену парадигм от духовных к буржуазноматериалистическим целеполаганиям, как исчезновение человека.
Г. В. Ф. Гегель говорил об «убийстве» Бога как о процессе трансформации мира и общества от объективной субстанциональности к редуцируемой субъектности. Жизнь «для-себя-бытие» абстрагировала божественную сущность в виде Абсолютного Духа или Субстанциального Субъекта как промежуточную иерархию Бога [7, с. 434]. «Слышите звяканье колокольчика»? – вслед за Гегелем вторит Г. Гейне. – «Преклоните колена. Это несут святые дары умирающему Богу» [9, с. 132–133]. Гейне в убийстве Бога обвиняет Канта, который в «Критике чистого разума» вынес вопрос о Боге за пределы науки, отчего начались необратимые идейные преобразования [9, с. 196].
Манифест Ф. Ницше об убийстве Бога («Веселая наука») и признании, что «мы все его убийцы», ознаменовал переход обращения «твари» в Бога. Так богочеловек стал челове- кобогом. «Осталось победить еще и Его тень!» [20, с. 71]. Для кого-то и Его тень перестала существовать. Процессы энтропии превратили вселенную в «застывшее, немое Ничто» [14, с. 342] как «мертвое тело природы» [14, с. 340]. С тотальным умерщвлением Бога человек стал сам для себя устанавливать закон. И хотя системно мир трещит по швам, большинство религиоведов упорствуют в секулярности и консьюмеризме, гедонизме и эвдемонизме.
А. П. Чехов в рассказе «Черный монах» показывает трансформацию гендерных отношений, когда женщина как «немощный сосуд» не пускает мужа к трансцендентным высям, отчего в нем начинают происходить энтропийные и девиантные процессы. Так, секуляризация и консьюмеризм выхолащивают сакральное из человека, семьи и общества.
Как бы люди ни умертвляли Бога, Бог не может умереть, хотя и известен исторический феномен Его распятия. Акт распятия следует рассматривать как технологию «разрушения смерти» и возможность перехода из временного мира в вечность: «смер-тию смерть поправ» (пасхальный тропарь).
Следующим феноменом умирания стала философия. Одних мыслителей ощущение духовной смерти заставляет осмыслять тему бессмертия человека через сотериологию, метафизику и креационизм. Здесь философия рассматривает смерть как величайшее благо («гений-вдохновитель» [29, с. 217]) для человека по причине фактора вразумления. Для других исследователей, в силу поверженности материальным тлением, поиск истины заканчивается натурфилософией и психосоматикой в контексте постмодернизма.
Для В. Франкла смерть стала двигателем в поиске смысла жизни. Б. Паскаль считал, что выход души из темницы-тела вовсе не зло, а благо [23; 31]. И. Д. Ялом момент преодоления смерти осмысляет как зарождение фундаментального мотива человеческих переживаний. А. Камю рассматривает смерть как тотальный абсурд и равнодушие к человеку Бога, природы, общества. Мысли о кончине и духовные страдания заставляют С. Кьеркегора размышлять о тайнах бытия, тогда как выздоровление человека сулит «смерть для мира» [18, с. 252]. Й. Хейзинга экзистенциальную тревогу смерти представляет как проявление героического и предельного садизму и мазохизму поступка.
Для выявления общего феномена осмысления смерти все сходятся в рассуждении о мести и наказании (кара за проступок) как адекватном выборе человека. С одной стороны, смерть, как и любовь, философы рассматривают за пределами добра и зла; с другой – ищут способы победить смерть не путем эскапизма (бегства от реальности), а экзистенциально, т. е. через проживание страдания как часть жизни.
Можно констатировать смерть философии. Если ее предмет исследования – Бог, социальное, личное и природа – умерли, то умерла и философия. Философия, как и религия, стала схоластикой. Со смертью Гегеля умерла классическая философия. Постмодерн с пострациональным мышлением, основанный на плюрализме и агностицизме, отказывается незнания превращать в знания. В то же время оптимистическая эпистемология заключается в постижении монизма и теологизма.
Вслед за религией и философией можно констатировать о смерти науки. Сколько было амбиций у науки на излечение больных, обещаний прокормить голодных, найти решение пространственно-временных трудностей, но «воз и ныне там». Умирание науки связано с явлением «флюгерства». Когда подул «ветер» марксистского материализма, все стали расхваливать социализм. Когда изменилось направление, все стали рукоплескать капитализму. А где же истина, о которой должны радеть гносеология и онтология? На разработку оружия тратят 50 % от валового внутреннего продукта, на фундаментальные науки (естественные и математику) – 10 %, на образование и медицину – всего 5 %. Циничный лозунг на- уки: «Мы делаем то, за что платят!» – неминуемо приведет к гибели цивилизации. Так от смерти рождается смерть. Ж. Бодрийяр «новую атомизацию» и «массовизацию» диагностирует как «смерть социального» [25].
Смерть Бога, философии и науки логично перетекает в антропологический кризис. Классическая теория познания Р. Декарта выстраивает концепт субъекта независимо от материальной вещи [11, с. 269]. Для И. Канта субъектом выступает душа [16, с. 52], для И. Фихте субъект представляет субстанциональное и сущее начало как абсолютный субъект [26, с. 79].
В постмодернистской философии субъект медленно исчезает. Ж. Батай в работе «Внутренний опыт» пишет о безысходности субъекта, теряющего себя в опыте и «испаряющегося» [1]. Ж. Бодрийяр также пишет о «ежеминутном распадении» [2] и «исчезновении» [3, с. 135] субъекта. Ж. Деррида в книге «Письмо и различие» описывает, как «субъект... дробится и раскрывается» [12]. По мнению К. Ясперса, кризис вызван скукой, которая заглушается наркотиками всех видов и острыми ощущениями [31]. Ф. И. Тютчев писал:
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Современные исследователи пытаются «воскресить» [15; 24] и «реабилитировать субъекта» [4] как принципиально новую модель с новыми основаниями. Для нас эмер-джентной моделью восстановления человека должна послужить идея коммунитаризма [27].
В Санкт-Петербургском институте точной механики и оптики под руководством Г. Н. Дульнева исследовали карлиановское свечение, которое в сочетании с акупунктурной голограммой показывает состояние внутренних органов. Эксперимент показал, что интенсивность, форма и цвет свечения связаны со способом умирания. По своей причине амплитуда колебаний кривых на дисплее прибора плавно затухает в течение первых двух суток, а затем стабилизируется, становится небольшой, но постоянной. Преждевременная случайная смерть также показывает амплитуду колебаний кривых в течение первых 20 ч, после которых происходит резкая вспышка, а затем спад до стабильного состояния. Смерть в результате убийства или самоубийства показывает колебания, которые не стабилизируются, что дает предположение, в котором сознание существует независимо от работы головного мозга. Данный эксперимент практически может применяться в судопроизводстве.
Смерть можно рассматривать по старости, как насилие или героизм в результате жертвы.
Смерть по старости представляют русские поговорки: «Смерть косит и загребает человеческие жизни, как коса и грабли – полевую траву»; «жнет род человеческий, как серп колосья» [10]. Человек не знает не только о времени смерти, но и о дальнейшей судьбе своего тела и души (реинкарнация, прах, сон, воскрешение – ад – рай). Смерть сомнительна по отношению и к живущим, и к умершим: «для одних она не существует, а другие уже не существуют» [30, с. 126] по причине лишения страданий [19, с. 116].
Смерть как насилие предполагает принудительное воздействие (убийство, приговор суда, мазохизм, болезнь). Смерть как месть «кровь за кровь» (Ветхий завет) поддерживает Г. В. Ф. Гегель, считающий, что преступника следует наказывать смертной казнью [8, с. 151]. Цель насилия может быть вызвана благородными помыслами перевоспитания через вызывание сострадания к проступку (унижение или рабство других людей, как действие против воли и желания) или уголовными мотивами (обладание ценностями убитого).
Смерть как жертва красна страданием за друга и надеждой на спасение души. «Подвиг» может обессмертить имя герою и осмысляется скорее как социокультурный идеал, нежели «натуральный» контекст. Добровольная смерть Сократа (мог скрыться от суда) послужила следующим поколениям образцом бессмертия. Герой Данко у писателя М. Горького «сердцем» осветил жизнь людей. Прометей ценой жизни добыл огонь для человечества не только для поддержки очага, а, главным образом, для развития знания, с помощью которого до сих пор рождаются разные ремесла.
Осмысление героического поступка обусловлено воспитанием: «Помни о смерти, и тогда не согрешишь» (патристика), а также памятью потомков как бессмертие в памятниках, документах, стихах. Идея бессмертия поддерживается «коллективным бессозна- тельным» через воспевание славы героя как доблестной жизни [10].
Идея бессмертия не доказана в античном понимании «облачения» души в тело и «раздевания» тела от души (Платон, Аристотель). Механистическая идея субстанциональной изменчивости жизни и смерти также не подтверждается эмпирически. Жизнь и смерть всеми философами осмысляется в дуализме «метафизической пустоты» и «символической смертью» как переходом в иную жизнь [12]. Но если нет жизни после смерти, то жизнь не имеет смысла.
Обсуждение и заключение
Что может стать преградой смерти? Комфорт? Нет. Опыт на мышах показывает, что если дать все условия для жизни, то первые месяцы они активно размножаются, а затем начинают деградировать и умирать всем семейством. При прочих пороках (нежелание рожать и воспитывать детенышей) наблюдаются каннибализм и гомосексуализм.
Может быть, преградой смерти является коммунитаризм? Но суть вопроса связана с тем, как жестокие и бессовестные люди, захватившие власть, добровольно откажутся от нее в пользу мудрецов (первой страты) и патернализма в общинах.
Может быть, преградой смерти станет киборг (человекоробот)? Тогда что станет с личностью? Вот и получается, что жизнь на Земле подобна экзамену для вечной жизни как прохождение инициации.
Рефлексия о смерти подводит к дуальному осмыслению, где смерть есть неизбежность и тлен или жертвенное служение, через которое получают в награду Царство Небесное? В первом случае смерть все спишет, потому как жизнь зачинается в грехе – случайна, аморальна и безбожна. Этого «больного» чело- века мы пожалеем, но назовем «неверным» [32, с. 139], «живым мертвецом» [34, с. 63] и «внутренним преступником» [33]. Во втором случае смерть становится преддверием будущей загробной и вечной жизни.
Наш ответ связан с поиском смысла жизни. В процессе прохождения инициации или сдачи «экзамена» на зрелость все мысли должны «ологоситься» для полноты экзистенциального бытия через очищение от духовной «грязи» – зависти, лицемерия, лжи.
Аксиологические установки также должны подвергнуться ревизии. Не перечисление ценностей и эрзац-ценностей через запятую, не конструирование схем в порядке очередности «материальное/духовное», с обратны- ми процессами, а создание социального системно-структурного механизма наподобие вечного двигателя, способного генерировать не гордость, а милосердие, не плотскую страсть, а аскетизм и любовь. В первом случае жизнь и смерть будут чередоваться, как и раньше. Во втором случае речь идет о возможном элиминировании энтропии.
Vol. 2. Moscow, 1990, 829 p. (In Russ.).
(In Russ.).
Список литературы Взаимные процессы умирания человека и видов его деятельности
- Батай Ж. Внутренний опыт. – СПб. : Axioma / Мифрил, 1997. – 336 с.
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М. : Добросвет, 2000. – 387 с.
- Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. – М. : Добросвет, 2000. – 258 с.
- Верещагин О. А. Субъект истории в постмодернистской парадигме : автореф. дис. … канд. филос. наук. – Н. Новгород, 2007. – 28 с.
- Вишев И. В. На пути к практическому бессмертию. – М., 2002. – 324 с.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) [Электронный ресурс]. – URL: http://www. who.int/mental_health/prevention/en/index.html.
- Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. – М. : Академический проект, 2014. – 494 с.
- Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М. : Мысль, 1990. – 151 с.
- Гейне Г. К истории религии и философии в Германии. – М. : Прогресс, 1994. – 232 с.
- Грушко Е. А., Медведев Ю. М. Словарь русских суеверий, заклинаний, примет и поверий. – Н. Новгород : Русский купец ; Братья славяне, 1995. – 560 с.
- Декарт Р. Сочинения : в 2 т. Т. 1 : Рассуждение о методе. – М. : Мысль, 1989. – 654 с.
- Деррида Ж. Письмо и различие. – СПб. : Академический проект, 2000. – 432 с.
- Евсеев А. А. Статистический анализ тенденций и факторов суицидального поведения // Статистика и экономика. – 2012. – № 6. – С. 86–90.
- Жан-поль. Мертвый Христос говорит с вершины мироздания о том, что Бога нет // Логос. – 1994. – № 6. – С. 340–345.
- Ильин А. Н. Субъект в пространстве философии постмодернизма // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – 2010. – № 1. – С. 27–33.
- Кант И. Критика чистого разума. – М. : Мысль, 1994. – 591 с.
- Кант И. Трактаты и письма. – М. : Наука, 1980. – 712 с.
- Кьеркегор С. Страх и трепет. – М. : Республика, 1993. – 383 с.
- Лапшин И. И. Ars moriendi // Вопросы философии. – 1994. – № 3. – С. 116.
- Ницше Ф. Веселая наука: злая мудрость. – М. : Триада-Файн, 1993. – 239 с.
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого // Ницше Ф. Сочинения : в 2 т. – М. : Мысль, 1990. – Т. 2. – 829 с.
- платон. Собрание сочинений : в 4 т. – М. : Мысль, 1993. – Т. 2. – 528 с.
- Стрельцова Г. Я. Паскаль и европейская культура. – М. : Республика, 1994. – 495 с.
- Смирнова А. А. Проблема субъекта в контексте постсовременности : автореф. дис. … канд. филос. наук. – СПб., 2009. – 169 с.
- Терещенко Н. А. Социальная философия после смерти социального. – Казань : Казанский университет, 2011. – 368 с.
- Фихте И. Г. Основа общего наукоучения // Фихте И. Г. Сочинения : в 2 т. – СПб. : Мифрил, 1993. – Т. 1. – 687 с.
- Шишкин А. Е. Дихотомия Восток – Запад в контексте коммунитаризма. – Самара : Мечта, 2020. – 492 с.
- Шишкин А. Е. Профессиональное «выгорание» врача. – Самара : Мечта, 2020. – 396 с.
- Шопенгауэр А. Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа : сборник произведений. – Минск, 1998. – С. 217.
- Эпикур. Эпикур приветствует Менекея // Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения. – М. : Политиздат, 1991. – 659 с.
- Ясперс К. Ницше и христианство. – М. : Медиум, 1993. – 114 с.
- Abd Elwahed A. Contribution à une théorie sociologique de l’esclavage. – Paris : Mechelinck, 1931.
- Pulleyblank E. G. The Origins and Nature of Chattel Slavery in China // Journal of the Economic and Social History of the Orient. – 1958. – Vol. 1. – No. 2. – P. 204–211.
- Wiesdorf H. Bergleute und Hüttenmänner im Altertum bis zum Ausgang der römischen Republik: Ihre wirtschaftliche, soziale und jurististische Lage. – Berlin : Akademie-Verlag, 1952.