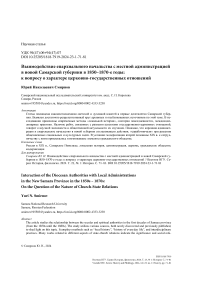Взаимодействие епархиального начальства с местной администрацией в новой Самарской губернии в 1850-1870-е годы: к вопросу о характере церковно-государственных отношений
Автор: Смирнов Ю.Н.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена взаимоотношениям светской и духовной властей в первые десятилетия Самарской губернии. Выявлен достаточно репрезентативный круг архивных и опубликованных источников по этой теме. В исследовании применены современные методы «локальной истории», «истории повседневности», междисциплинарные практики. Наличие работ, связанных с разными аспектами государственно-церковных отношений, говорит о научной значимости и общественной актуальности их изучения. Показано, что коронная администрация и епархиальное начальство в новой губернии согласовывали действия, «соработничали» при решении общезначимых социальных и культурных задач. В условиях модернизации второй половины XIX в. к сотрудничеству с ними привлекались и возникавшие элементы гражданского общества.
Россия в xix в, самарское поволжье, локальная история, администрация, церковь, гражданское общество, модернизация
Короткий адрес: https://sciup.org/147243536
IDR: 147243536 | УДК: 94(47).06+94(47).07 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-1-71-81
Текст научной статьи Взаимодействие епархиального начальства с местной администрацией в новой Самарской губернии в 1850-1870-е годы: к вопросу о характере церковно-государственных отношений
,
,
1 января 1851 г. в Российской губернии появилась новая губерния – Самарская, а вскоре и Самарская епархия. Многие административные, хозяйственные, социально-культурные вопросы, касающиеся их создания и становления, были освещены в ряде публикаций и обобщены в сводных трудах [Якунин, 2021; История Самарского Поволжья…, 2020]. Однако недостаточно изученной остается тема взаимодействия светской и духовной властей губернии в начале их существования.
1850–1870-е гг. были временем трудов первых губернаторов и архиереев по отладке различных звеньев и сторон управления в сложной обстановке подготовки и проведения кардинальных реформ, а также двух тяжелых войн (Крымской и Русско-турецкой). Администрация Самарской губернии и епархиальное начальство старались согласовать свои практики управления. Наряду с конкретно-историческими наблюдениями над такими практиками целью данного исследования стал теоретический анализ характера церковно-государственных отношений, складывавшихся на локальном уровне.
Для оценки этих отношений нередко используется степень их близости к православному идеалу «симфонии» (в переводе с греческого буквально «созвучию» или «согласию») между «священством» и «царством». Этот принцип был сформулирован в VI в. в кодексе византийского императора Юстиниана. С юридической точки зрения он подразумевал автономию государства и церкви, «светской и духовной властей» [Мигунова, Романовская, 2013, с. 148].
«Симфония властей» применительно к различным периодам истории русской православной церкви и государственности была темой ряда исследований и публикаций, в том числе известных российских религиоведов [Шмидт, 2009] и историков [Белякова, 2013]. В авторитетном дореволюционном курсе церковного права Н. С. Суворова допускалась возможность «симфонии» церкви и государства в Российской империи при всем «неудобстве» ее применения в реальном управлении [Суворов, 2004, с. 460]. К иному заключению пришел в послереволюционной эмиграции историк церкви А. В. Карташев, считавший, что церковь, безусловно, находилась не в «симфонии» с империей, а в подчинении ей [Карташев, 1996, с. 171]. С последним выводом согласны большинство и современных исследователей, и служителей Русской Православной церкви (Основы социальной концепции, 2008, с. 19, 21) [Цыпин, 2006, с. 460].
Карташев, указывая недостатки имперской системы церковно-государственных отношений, все-таки считал «синодальный» период «самым блестящим и славным в истории русской церкви», поскольку тот был отмечен множеством «подвигов и достижений» ее «талантливых, трогательных и святых по жизни лиц» [Карташев, 1996, с. 172, 179]. При любой политической форме данных отношений, как ныне также подчеркивают религиозные деятели и ученые, церковь была и остается готовой к продуктивному «соработничеству» со светскими властями. Прежде всего это касается сфер воспитания, образования, милосердия, но затрагивает и вызывающие обоюдный интерес вопросы управления или хозяйствования (Основы социальной концепции, 2008, с. 6, 8) [Лескин, 2007, с. 172–173]. Таким образом, для многих современных авторов наличие и степень воплощения «симфонии» властей или «автономии» церкви в государстве вовсе не являются главными критериями оценки и обязательными условиями успешности ее социального служения, выполнения иных функций.
История Самарского края, начавшаяся с середины девятнадцатого столетия в административном отношении как бы заново, дает интересные материалы для изучения складывания конкретных форм и определения характера реального взаимодействия между органами светской и духовной власти в российской провинции. Источниковая база такого исследования представлена документами различных столичных и местных архивов, периодикой и другими опубликованными материалами. Теоретическую основу составляют современные методы «локальной» и «биографической истории», иные проверенные практикой приемы, плодотворность применения которых была показана в ряде работ об истории Самарской епархии и ее деятелях (см. [Артамонова, 2021; Климкина, 2020; Якунин, 2019] и др.). По схожему пути преимущественного описания деятельности архиереев или иных видных служителей церкви на определенной территории шло создание трудов об имперском прошлом других православных епархий, в том числе соседних с Самарской [Горлов, Боброва, 2010]. В данной статье преследовалась цель перейти от событийно-фактографического изложения к более глубокому анализу отношений церковноначалия и местной администрации на региональном уровне.
С административной точки зрения образование Самарской епархии было вторичным шагом в отношении к созданию губернии. Подчиненное положение церкви «синодального периода», включение ее в систему госучреждений проявились в полной мере в императорском указе от 19 января 1850 г. В нем создание новой епархии прямо объявлялось следствием открытия с 1 января 1851 г. Самарской губернии: «…Чтоб сообразно общему положению пределы епархии совпадали с пределами губернии» (Пятидесятилетний юбилей Самарской епархии, 1901, с. 3).
28 марта 1851 г. в Самару прибыл епископ Евсевий (Орлинский). Торжественное открытие епархии состоялось 31 марта [Алабин, 1877, с. 77–78]. Епархиальные учреждения заработали три месяца спустя после начала деятельности губернских органов управления.
Из Государственного Казначейства на содержание штатных служителей епархии (епископа с архиерейским домом, кафедрального собора и консистории) казна отпускала строго оговоренную сумму – около 5 тыс. руб. в год. Еще 4 тыс. руб. выделялось на найм помещений для епархиальных учреждений и служб (Пятидесятилетний юбилей Самарской епархии, 1901, с. 3–4).
Никаких преференций в связи с деятельностью в недостаточно освоенном и многоконфессиональном регионе у новой епархии не было. Это делалось в полном соответствии с административным статусом Самарской губернии, которую отнесли к числу «внутренних губерний Империи» с «нормальными», т. е. обычными, штатами чиновников 1.
Кроме того, из Министерства государственных имуществ для нужд самарского архиерея и его сотрудников были отведены мельница, луг и рыбные ловли, приносящие до 1500 руб. годового дохода. Небольшие лесные и луговые участки были пожертвованы архиерейскому дому от частных лиц. Однако по доходности они не шли в сравнение со средствами, полученными от правительственных учреждений [Алабин, 1877. С. 89].
Церковноначалие в Самаре было поставлено в финансовую зависимость от светских властей, но не губернского, а имперского уровня. Местная администрация не могла изменять или урезать содержание епархии, назначенное столичными ведомствами.
В свою очередь, новооткрытая консистория требовала от губернского правления и всех присутственных мест, чтобы «все светские и духовные люди» были бы «послушны и подсудны» владыке Евсевию «как своему пастырю» [Алабин, 1877, с. 76–77, 80]. Имелось в виду исправление всеми лицами православного вероисповедания христианских обязанностей и их ответственность по отнесенным к ведению церкви гражданско-семейным делам.
Из-под религиозного контроля епархии исключалось инославное население, в том числе чиновники неправославных конфессий и даже некоторые руководители местной администрации. Девять напряженных лет с мая 1853 по апрель 1862 г., отмеченных Крымской войной, подготовкой и началом крестьянской реформы, Самарскую губернию возглавляли лютеранин К. К. Грот и католик А. А. Арцимович. С их стороны не было попыток вмешательства в епархиальные дела. Первому же самарскому губернатору С. Г. Волховскому в 1851 – начале 1853 г. хватало собственных забот о создании и налаживании работы органов губернского управления. С точки зрения самостоятельности духовных властей в выполнении ими своих функций на губернском уровне ситуация была гораздо ближе к старинным православным традициям, нежели в имперском центре. Этому еще более способствовали вышеупомянутые специфические самарские условия.
Надо отметить также отсутствие конфликтов между церковной и светской властями как при губернаторах-иноверцах, так и при начальниках Самарской губернии православного вероисповедания за весь рассматриваемый нами период. Сведений о таких конфликтах нет ни в делопроизводстве, ни в источниках личного происхождения. С одной стороны, это свидетельствует о готовности руководителей обоих властей к сотрудничеству, а также об их способности улаживать возникавшие трения и противоречия вне публичного пространства. С другой стороны, четкое разграничение функций, компетенций, а также источников финансирования в значительной мере устраняло риски возможных конфликтов.
Что касается «соработничества» церковных и светских властей в достижении общественно важных целей, то наиболее очевидным оно было в области образования. А. В. Карташев подчеркивал благотворное значение имперского периода особенно для развития духовного образования и науки, православной книжности и журналистики [Карташев, 1996, с. 177]. Епископ Евсевий лично уделял большое внимание религиозному просвещению, будучи церковным писателем – автором книги «О воспитании детей в духе христианского благочестия» (1844).
В 1852 г. в Самаре начало работать духовное училище для сыновей священников и церковнослужителей. Его первым ректором стал протоиерей Иоанн (Халколиванов). Подобно епископу Евсевию, он был воспитанником Московской духовной академии и оставил труды по христианскому просвещению и благотворительности, на которые до сих пор ссылаются православные иерархи 2. Владыка Евсевий назначил Халколиванова первоприсутствующим членом консистории и кафедральным протоиереем 3. На этих должностях отец Иоанн оставался до своей кончины в 1882 г.
В стране, вступившей на путь модернизации, православные пастыри выступали не только как церковные, но и как общественные деятели. Согласимся с авторами, которые включают в число добровольных ассоциаций, ставших основой складывания гражданского общества в позднеимперской России, и те организации, что были связаны с церковью [Миронов, 2018, с. 817]. Халколиванов на общественных началах являлся деятельным членом многих комитетов (статистического, народного здравия, оспенного, холерного, по строительству кафедрального собора), миссионерского общества, духовных попечительств о бедных и в пользу сирот 4.
Протоиерей был также членом комитета по изысканию средств к открытию училища для девиц духовного звания. После начала работы Самарского епархиального женского училища в 1865 г. Халколиванов стал председателем комитета по его управлению [Алабин, 1877, с. 88, 124, 147, 150, 155]. В училище обучались дочери и будущие жены священников, многие из воспитанниц получили профессиональную подготовку как домашние и школьные учительницы. Пример отца Иоанна подтверждает тезис о том, что в XIX в. вопросы «становления гражданского общества» и развития народного просвещения «тесно смыкаются» [Artamonova, 2016, с. 902–903].
В 1858 г. в Самаре открылась духовная семинария. Начало ей было положено при епископе Феофиле (Надеждине). Он сменил владыку Евсевия в начале 1857 г. (Пятидесятилетний юбилей Самарской епархии, 1901, с. 6–7)
Самарские архиереи оказывали помощь школам всех уровней в подборе образованных священников, которые могли вести уроки Закона Божьего. Законоучителям в начальных школах зачастую приходилось брать на себя преподавание и других, а иногда и всех предметов. Нередко они отказывались от жалованья для того, чтобы материально поддержать школы. Их благотворительность проявлялась и в других формах. Так, при открытии в 1857 г. первого в Самаре женского приходского училища законоучителем в нем стал священник Михаил (Ястребов), предоставивший под школу собственный дом (Местные известия, 1858, с. 1). Он предварительно отремонтировал здание, чтобы создать благоприятные условия учителям и ученикам, о чем лично просил губернатор К. К. Грот 5.
Ястребов относился к числу образованных и активных в общественном плане служителей церкви. После выпуска из Казанской духовной академии он, служа с 1851 г. в храмах Самары, участвовал в работе организаций общественной направленности, в том числе в трудное военное время, за что был награжден бронзовым крестом «В память войны 1853–1856 годов» 6.
В многочисленные прямые обязанности губернаторов управление школьным делом не входило. Однако К. К. Грот был из числа тех руководителей, кто воспринимал заботу о народном образовании не столько служебным, сколько нравственным долгом [История Самарского Поволжья…, 2020, с. 258–259]. Официально же по школьным вопросам духовные власти общались непосредственно с училищным начальством губернии и учебного округа. Эта структура находилась под управлением Министерства народного просвещения (в отличие от губернской администрации, подведомственной Министерству внутренних дел). Тесное взаимодействие церковного и школьного руководства наглядно иллюстрируется примером назначения законоучителя в открытую в 1856 г. Самарскую гимназию. В тщательном подборе кандидатов на эту должность в первую среднюю школу губернии участвовали и попечитель Казанского учебного округа В. П. Молоствов, и заведующий губернской дирекцией училищ А. П. Пономарев, и ректор Казанской духовной академии Агафангел, и самарский епископ Евсевий 7.
Взаимодействие церкви, администрации и общественности в Самарской губернии заметно проявлялось в критических ситуациях и при подъеме патриотических настроений. Так было в Крымскую войну 1853–1856 гг. при оказании помощи как военным, так и пострадавшему гражданскому населению. В ходе подготовки Крестьянской реформы церковь освящала труды по ее разработке, а при отмене крепостного права в 1861 г. доносила в народ решения властей [Там же, с. 33, 51, 56–57].
Заметной активизации «соработничества» церковных и светских властей в Самаре до середины 1860-х гг. не наблюдалось. Во-первых, происходила быстрая ротация начальников губернии, с мая 1862 по август 1865 г. на этом посту сменилось три чиновника (Н. А. Замят-нин, Н. П. Мансуров, Б. П. Обухов). Во-вторых, губернаторов заботило проведение, прежде всего, целой чреды реформ гражданского управления, суда и финансов. Именно в Самаре 28 февраля 1865 г. прошло первое в России губернское земское собрание [Там же, с. 89]. Церкви, в свою очередь, надо было выстраивать отношения с новыми органами земского и городского самоуправления, а также с различными общественными организациями, число которых быстро росло.
На голодные 1873–1874 годы и Балканский кризис второй половины 1870-х гг. пришлось архиерейское служение в Самаре Герасима (Добросердова). Оно началось в январе 1866 г. после кончины епископа Феофила [Алабин, 1877, с. 82]. Святитель Герасим, память которого совершается церковью в день Собора Сибирских святых (23 июня по новому стилю), окончил Иркутскую семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. Он известен как церковный оратор, писатель, автор воспоминаний и дневников.
В своих речах епископ Герасим предпочитал образно называть Россию «Новым Израилем», а российского императора – «светильником Нового Израиля» (Герасим, 1867, с. 173). В свое время религиозные метафоры «Нового Израиля» и «Нового Иерусалима» противопоставил «Третьему Риму» как тезису государственно-политическому патриарх Никон [Шмидт, 2009, с. 118]. Пользуясь образом «Нового Израиля», Герасим выказывал сочувствие взглядам бывшего патриарха. Не случайно среди святых мест, куда самарский владыка духовно и физически стремился, он упоминал Новоиерусалимский монастырь (Герасим, 1880, с. 297). В обители, устроенной Никоном, который был привержен идее «симфонии» духовной и светской властей, та нашла самое зримое воплощение в искусстве.
Новый собор Самары, задуманный владыкой, было решено посвятить празднику Воскресения по образцу главных храмов древнего и Нового Иерусалима. Спасение Александра II от покушения террориста Каракозова 4 апреля 1866 г. совпало день в день с подачей епископом прошения о возведении этого собора, что было признано знамением свыше и помогло ускорить возведение храма. Император лично пожертвовал 2000 руб. на постройку. В 1871 г. Александр II с сыновьями собственноручно заложил камни в его стены [Якунин, 2019, с. 15].
В строительство собора включился сразу после назначения самарским губернатором Г. С. Аксаков, который весь срок пребывания в этой должности (с января 1867 до декабря 1872 г.) поддерживал духовные и культурные начинания епископа. Учитывая принадлежность губернатора к знаменитой семье с глубокими религиозными и национальными традициями (отец – писатель С. Т. Аксаков, братья – славянофилы К. С. и И. С. Аксаковы), его взаимодействие с епархией и архиереем объяснялось не только служебным статусом, но и внутренними убеждениями.
Сам мастер печатного слова, епископ Герасим поддержал развитие самарской журналистики. В 1867 г. появился журнал «Самарские епархиальные ведомости», его корреспондентами и авторами преимущественно были лица духовного сословия, включая владыку. На страницах журнала, как показано исследователями, «власть, церковь и общество Самарской губернии демонстрировали единство, выступая с различными прогрессивными инициативами» [Климкина, 2020, с. 75].
Прибывший в Самару в декабре 1872 г. на смену Г. С. Аксакову губернатор Ф. Д. Климов оказался не способен принять должные меры борьбы с голодом, разразившимся в 1873 г. Не критикуя открыто губернские власти, владыка Герасим стремился реально помочь нуждающимся. Осенью 1873 г. он посетил уезды, пострадавшие от неурожая, и предложил немедленно начать сбор средств на нужды голодающих, первым внеся «свою посильную лепту» (Обозрение епархии…, 1873, с. 433, 439). Взносы поступали от разных лиц и учреждений как из Самарской губернии, так и из-за ее пределов, в том числе от императора Александра II и Святейшего Синода. Было получено до 170 тыс. руб., которые были потрачены на помощь пострадавшим через специально созданный при консистории комитет. Помимо сделанного этим комитетом, многие священники тратили личные средства и сами собирали пожертвования деньгами и хлебом для голодающих прихожан [Якунин, 2019, с. 16–17]. Пример архипастыря, раздавшего свое имущество пострадавшим, стимулировал органы управления, общественные организации и доброхотов активизировать борьбу с последствиями неурожая.
Меняющиеся под воздействием модернизации условия требовали не только согласия между властями, но и учета голоса гражданского общества. Настроить такое созвучие получалось не всегда. Показательно закрытие воскресных школ, возникших в результате массового движения интеллигенции и учащейся молодежи в 1859–1862 гг., которое напугало власти размахом и подозрениями в неблагонадежности участников. Ректор Самарской семинарии архимандрит Серапион (Маевский) уподобил их «саду, которого не насаждал Отец Небесный», а потому обреченному на искоренение (Открытие воскресной школы…, 1867, с. 10). В 1866 г. епископ Герасим предпринял попытку заново создать воскресные школы в губернии исключительно силами духовенства и семинаристов (Что делается…, 1867, с. 188– 191).
Самым ярким деянием местной общественности, совершенным совместно духовной и светской властями, стало создание в 1876 г. Самарского знамени для южных славян, боровшихся за независимость. В 1877 г. оно было отправлено болгарским ополченцам. Владыка Герасим, освятив в Самаре этот символ всероссийского звучания и будущую государственную реликвию Болгарии, украшенную иконописными изображениями Иверской Богоматери, святых просветителей Кирилла и Мефодия, передал знамя для доставки на берега Дуная городскому голове Е. Т. Кожевникову и одному из гласных городской Думы П. В. Алабину [История Самарского Поволжья…, 2020, с. 226–228]. После выполнения этой миссии добровольно оставшись на Балканах, Алабин был привлечен к работе русской военно-гражданской администрации и назначен первым губернатором Софии в 1878 г. Во многом благодаря успешной работе самарского общественного деятеля и администратора вместе с помощниками-болгарами именно этот город стал столицей нового славянского государства [Артамонова, 2019, с. 224].
Приверженность к православным традициям у прибывшего из России губернатора была более заметной, чем у обитателей будущей болгарской столицы. Так, задуманное и начатое Алабиным в 1878 г. обустройство сакрального места памяти мучеников за веру там, где был казнен герой освободительной борьбы «апостол свободы» Васил Левски, обернулось установкой в 1895 г. болгарскими властями и общественностью монумента в европейской секулярной традиции, лишенного конфессиональных признаков, в том числе православного креста 8.
Алабин многое делал для сохранения памятников церковного зодчества и православных святынь Болгарии. Его усилия по развитию народного образования и открытию публичной библиотеки в Софии преследовали также цели православного просвещения. Интересны сами попытки губернатора, прибывшего из Самары, опереться на религиозные традиции в его гражданской службе неподалеку от Царьграда-Константинополя, откуда на Русь пришло христианство и где возникла идея «симфонии властей» как формы церковно-государственного взаимодействия.
На Балканский кризис второй половины 1870-х гг. приходится губернаторство П. А. Бильба-сова, активно содействовавшего вместе с епархией общественным инициативам и правительственным акциям в поддержку борьбы южных славян на независимость. Бильбасов управлял губернией с июня 1875 по октябрь 1878 г. Сменивший его А. Д. Свербеев находился во главе губернии дольше всех других коллег (до конца 1891 г., т. е. более 13 лет), поэтому в данной статье затрагивается только начало его губернаторства.
Свербеев, как до него Грот, относился к числу тех администраторов, которые охотно и добровольно принимали на себя заботы о народном образовании. Не оставлял он без внимания и школы духовного ведомства. Так, посетив 22 февраля 1879 г. новое здание епархиального женского училища, Свербеев отметил, что состояние школы «делает честь» самарскому духовенству и епископу Серафиму (Протопопову) (Классика самарского краеведения,
2019, с. 76–77). Тот был переведен на место покинувшего Самару Герасима (Добросердова) в конце 1877 г. Владыка Серафим действительно уделял много внимания обучению дочерей духовенства [Якунин, 2021, с. 43]. Его пребывание в Самаре продолжалось до кончины в январе 1891 г., практически совпав с губернаторством Свербеева.
Владыка Серафим поддерживал не только традиционное образование, но и новшества модернизационного характера. Так, он горячо приветствовал открытие в Самаре реального училища, созданного по настоянию тех родителей, кто хотел дать детям техническую или естественнонаучную подготовку. На его открытии в 1880 г. перед тем, как благословить собравшихся и освятить школу, епископ заявил, что ученые заслужили такую же незабвенную память, как отцы церкви и ее святые. Он выразил при этом надежду, что молодежь, встававшая на стезю освоения науки и техники, извлечет «пользу для себя и для общества из несметных богатств нашей земли и природы» (Историческая записка…, 1891, с. 38).
Слова архипастыря оказались провидческими. Из выпускников этого училища вышло много инженеров, архитекторов, ученых, в том числе будущий создатель плана ГОЭЛРО Г. М. Кржижановский и нобелевский лауреат, выдающийся химик Н. Н. Семенов. Епископ Серафим был не одинок среди православных деятелей, соединявших веру в Бога и в научнотехнический прогресс. А. П. Херувимов, первый директор реального училища, наладивший его успешную работу, также возглавлял Алексиевское братство, нацеленное на распространение религиозного просвещения [Артамонова, 2021, с. 37, 39].
На три начальных десятилетия существования Самарской губернии и епархии пришлась деятельность первых губернаторов и архиереев, отладка различных звеньев и сторон местного светского и церковного управления. Чтобы адекватно отвечать на возникавшие вызовы и проблемы, администрация губернии и епархиальное начальство согласовывали свои действия по ряду общественно значимых вопросов. Жестко подчиняясь по вертикали вышестоящим властям на имперском уровне, светские и духовные органы на местах были практически независимы друг от друга, имели четко очерченный функционал, но взаимодействовали, «соработничали» друг с другом и общественностью при решении значимых социальных и культурных задач, насколько это позволяли общероссийские и локальные условия.
Список литературы Взаимодействие епархиального начальства с местной администрацией в новой Самарской губернии в 1850-1870-е годы: к вопросу о характере церковно-государственных отношений
- Алабин П. В. Двадцатипятилетие Самары как губернского города. Самара: Губ. тип., 1877. 744 с.
- Артамонова Л. М. Голоса из Болгарии 1870-х годов // Studia Slavica et Balcanica Petro- politana. 2019. № 2 (26). С. 221–227.
- Артамонова Л. М. Деятель народного образования и духовного просвещения: А. П. Херу-вимов в Самаре (XIX – начало XX в.) // Вестник Самар. ун-та. История, педагогика, фи-лология. 2021. Т. 27, № 3. С. 36–42.
- Белякова Е. В. «Симфония властей», или «Свободная церковь в правовом государстве»: русские дискуссии начала XX в. // История: Электрон. науч.-обр. журн. 2013. № 7 (23) URL: http://history.jes.su/s207987840000628-9-1 (дата обращения 02.06.2023).
- Горлов Г. Е., Боброва О. Ю. Духовная нива Оренбуржья. Оренбург: Оренбург. кн. изд-во, 2010. 272 с.
- История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. 2-е изд., испр. и доп / Гл. ред. П. С. Кабытов. Самара: Слово, 2020. Т. 2. 480 с.
- Карташев А. В. Русская церковь периода империи // Карташев А. В. Церковь. История. Рос-сия. Статьи и выступления. М., 1996. С. 168–182.
- Климкина Э. В. Отражение личности епископа Самарского и Ставропольского Герасима (Добросердова) в церковной периодике // Национальное культурное наследие России: региональный аспект: Материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. Самара, 2020. С. 74–77.
- Лескин Д. Ю. Византийский идеал «симфонии» двух властей и его влияние на формирова-ние церковно-государственных отношений в России // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2007. Т. 25, № 1–2. С. 157–173.
- Мигунова Т. Л., Романовская Л. Р. «Симфония властей» как принцип взаимоотношений между церковью и государством // Вестник Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2013. № 3-2. С. 147–150.
- Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну. 2-е изд., испр. СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. Т. 2. 912 c.
- Суворов Н. С. Учебник церковного права. М.: Зерцало, 2004. 477 с.
- Цыпин В. А. Государственная церковь // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 12. С. 197–202.
- Шмидт В. В. Скрижали «Симфонии»: Воскресенский монастырь Нового Иерусалима – стя-жание Града Небесного // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2009. Т. 27, № S2. С. 115–125.
- Якунин В. Н. Роль правящих архиереев в становлении и развитии Самарской епархии в 1851–1917 гг. // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гумани-тарные науки. 2019. № 4 (52). С. 9–25.
- Якунин В. Н. Самарская епархия Русской православной церкви в 1851–1917 гг.: положение, устройство, деятельность, храмостроительство и духовное просвещение // Поволжский вестник науки. 2021. № 4 (22). С. 41–47.
- Artamonova L. M. Modernization of “Collective Beliefs” and “Cultural Capital” in the Russian Empire: from Enlightened Absolutism to Civil Society // Былые годы. 2016. № 41-2 (3). С. 899–907.