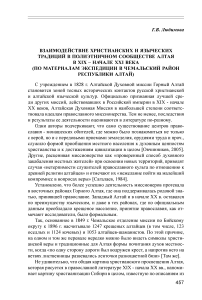Взаимодействие христианских и языческих традиций в полиэтничном сообществе Алтая в XIX - начале XXI века (по материалам экспедиции в Чемальский район Республики Алтай)
Автор: Любимова Г.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIII, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521385
IDR: 14521385
Текст статьи Взаимодействие христианских и языческих традиций в полиэтничном сообществе Алтая в XIX - начале XXI века (по материалам экспедиции в Чемальский район Республики Алтай)
С учреждением в 1828 г. Алтайской Духовной миссии Горный Алтай становится зоной тесных исторических контактов русской христианской и алтайской языческой культур. Официально признанная лучшей среди других миссий, действовавших в Российской империи в XIX - начале XX веков, Алтайская Духовная Миссия в наибольшей степени соответствовала идеалам православного миссионерства. Тем не менее, последствия и результаты ее деятельности оцениваются в литературе по-разному.
Одни авторы подчеркивают, что само существование центров православия - монашеских обителей, где можно было познакомиться не только с верой, но и с передовыми приемами земледелия, орудиями труда и проч., служило формой приобщения местного населения к духовным ценностям христианства и к достижениям цивилизации в целом [Овчинников, 2005]. Другие, расценивая миссионерство как «проверенный способ духовного закабаления местных жителей» при освоении новых территорий, приводят случаи «нетерпимости служителей православного культа по отношению к древней религии алтайцев» и отмечают их «нежелание пойти на малейший компромисс в вопросах веры» [Сагалаев, 1984].
Установлено, что более успешно деятельность миссионеров протекала в восточных районах Горного Алтая, где она поддерживалась родовой знатью, принявшей православие. Западный Алтай и в начале XX в. оставался по преимуществу языческим, и даже в тех районах, где по официальным данным преобладало крещеное население, принятие православия, как отмечают исследователи, было формальным.
Так, основанное в 1849 г. Чемальское отделение миссии по Бийскому округу к 1896 г. насчитывало 1247 крещеных алтайцев (в том числе, 123 оседлых и 1124 кочевых) и 1053 алтайцев-шаманистов. По этой причине, на одном и том же перевале нередко можно было видеть символы христианской веры и традиционные для Алтая формы почитания духов местности, когда «по одну сторону дороги был водружен крест, а напротив него на ветвях лиственницы развевались ленточки разноцветной бязи» [Там же].
Не удивительно, что общая картина христианского просвещения Алтая, которая рисуется в православной литературе XIX - начала XX вв., напоминает картину христианизации Сибири в целом, известную по описаниям из ранних сибирских летописей. Противопоставление «Сибири языческой» и «Сибири христианской» достигалось в них, по наблюдениям специалистов, типичными антитезами с характерной древнерусской символикой («тьма, оледеневшая сердца» / «свет», «божественное семя» и т.п.). Ср.: «Древле убо сия Сибирьская страна тмою безверия помрачашеся», теперь же - «благоверием сияюще»; тогда «кумирослужения и бесования исполнена бе», «ныне же - чюдесы божественными. и явления Божия матери содеяшася» [Ромодановская, 1968].
Точно так же, сама территория Алтая предстает в православной литературе указанного периода как сфера противостояния божественной «крестной силы» и местных шаманских духов. В книге известной православной писательницы А.И. Макаровой-Мирской (1872-1936 гг.) зафиксированы показательные с точки зрения соотношения «своего» и «чужого» в культуре рассказы о начальном этапе существования Чемальского стана Алтайской Духовной миссии - ср.: «Трудно было жить. ох, как трудно! Да Господь помог. Зимою тяжко было воду доставать: обледенеют тропы скалистые, и Катунь промерзнет. Ужасно в бурю было,.. ночами темными » [Макарова-Мирская, 2005].
Погруженное в холод и мрак пространство, окружавшее жилище первых миссионеров, выступает здесь как арена непримиримой борьбы между силами света и тьмы. По словам одной из служительниц миссии, домик миссионеров был местом, где постоянно что-то «чудилось»: «Ночь, темно в лесу станет, особенно зимой,.. тишина... И вдруг тонкие дикие голоса начинают кричать за окном. А то начнут потолок раскрывать,. стучат, разговаривают, в окна стреляют. (Или) передразнивать станут,.. то из-за печи голос слышится, то откуда-то из-под пола» .
Сами духи характеризуются в повествовании как некие «проклятые», «невидимые» существа или «страшные, уродливые тени» , «усмирить» которые могут лишь атрибуты и символы христианского культа - «старинный медный крест», ладан, а также молитва и крестное знамение. Неопровержимым доказательством причастности духов к алтайскому языческому пантеону оказывается их способность к камланию - ср.: как-то в грозу «у самого дома камлать принялись духи. Бубен грохочет,.. ровно в самые уши гудят! А кам кричит, зовет Тотоя-Паяну (владыку града, грома и дождя)». Более того, для придания окончательной убедительности в конце текста приводятся свидетельства людей, находивших в тех местах после бури различные атрибуты шаманского культа - ср: «дяденька мой. побрякушки от бубнов (там) видал» [Там же].
Полевые материалы прошедшего экспедиционного сезона показывают, что современный этап взаимодействия христианских и языческих традиций в Чемальском районе Республики Алтай (в отличие от начального этапа) характеризуется, скорее, не противостоянием, а относительно мирным их сосуществованием. Главной православной святыней Чемала, опекаемой монахинями из расположенного поблизости скита, на сегодняшний день остается ежедневно посещаемый толпами паломников и туристов остров Макария (он же остров Патмос) с восстановленным недавно храмом во имя апостола Иоанна Богослова и высеченным («явившимся») в скалах образом Богородицы с младенцем.
Один из универсальных способов сакрализации обживаемого пространства заключается, как известно, в соотнесении реально существующих объектов природы с элементами библейского ландшафта или персонажами священной истории. На Валааме, к примеру, монастырские иноки создали свой Иерусалим с Гефсиманским садом, Кедроном, Елеонской горой и Мертвым морем [VII Конгресс, 2007]. В Чемале - поднимающийся из воды скалистыми уступами остров (любимое место уединенных молитв первых миссионеров) получил свое второе название, Патмос, в честь греческого островка, на котором, по преданию, молился Иоанн Богослов.
Представления о святости, «намоленности» самого места подтверждаются бытующими в настоящее время рассказами о чудесах, последовавших вскоре за возрождением храма: «обновилась икона Знамения Богородицы, икона Спасителя стала мироточить» (ПМА, 2007). Многочисленные случаи исцеления объясняются при этом «очень высокими вибрациями» , свойственными, как считается, любому святому месту. В связи с этим, следует отметить, что наделение сакральных объектов природы или предметов религиозного культа определенными научно-техническими характеристиками является отличительного чертой современного религиозного сознания в целом. Так, летом 2006 г. был записан рассказ одной из смотрительниц Софийского собора в Киеве, по словам которой целительные свойства храмовых икон связаны с тем, что «все они излучают высокочастотные энергетические вибрации» . В то же время современная религиозность демонстрирует и обратные примеры, когда сакральные свойства и сверхъестественные качества приписываются разнообразным предметам бытовой техники.
Особый интерес вызывают записанные в ходе экспедиции предания о «явившейся» в скалах Божьей Матери, бытующие как среди русского, так и среди алтайского населения. Несмотря на явно выраженный рукотворный характер самого образа, некоторая часть местных жителей утверждает, что каменная фигура Богородицы была здесь всегда, а одна из монахинь -лишь немного «подправила» ей лицо. По другой версии, «однажды монашки пошли счищать с камней мох и обнаружили там божественный лик» . Согласно сведениям, полученным от информаторов-алтайцев, издавна в скалах можно было наблюдать не только антропоморфные, но и зооморфные рельефы - ср.: «мама рассказывала, как они, детьми, каменные изображения рассматривали - животных, Богородицы» (ПМА, 2007).
«Божественные чюдесы» и «явления Божия матери содеяшася», как уже упоминалось, в традициях сибирского летописания служили признаками включенности новой территории в мир «истинной» христианской веры. Появившийся в Чемале при содействии Барнаульской епархии каменный лик Богородицы с младенцем уже в силу своего доминирующего положения призван оберегать поселение, являясь при этом «знаком божественной силы», придающим окружающему пространству статус священного локуса. Вместе с тем, в данном случае не исключено и определенное влияние местной алтайской традиции почитания камней с зоо- и антропоморфными изображениями. Подтверждением тому служат собранные материалы о лике Сартакпая, «созданном самой природой» на месте слияния Чемала и Катуни, а также - о расположенном там же Заветном Камне с появляющимися весной «плачущими ликами». Отметим, что именно герой алтайского эпоса Сартакпай, согласно этиологическим мифам, участвовал в процессе культурного освоения ландшафта, cтроя каналы и дороги, давая имена рекам, горам, зверям и птицам [Мифы народов мира, 1997].
Полученные данные позволили уточнить прежние наблюдения о том, что наиболее популярными сакральными объектами природы среди сельского православного населения Сибири были и остаются водные источники. Выяснилось, что природные и этнокультурные особенности обследованного района (горный ландшафт и смешанный этнический состав населения) предопределяют преимущественное почитание горных природных объектов. В то же время, появление новых священных локусов, происходящее в наши дни при непосредственном участии Русской Православной Церкви, можно, по всей видимости, считать одним из признаков поиска новой региональной, ориентированной на конфессиональные ценности, идентичности.