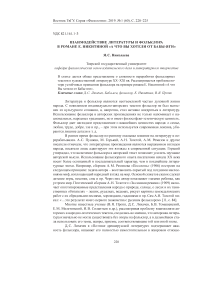Взаимодействие литературы и фольклора в романе Е. Никитиной "А что вы хотели от бабы-яги"
Автор: Николаева Яна Сергеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье дается общее представление о сложности переработки фольклорных текстов в художественной литературе XX-XXI вв. Рассматривается проблема потери устойчивых принципов фольклора на примере романа Е. Никитиной «А что Вы хотели от Бабы-яги».
Д. с. лихачев, баба-яга, фольклор, е. никитина, в. я. пропп
Короткий адрес: https://sciup.org/146281358
IDR: 146281358 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Взаимодействие литературы и фольклора в романе Е. Никитиной "А что вы хотели от бабы-яги"
Литература и фольклор являются неотъемлемой частью духовной жизни народа. С появлением индивидуально-авторских текстов фольклор не был вытеснен из культурного сознания, а, напротив, стал активно внедряться в литературу. Использование фольклора в авторских произведениях не только напоминает о национальных, народных традициях, но и имеет философско-эстетическую ценность. Фольклор дает наглядное представление о важнейших ценностях народа: о семье, любви, труде, добре, зле и пр., – при этом используется современная лексика, убираются лишние детали и т. д.
В разное время фольклор по-разному оказывал влияние на литературу и перерабатывался. А .С. Пушкин, М. Горький, А. Н. Толстой, А. М. Ремизов и другие писатели отмечали, что литературные произведения являются выражением взглядов народа, писатели лишь адаптируют эти взгляды к современной ситуации. Горький утверждал, что включение фольклора в авторский текст позволяет усилить звучание авторской мысли. Использование фольклорного опыта писателями начала XX века носит более осознанный и последовательный характер, чем в позднейшие литературные эпохи. Например, сборник А. М. Ремизова «Посолонь» (1906) построен на следующем принципе: задача автора – восстановить скрытый под поздними наслоениями миф, воплощающий народный взгляд на мир. Основой сюжетов сказок служат детские игры, песенки, сны и пр. Через них автор показывает глазами ребенка, как устроен мир. Поэтический сборник А. Н. Толстого «За синими реками» (1909) включает опоэтизированные представления народа о природе, солнце, о лесах и их таинственных обитателях – леших, русалках, ведьмах, рисует картины земледельческих работ с их обрядовыми песнями, хороводами, гаданиями и пр. Сам А.Н. Толстой писал: «…это результат моего первого знакомства с русским фольклором» [11, с. 84].
Многие известные ученые (В. Я. Пропп, Д. С. Лихачев, Б. В. Томашевский, Е. М. Мелетинский, И. В. Силантьев и др.), рассматривая проблему взаимосвязи авторских и народно-поэтических текстов, сходились во мнении, что авторская литература изначально не могла существовать без опоры на фольклор, а в дальнейшем стала использовать его темы, жанры, приемы, соответствовавшие той или иной эпохе.
Д. С. Лихачев в «Поэтике древнерусской литературе» подчеркивает важность фольклора, называет его полностью самостоятельным в жанровом отноше- нии, цельным и законченным, чего нельзя сказать о древнерусской литературе, жанровая система которой не могла существовать самостоятельно, черпала свои формы и приемы в фольклоре. В средние века ситуация обстоит иначе: «…фольклор не только по-другому противостоит литературе, но и дополняет ее» [4, с. 69]. «В средневековье же обе системы (фольклора и литературы) несамостоятельны друг относительно друга. Особенно эта несамостоятельность выражается в литературе. Система жанров литературы дополняется рядом фольклорных жанров. Литература целиком не может еще удовлетворить всех потребностей в художественном слове» [Там же, с. 70]. По Д. С. Лихачеву, цели использования фольклора в художественной литературе следующие: 1) для «оживления» литературы; 2) для придания ей своеобразного народного колорита; 3) для выражения идей народности; 4) при необходимости выразить сочувствие народу. Иными словами, «даже и при своем привлечении в литературу фольклор воспринимается как в известной мере чужеродный, посторонний литературе элемент, но тесно связанный со своей, народной средой. Ощущение особого характера тех или иных элементов фольклора в литературе – необходимый компонент его использования писателем. Обращение к фольклору в литературе нового времени всегда носит более или менее сознательный характер, оно входит в художественный замысел произведения. Это использование инородного художественного материала, при котором сознание чужеродности, особого происхождения этого материала не утрачивается. Таким образом, в новое время фольклор и литература в некоторой степени противостоят друг другу – даже тогда, когда литература использует фольклор» [Там же, с. 68].
В литературе новейшего времени фольклор также воспринимается как обособленный элемент, но эта чужеродность в значительной мере сглаживается адаптацией к современной реальности. Опираясь на работы И. В. Силантьева, С. Ю. Неклюдова, Н. М. Ведерниковой, В. Я. Проппа, A. H. Веселовского [2; 3; 5; 8; 10], можно выделить несколько типов фольклорных заимствований в литературе:
-
1) структурное заимствование – автор использует ту или иную структурную модель фольклорных текстов;
-
2) мотивное – использование мотивов фольклора, например, мотив загадки, разгадав которую, герой подтверждает свое право на получение потаенных знаний, доступных избранным;
-
3) образное – заимствование фольклорного образа, например, образа Бабы-яги. Это заимствование в литературе Новейшего времени проявляется в двух формах: первая – перенесение фольклорного образа в художественную литературу, вторая – созданный автором образ имеет ассоциативную связь с народно-поэтическим;
-
4) лексическое – использование средств художественной изобразительности. Писатели используют ту или иную модель заимствования, которая становится органичной составляющей художественного мира произведения. Каждая модель с течением времени упрощается, утрачивает основные фольклорные мотивы. Так, детские литературные сказки начала XXI в. можно разделить на два типа: схожие по сюжету с народными и сказки-повести с оригинальным сюжетом. Авторы сказок первого типа (например, «Сказка о Бабе-Яге» Ю. Столяровой, «Про бабу Ягу и бобра» А. Тихонова, «Последняя сказка про Бабу Ягу» С. Скрябиной, «Баба Яга и Иван-царевич» В. Степанова) пытаются подражать народным, используют структурные, мотивные, лексические заимствования, но эти заимствования не являются в полной мере осмысленными, поэтому фольклор здесь во многом воспринимается чужеродным. Авторы сказок второго типа (Э. Успенский, А. Усачев, Д. Угрешич и
- др.) используют образные заимствования, которые полностью перерабатываются. В этом случае не всегда сохраняется даже минимальный ряд ассоциаций с народными образами, отмечается устойчивая потеря связей с фольклорными источниками.
Социокультурная жизнь общества не стоит на месте. Массовая культура проникает в каждый пласт традиционной, вытесняя или изменяя старые традиции. Влияния просматриваются в искажении и переработке фольклорных текстов современными писателями, в итоге появляется новый художественный феномен, новые темы, модели, образы. Сравнивая переработки фольклорных текстов писателями XVIII – начала XX вв. (Горький, Пушкин, Л. Н. Толстой, А. Н. Толстой, Некрасов, Ремизов) и писателями второй половины XX и XXI вв., можно констатировать, что фольклор с его обычаями, традициями и обрядами перестает интересовать публику, остаются лишь некоторые образы, которые зачастую осовремениваются.
Рассмотрим данное явление на примере одного из самых ярких концептов фольклора – концепта Бабы-яги. В русском фольклоре немало значимых образов, которые нашли свое отражение в современной литературе и культуре в целом, в частности, образы Домового, Бабы-яги, Кащея Бессмертного и др. Образу Домового посвящена работа И. В. Бобяковой [1]. Не менее значим и образ Бабы-яги. На сегодня нет всеобъемлющего исследования, посвященного данному концепту.
Вспомним, как представлен образ Бабы-яги в народных сказках и литературе XVIII–XIX веков. Абстрагируясь от его многогранности, выделим общие черты. Прежде всего, внешность. Неважно, добрая Яга или злая в том или ином произведении, образ косматой, хромой, горбатой старухи с крючковатым носом остается неизменным. Неизвестно, сколько Бабе-яге лет. В каких-то источниках говорится, что ей уже за тысячу, в других – около 700 лет. В любом случае ясно, что Баба-яга уже не первый век живет на свете. Помимо внешности, похожим остается и поведение: Баба-яга не любит гостей, грозится их съесть, чует ненавистный ей «русский дух», но может отступать от правил и помогать героям, посвящая их в тайны.
Неизменно проживание Бабы-яги на опушке леса, олицетворяющей собой, согласно одной из теорий происхождения образа, границу между миром живых и мертвых. Ее дом стоит на курьих ногах, умеет перемещаться. В доме есть магические атрибуты: черный кот, ступа, метла и пр. О каких-либо родственных связях Бабы-яги упоминается мало и крайне редко: иногда мы узнаем, что у Бабы-яги есть дочери, иногда – сестры. О других родственных связях речи нет.
Обратимся к роману Никитиной «А что Вы хотели от Бабы-яги» [6] и посмотрим, как автор представляет читателю Бабу-ягу XXI века.
-
Е. Никитина – уже не начинающий автор. Родилась в 1981 г., печатается с 2007 г. Пишет в жанре юмористического фэнтези. Книги Никитиной – это облегченное фэнтези, напоминающее народные сказки. Они пропитаны легким, интригующим, незамысловатым юмором, рассчитаны на массового читателя.
-
Е. Никитина в романе «А что Вы хотели от Бабы-яги» ломает все стереотипы изображения героини. Перед читателем возникает в высшей степени странный образ, называемый Бабой-ягой.
Алена Хренова, главная героиня романа, является потомственной Бабой-ягой, правда, недоучкой. Скверный характер и острый язычок – наиболее очевидные ее достоинства. Алена Хренова – ведьмочка двадцати лет, жаждущая приключений. Учеба в Высшей академии мировой магии ей скучна, зубрить заклинания она не приучена. Отсюда неприятности. По мнению героини, к любому магическому заклинанию нужно подходить творчески, с пониманием. Такой подход не оценили по до- стоинству. Изгнанной из академии Алене пришлось поселиться в Богом забытом местечке с говорящим названием «Забытки», в лесу, в домике, доставшемся по наследству от настоящей Бабы-яги, дальней родственницы Алены. Показательно, что домик не имеет куриных ножек, как описывают жилище Бабы-яги народные сказки.
Автор романа сообщает, что родители Алены умерли, когда та была совсем маленькой, поэтому воспитывала девочку бабка по материнской линии. Но и та умерла, когда Алена училась в академии магии. Как Баба-яга, Алена стала хранительницей погибающего леса и всех его обитателей, называемых местными жителями «нечистью». Алена тоже получила гордый статус нечисти – Бабы-яги. Получила она его не за проживание на опушке леса, а в силу своего социального и этического положения.
Воспитывалась маленькая Баба-яга бабкой-ведуньей, которая хорошо разбиралась в травах, отварах и целительстве, и уроки медицины Алена освоила на отлично. Как и настоящая Баба-яга, Алена имела кота (говорящего), по традиции имевшего однотонный окрас, но белый. Кот Сенька был единственным опытным образцом говорящего животного. Считалось, что теоретически заставить животное говорить и рационально мыслить – возможно, но ранее это никому не удавалось. Характер достался Алене тоже в наследство. Она не любит путников, посещающих ее дом, считает, что времена изменились, поэтому ее жилище – не проходной дом и не ночлежка, а ужином кормить гостя и баньку топить – не барское дело.
Действие романа происходит в наши дни (в вымышленной стране Петравии и двух прилегающих странах), однако привычные блага цивилизации (электричество, машины, телефоны) отсутствуют, хотя современные шикарные наряды упоминаются не раз. Лексические фольклорные заимствования в романе отсутствуют. Автор намеренно не использует фольклорные клише, в языке героев нет диалектизмов, устаревшей лексики, что указывает: время в романе близко к настоящему.
Повествование строится на фольклорном мотиве помощи. Как и настоящая Баба-яга, Алена не может отказать в помощи путнику, забредшему к ней, тем более что этот путник оказывается королевичем Елисеем. Незадолго до свадьбы пропала невеста Елисея Василиса. Виновником похищения, по мнению королевича, является сам Кащей Бессмертный. Поисками невесты уже несколько месяцев занимаются все придворные маги, однако к положительному результату это не привело. У королевича осталась единственная надежда – Баба-яга.
Своей задачей Е. Никитина ставит принципиальное отдаление от фольклорных сказочных традиций. Во-первых, это проявляется в диалогах главной героини, в том числе с путниками, посещающими ее дом:
«– А мне бы Бабу-ягу…
– Я вместо нее. Чего тебе?
-
– А ты сначала накорми, напои да спать уложи, а потом уже спрашивай, – придерживался парень традиционного стиля поведения.
– Вот еще, – фыркнула я. – Слишком много чести. Нашли гостиницу. Топай давай отсюда. <…>
– А расплачиваться за ночлег чем будешь? – строго спросила я.
– То есть?
– А ты думал, я тебя бесплатно пущу?
– А разве Бабе-яге не положено просто так пустить странника, а потом еще наутро и клубочком путеводным одарить?
Святая наивность, книжек начитался. Я закатила глаза.
– Я благотворительностью не занимаюсь. Не хочешь платить, проваливай отсюда. <…>
– У меня сало есть, сыр, ветчины немного… – Парень не сдавался.
– Ну ладно, – согласилась я, отпуская дверную ручку, и парень кубарем полетел вниз со ступенек. – Проходи, разберемся» [Там же, с. 47].
Во-вторых, в народных сказках Баба-яга помогала сказочному герою при помощи магических атрибутов, загадывания загадок, мудрых советов. В романе Никитиной Алена сама отправляется вместе с Елисеем на поиски его невесты в соседнее королевство, правит которым Кащей Бессмертный.
Отдельное, пожалуй, главное место в романе отводится отношениям между Бабой-ягой и Кащеем Бессмертным. Из народных сказок известен устоявшийся стереотип Кащея, который «над златом чахнет», живет уже не первую тысячу лет, а смерть его – на конце иглы. Образ Кащея всегда ассоциировался со злыми силами, чего нельзя сказать о Бабе-яге, однако Никитина ломает и его. Кто он, Кащей XXI века?
Это молодой, амбициозный король Александр, который любит свой народ, защищает его и не отделяется от него. Александр – потомок настоящего Кащея Бессмертного из народных сказок, того, кто владел черной магией. А еще он жених Бабы-яги и будущий отец их детей.
Учитывая эту характеристику Кащея, читатель понимает, что тот не имеет никакого отношения к похищению невесты королевича. Все герои отправляются в далекое путешествие, помогают Елисею отыскать Василису.
Таким образом, Е. Никитина в корне изменила традиционные образы Бабы-яги и Кащея Бессмертного. Яга XXI века – современная молодая девушка с отличным чувством юмора, жаждущая новых открытий, но при этом не забывающая про свои обязанности быть хранительницей леса. Переложены на новый лад отношения заклятых врагов – Кащея и Яги, в корне переработаны фольклорные стереотипы, переосмыслены атрибуты образа Бабы-яги. Автор отказывается от сказочных мотивов, деталей, образов, перестраивая их на новый лад, тем самым добиваясь психологической убедительности, достоверности, иронического модуса повествования.
По верному определению В. А. Редькина, «угол преломления фольклорной традиции» находится в прямой зависимости от принадлежности автора «к конкретно-реалистическому или романтическому стилевому течению, к постмодернизму и т. п. Фольклор может восприниматься автором как живое народное искусство слова, имеющее непреходящее значение, или же как символ прошлого, патриархального или экзотического, или же как объект литературной игры, пародирования, переворачивания… Для одних самое важное в фольклоре – духовное начало, его нравственные богатства… Других привлекают яркие, броские фольклорные образы, ценные своей подлинностью и жизненной силой. Но во всех случаях элементы фольклора становятся стилеобразующим и жанрообразующим фактором в творчестве» [9, с. 52] современных писателей.
Фольклорное начало в романе Е. Никитиной скорее воспринимается как основа для пародии, иронии, как способ литературной игры, травестирования. Вместе с тем оно помогает раскрыть некий нравственный смысл и психологию персонажей, органично вписывается в контекст современного повествования «о героях и героинях нашего времени». Тем самым Е. Никитина поддерживает – оригинально, по-своему – такую «тенденцию русской литературы последних десятилетий XX – начала XXI века», как актуализация фольклорных источников, «обращение многих писателей к традициям древнерусской словесности, культуры, эстетики» [7, с. 41].
Однако целостная и объективная эстетическая оценка романа Е. Никитиной, так же как и ее творческого метода, еще впереди.
Список литературы Взаимодействие литературы и фольклора в романе Е. Никитиной "А что вы хотели от бабы-яги"
- Бобякова И. В. Домовой как персонаж русской литературы: генезис, структура, функции: автореф. дис. … канд. филол. н.: 10.01.01/И. В. Бобякова; Волгогр. гос. соц.-пед. ун-т. Волгоград, 2017. 19 с.
- Ведерникова Н. М. Мотив и сюжет волшебной сказки//Филологические науки. 1970. № 2. С. 57-65.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.; Л.: Худож. лит., 1940. 648 с.
- Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков. Л.: Наука, 1973. 254 с.
- Неклюдов С. Ю. О некоторых аспектах исследования фольклорных мотивов//Фольклор и этнография: У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. Л.: Наука, 1984. С. 221-229.
- Никитина Е. В. А что Вы хотели от Бабы-яги. М.: Альфа-книга, 2007. 384 с.
- Николаева С. Ю. Жанровое своеобразие рассказа Ф. А. Абрамова «Из колена Аввакумова»//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 3. С. 41-48.
- Пропп В. Я. Поэтика фольклора. М.: Лабиринт, 1998. 352 с.
- Редькин В. А. Стилевое своеобразие поэзии Гайды Лагздынь//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 3. С. 49-55.
- Силантьев И. В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике: Очерк историографии. Новосибирск, 1999. 69 с.
- Толстой А. Н. Собр. соч.: в 10 т. Т. 1. М.: Гослитиздат, 1951. 676 с.