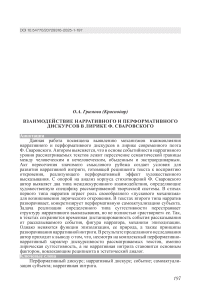Взаимодействие нарративного и перформативного дискурсов в лирике Ф. Сваровского
Автор: Гримова О.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Данная работа посвящена выявлению механизмов взаимовлияния нарративного и перформативного дискурсов в лирике современного поэта Ф. Сваровского. Автором выясняется, что в основе событийности нарративного уровня рассматриваемых текстов лежит пересечение семантической границы между человеческим и нечеловеческим, обыденным и экстраординарным. Акт пересечения значимого смыслового рубежа создает условия для развития нарративной интриги, готовящей реципиента текста к восприятию откровения, реализующего перформативный эффект художественного высказывания. С опорой на анализ корпуса стихотворений Ф. Сваровского автор выявляет два типа междискурсивного взаимодействия, определяющие художественную специфику рассматриваемой творческой системы. В стихах первого типа нарратив играет роль своеобразного «пускового механизма» для возникновения лирического откровения. В текстах второго типа нарратив разворачивает, конкретизирует перформативную самоактуализацию субъекта. Задача реализации определенного типа суггестивности перестраивает структуру нарративного высказывания, но не полностью «растворяет» ее. Так, в текстах сохраняется временная дистанцированность события рассказывания от рассказываемого события, фигура нарратора, механизм эпизодизации. Однако меняются функции эпизодизации, ее природа, а также принципы разворачивания нарративной интриги. В результате проделанного исследования автор приходит к выводу о том, что, несмотря на комплексный перформативно нарративный характер дискурсивности рассматриваемых текстов, именно лирическая суггестивность, а не нарративная интрига становится основным фактором, вовлекающим реципиента в эстетический диалог
Перформативный дискурс, нарративный дискурс, событие, самоактуализация субъекта, нарративная интрига
Короткий адрес: https://sciup.org/149147775
IDR: 149147775 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-197
Текст научной статьи Взаимодействие нарративного и перформативного дискурсов в лирике Ф. Сваровского
Performative discourse; narrative discourse; event; self-actualization of the subject; narrative intrigue.
Междискурсивное взаимодействие – распространенная практика в сфере современной поэзии. Укажем в этой связи не только на опыты Федора Сваров-ского, но и Леонида Шваба, Марии Степановой, Андрея Родионова и многих других. В рамках единого художественного высказывания поэты совмещают перформативную самоактуализацию субъекта, очевидно, предоставляющую современному человеку пространство для личностной идентификации, и рассказывание истории, позволяющее отрефлексировать этот процесс. Попробуем поразмышлять о механизмах междискурсивного взаимодействия, обратившись к лирике Ф. Сваровского.
Структура многих произведений Ф. Сваровского базируется на развернутом нарративном высказывании, а само понятие «история» входит в мета-рефлексивный аппарат нарратора / лирического субъекта (см. стихотворение «Простая история»), поэтому необходимо определить природу эпической событийности в соотношении с событийностью лирического откровения, переживаемого субъектом.
Источником эпической событийности становится пересечение границы между значимыми для художественного мира Ф. Сваровского семантическими областями [Лотман 1970, 288]. Это, прежде всего, граница между человеческим и нечеловеческим (трансгуманистическим) модусами бытия (сюжеты о превращении человека в робота и наоборот, о контакте человека и внечелове-ческого разума), а также граница между разными областями человеческой онтологии («нормой» и сумасшествием / видением / галлюцинацией / фантазией и т.д.). Художественный мир Ф. Сваровского носит метамодернистский характер, функционирует по принципу «осцилляции» между полюсом серьезного и смехового [Аккер 2022, 15], сюжеты о робото-человеческих трансгрессиях репрезентируются в отчуждающей иронической стилистике, что делает невозможным буквальное понимание внешнесобытийного ряда. Очевидно, его предлагается читать как метафору: сюжет о превращении робота в человека (стихотворения «Киборг Пако Рамирес», «Космический путь чести и славы») развернуто метафоризирует выход за рамки монологического сознания к возможности контакта с онтологически другим, возможность эмпатии, диалога; сюжет о превращении человека в робота – обретение равенства себе, стабильной идентичности, преодоление тотальной релятивности (стихотворение «Все хотят быть роботами»).
Еще одна преодолеваемая аксиологическая граница – граница между обыденным и экстраординарным, исключительным. Сообщение, оформленное нарративно, представляет собой, как правило, сообщение об эксцессе, нарушающем некую привычную процессуальность. Этот выход в сферу эксцесса и обеспечивает пространство для откровения [Тюпа 2024, 126], смены ракурса восприятия, внезапно наступившего понимания, составляющего событийность лирическую. Выход в сферу эксцесса на уровне презентации наррации оформлен как выход в «контрфактуальную» историю [Ryan 2019, 62]: нестандартное происходит во сне, в состоянии болезненно измененного сознания, предсмертного видения и т.п. (см., например, стихотворение «Из Харькова в Лисичанск»), таким образом, напряжение между привычным порядком и его нарушением, резонируя с напряжением между фактуальным и контрфактуаль-ным нарративом, интенсифицирует интригу, как бы подводящую к ситуации прозрения.
Проанализировав центральные поэтические сборники Ф. Сваровского, я пришла к выводу о том, что ситуация переживания инсайта инвариантна для ценностно-смысловой структуры текста рассматриваемого автора и чаще всего реализуется в следующих вариантах:
-
1) откровение катастрофичности собственного бытия (например, стихотворение «В лифте»);
-
2) открытие мира Другого и возможности эмпатической причастности ему (например, стихотворения «Монголия», «Бедная Дженни»);
-
3) осознание необходимости смыслового переоформления собственного мира, его нового осмысления (например, стихотворение «Бой при Мадабал-хане»).
Переживание откровения – столь устойчивый элемент рассматриваемых текстов, что его отсутствие также становится текстообразующим. В стихотворении «На курорте» реализована подготовительная – нарративная – стадия: репликант L-19 завладевает деньгами и документами погибшего офицера, и начинает его имитировать (то есть, во внешнесобытийном смысле, граница, разделяющая мир людей и роботов, преодолена), однако внутренней причастности к человеческому миру репликант так и не ощущает, слияния горизонтов двух сознаний – человеческого и очеловечивающегося – не происходит.
Событие встречи с новым пониманием может быть реализовано и редуцировано. В стихотворении «Весна на Петроградской» внешний переход (пре- ступник смертельно ранил милиционера, тот умирает) «запускает» если не переосмысление себя прежнего, то хотя бы открытие потенциально диалогичного внутреннего пространства, в котором откровение могло бы реализоваться: «И в его голове слышны какие-то тихие голоса: / – он бил людей / детей / даже бил / и дома никто не расстроится / что он не вернется / – да, но у него еще девять с половиной минут / ты рано обрадовался / пускай еще слуги твои / подождут / вдруг / сейчас раскается / и спасется» [Сваровский, Шваб, Ровинский 2008, 90–91].
Суммируя наблюдения над корпусом текстов Ф. Сваровского, можно говорить о двух моделях структурного взаимодействия нарратива и перформатива. В текстах первого типа нарратив по отношению к перформативу выполняет функцию своего рода «пускового механизма». Так, в стихотворении «Бедная Дженни» короткая история о поездке Корищенко на юг выполняет функции своеобразного «предисловия», делающего обоснованным событие внезапной эмпатической причастности к чужой инакости. И даже когда определенные обстоятельства истории оказываются делегитимированными, перформативная событийность сохраняет свою значимость, и именно она обеспечивает суггестивный потенциал текста.
В текстах второго типа нарратив разворачивает, конкретизирует перформативную самоактуализацию субъекта; нарративный ряд оказывается словно бы свернутым до перформативной формулы. В стихотворении «Балясин и покойный Старцев вспоминают детство» кумулятивный ряд «зачаточных» нарративов, каждый из которых потенциально возможно развернуть в самостоятельную историю («поджигали траву / боялись стать жертвами маньяка / в овраге, заваленном строительными материалами / капали на растительность полиэтиленом…» и т.д. [Сваровский, Шваб, Ровенский 2008, 81]), представляется либо «расшифровкой» элегической эмоции Балясина («все это прекратилось / в 1990 году / потому что, жаль, все куда-то уехали в 90-м году – / говорит Балясин» [Сваровский, Шваб, Ровенский 2008, 82] ), либо «расшифровкой» антиэлегической эмоции Старцева: «знаешь, мы жили, фактически, как в аду» [Сваровский, Шваб, Ровенский 2008, 82]. Суггестивный потенциал здесь обеспечивается возникновением вокруг проблемы «детство в девяностых» и кластера микроисторий о нем определенного мультимодального оценочно-эмоционального поля, как бы провоцирующего реципиента на формулирование ответной эмоции не только в отношении диегетического мира, но и, возможно, собственного переживания этого лиминального социально-исторического периода.
Задача реализации определенного типа суггестивности перестраивает структуру нарративного высказывания, но не полностью «растворяет» ее. Сохраняются внешние параметры повествовательной дискурсивности, позволяющие – благодаря опоре на знакомство с повествовательной традицией – идентифицировать тип высказывания, при этом более глубинные параметры оказываются существенно видоизмененными. Так, в нарративном сегменте стихотворений Ф. Сваровского сохраняется, как правило, временная дистан-цированность от момента рассказывания, инициальный фрагмент почти всегда содержит указание на пространственно-временные координаты и актантный состав участников истории, которая начинает разворачиваться. Как правило, разворачивается весь тот комплекс, который самим поэтом определялся как «эпический контекст»: «вечером на окраине Силькеборга / Балясин напоминает умершему Старцеву / который внезапно к нему пришел / что они делали / в детстве / в Москве / в 1977–1980 году» [Сваровский, Шваб, Ровенский 2008, 81]; «Корищенко в первый раз поехал на отдых / один…» [Сваровский, Шваб, Ровенский 2008, 85]. Внешние приметы повествовательной дискурсивности утрированно артикулируются в метанарративных фрагментах. Например, в финале стихотворения «Маша» в диегетическом мире появляется персонаж, названный «рассказчиком», чья точка зрения осуществляет функцию медиации между пародийно воспроизведенной любовной истории и финалом, в котором ирония оказывается вписанной в эстетику новой серьезности: «живет / человек как трава / и вдруг / вместо мучений, страсти / с ним случается / не какой-нибудь полный ужас / а наоборот / наступает счастье» [Сваровский, Шваб, Ровенский 2008, 100].
В рассматриваемых текстах сохраняет свою организующую функцию механизм эпизодизации (членение на эпизоды закреплено графически, а иногда и при помощи нумерации), однако подвергаются изменениям ее принципы. Как показывает М.Ю. Малиновская, анализируя стихотворение «Монголия», границы эпизодов обусловлены сменой точки зрения [Малиновская 2018, 121]. Продолжая это размышление, необходимо отметить, что там, где принципом членения остается наличие пространственно-временного и / или актантного «разломов», целью фрагментированного таким образом высказывания все равно является не эпическое событие (выбор героем пути, синхронизированный с выбором пути, осуществляемым миром), а событие ментальное. Так, в стихотворении «Аутотренинг» эпизодизация повествования о дне, проведенном в Лондоне и позволяющем генеральному директору Галису «временно позабыть затянувшуюся отсидку», осуществляется по линиям пространственно-временных разломов («было утро часов 11» – «ближе к обеду» – «позже на Портобелло» – «вечером»), однако это не ведет к интенсификации напряжения событийного ряда, так как каждый такой эпизод – экспликация элегического откровения «ничего этого больше нет» [Сваровский, Шваб, Ровенский 2008, 78–79].
Нарушение эпического принципа эпизодизации ведет к разрушению нарративной интриги. Она завязывается, поддерживает интерес реципиента, ведя его к точке осуществления ментального события, и поскольку эта точка – главная, то оказывается, что развязкой истории можно пренебречь, она элиминируется. В качестве примера сошлемся на стихотворение «В лифте». История о том, как Петя застрял в лифте, становится своеобразным прологом к событию постижения пограничности собственного бытия, его катастрофичности. Ощущение онтологической промежуточности, «застревания» между двумя пространствами художественно эксплицируется посредством контраста фактуальной и контрфактуальной историй. И читатель, и сам герой / лирический субъект перестает понимать: он обыватель, застрявший в лифте, которому кажется, что он пилот расстрелянного космического корабля, дожидающийся спасательной эскадры, или он пилот космического корабля, которому в предсмертном видении кажется, что он Петя, застрявший в лифте. Значимо, что прозрение о собственной финалистичности объединяет оба модуса повествования и аннулирует значимость внешнесобытийного ряда – мы так и не узнаем, пришла ли на помощь аварийная служба дома либо дождался ли пилот спасательную эскадру. Последняя фраза стихотворения не случайно ставит фабульную динамику на паузу («они идут») – не важно, что с героем произойдет во «внешнем» измерении диегетического мира, ведь все значимое с ним уже произошло [Сваровский, Шваб, Ровенский 2008, 75–77].
Если в стихотворении «В лифте» нарратив как бы «запускает» перформатив, после чего основные координаты художественного высказывания начинает определять этот тип дискурса, то в еще одном значимом тексте Ф. Сваров-ского («Бой при Мадабалхане») обнаруживается несколько иная схема междискурсивного взаимодействия. Первая часть произведения, воссоздающая то, что сам поэт именует «эпическим контекстом», нарративной не является, это итератив. Точечные узнаваемые детали очерчивают мир нормы, привычной герою процессуальности («читает Кира Булычева, Владимира Щербакова и Роджера Желязны», поет в караоке, ходит в «рок-кружок», живет с мамой – и все это повторяется: «все время», «по большей части», «иногда», «по средам», «по пятницам» [Сваровский 2007, 10]). Нарратив начинается выходом из мира нормы в мир эксцесса и одновременно с пересечения границы между фактуальным и контрфактуальным – засыпающий Вова видит во сне бой при Мадабалхане и себя, перевоплотившегося в боевого робота. Только переход к событийности в нарративном смысле открывает возможность перформативной событийности: герой становится способным к самоосмыслению – сначала в той реальности, где он – механизм, а затем и в «основной» человеческой реальности. Выйдя из режима автоматического существования, герой получает доступ к содержанию собственного сознания. Два текстовых фрагмента, разворачивающих авторефлексию героя, безусловно, оказываются кульминационными с точки зрения суггестивного воздействия, они же занимают структурно и метрически выделенную позицию. Две молитвы героя (от лица робота и потом от собственного лица) транслируются в виде гораздо более коротких строк. Если средняя длина строки в данном стихотворении 6–8 слогов, то в молитвенных частях – 3–4. Соответственно, для этих частей характерна большая степень акцентирован-ности, выделенности почти каждой лексемы.
Превращение персонажа в лирического субъекта не аннулирует пове-ствовательский голос, как это происходит в стихотворениях Ф. Сваровского. Повествователь сохраняет за собой функции своеобразного модератора между нарративным и перформативным режимами говорения.
Речевая партия нарратора реализует модальность понимания, что также способствует подготовке воспринимающего сознания к событию рождения авторефлексии, переводящей протагониста в статус лирического субъекта. Очевидна динамика местоименных форм, маркирующих изменение качества взаимодействия повествователя и протагониста. В итеративном начале рассказ о нем идет в 3-м лице, герой предстает как абсолютно лишенный каких-либо субъектных проявлений. Следующей значимой точкой взаимодействия является употребление в отношении героя местоимения «ты», не случайно занимающегося маркированное положение на стыке 3 и 4 частей. Это местоимение маркировано также графически, оно оказывается единственным словом в строке. Переход протагониста к событийному существованию (в этом фрагменте дано описание боя) превращает его из объекта отстраненного наблюдения в участника диалога, повествователь начинает обращаться к нему. Следующим этапом является предоставление герою слова как инструмента самоосмысле-ния («ты», соответственно, превращается в «я»). Движение от «он» к «я» через «ты» определяет основной принцип эпизодизации истории.
Как и в стихотворении «В лифте», перформативный фрагмент – молитва героя – как бы отменяет необходимость досказывания истории. Она развивается в рамках вероятностной картины мира, где исход основного события – прозрения героя в обреченность собственного существования – не предопределен.
Поскольку инсайт случился в альтернативной реальности, у героя остается возможность интерпретировать его как результат опьянения или начинающейся болезни: «но с перепою / или от того, что начинается грипп / и поднимается температура / он опять готовится к бою / и / вокруг пустыня / и льется плазма / и он горит» [Сваровский 2007, 13]. Таким образом, нарративная рамка релятивизирует случившееся прозрение, лишает его той несомненности, которой оно обладает в рамках перформативного высказывания.
Подводя итоги, отметим, что взаимодействие нарративного и перформативного в лирике Ф. Сваровского возможно определить как диалогическое взаимодействие, осуществляемое при определенном доминировании перформативной событийности. Именно ее суггестивность, а не нарративная интрига становится основным фактором, вовлекающим реципиента в эстетический диалог. Существенно трансформируются и принципы эпизодизации, и роль нар-ратора. Однако изменяются и некоторые параметры перформативного высказывания. Так, самоактуализация лирического субъекта Ф. Сваровского часто разворачивается как бы в присутствии взгляда на себя со стороны, с позиции «фантомного» присутствия нарратора.
Соотнесенность и противопоставленность двух дискурсивных практик реализует функцию ценностно-смысловой дифференциации. Например, нарратив становится способом трансляции упрощенного, поверхностного видения ситуации, включенности субъекта в мир причинно-следственных отношений, то есть финалистичный мир, тогда как перформативными средствами передается сущностное понимание встречи я и другого и возможность выйти за пределы привычной человеческой детермированности. Нарртивная рамка, в которую включено событие откровения, зачастую релятивизирует его, и с этой точки зрения на соотношение нарративного и перформативного можно посмотреть как на тактику реализации метамодернистской стратегии.
Список литературы Взаимодействие нарративного и перформативного дискурсов в лирике Ф. Сваровского
- Аккер Р., ван ден. Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма. М.: РИПОЛ Классик, 2022. 342 с.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 387 с.
- Малиновская М.Ю. Специфика фрактальности в русской нарративной поэзии 2000-2010-х гг. на примере текста Ф. Сваровского "Монголия" // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2018. № 2-1(35). С. 111-121. EDN: YVXKEK
- Сваровский Ф.Н. Все хотят быть роботами. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2007. 80 с.
- Сваровский Ф.Н., Шваб Л., Ровинский А. Все сразу: сборник. М.: Новое издательство, 2008. 145 с.
- Тюпа В.И. Теория литературы. М.: Издательство РГГУ, 2024. 254 с. EDN: JLHSTK
- Ryan M.L. From Possible Worlds to Storyworlds: on the Worldness of Narrative Representation // Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology. Lincoln: The University of Nebraska Press, 2019. P. 60-83.