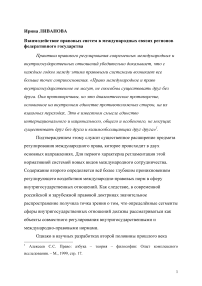Взаимодействие правовых систем в международных связях регионов федеративного государства
Автор: Ливанова Ирина Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 1, 2009 года.
Бесплатный доступ
Практика правового регулирования современных международных и внутригосударственных отношений убедительно доказывает, что с каждым годом между этими правовыми системами возникает все больше точек соприкосновения. «Право международное и право внутригосударственное не могут, не способны существовать друг без друга. Они противоречивы, но это диалектическое противоречие, основанное на внутреннем единстве противоположных сторон, на их взаимных переходах. Это в известном смысле единство интернационального и национального, общего и особенного, не могущих существовать друг без друга и взаимообогащающих друг друга»1.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164585
IDR: 170164585
Текст научной статьи Взаимодействие правовых систем в международных связях регионов федеративного государства
Подтверждением этому служит существенное расширение предмета регулирования международного права, которое происходит в двух основных направлениях. Для первого характерна регламентация этой нормативной системой новых видов международного сотрудничества. Содержание второго определяется всё более глубоким проникновением регулирующего воздействия международно-правовых норм в сферу внутригосударственных отношений. Как следствие, в современной российской и зарубежной правовой доктринах значительное распространение получила точка зрения о том, что определённые сегменты сферы внутригосударственных отношений должны рассматриваться как объекты совместного регулирования внутригосударственными и международно-правовыми нормами.
Однако в научных разработках второй половины прошлого века вплоть до конца 80-х гг. четко разграничивалась сфера действия внутреннего и международного права, объективные и субъективные границы действия последнего, обосновывался тезис о принципиальной невозможности регулировать общественные отношения, входящие во внутреннюю компетенцию государств, с помощью международноправовых норм. Поэтому вопрос о реализации международно-правовых норм в рамках правовых систем отдельных государств в практическом плане почти не разрабатывался.
Положение кардинальным образом изменилось в конце 80-х – начале 90-х гг., когда после завершения «холодной войны» сформировались реальные предпосылки для усиления регулирующей роли международного права в отношениях между государствами. Изменившиеся политические реалии вызвали в международно-правовой литературе дискуссии о понятии государственного суверенитета и его пределах. В результате в отечественной доктрине права сформировалось позитивное отношение к тому, что поиск баланса интересов государств в современном мире должен быть неразрывно связан с интернационализацией традиционно внутригосударственных вопросов, с передачей в общих интересах отдельных прав в международную компетенцию.
В последние десятилетия в ряде стран нормы международного права были объявлены составной частью их правовой системы, а положения международных договоров получили приоритет над нормами внутригосударственного законодательства в случае коллизии между ними. Соответствующее положение нашло отражение и в Конституции Российской Федерации 1993 г.: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора»1.
Закрепление этой нормы в Конституции имеет, как минимум, два важнейших практических следствия. Первое заключается в том, что сегодня к числу правовых регуляторов отношений, возникающих в рамках границ Российской Федерации или с участием её субъектов, наряду с положениями российского законодательства, отнесены и нормы международного права. Смысл второго определяет учёт на практике принципа приоритетного применения положений международных договоров по отношению к нормам внутригосударственного права России.
Таким образом, после 1993 г. проблема соотношения и взаимодействия международного и внутригосударственного права в российской правовой доктрине приобрела выраженную практическую направленность, что потребовало научного осмысления содержания указанной конституционной нормы. Однако ситуация в данной области не прояснилась в достаточной степени, поскольку среди отечественных учёных отсутствует единое представление о месте и роли международноправовых норм в российской правовой системе.
Так, некоторые из них (главным образом, представители отраслевых юридических наук) относят международные договоры и обычаи к числу источников права Российской Федерации. Другие (преимущественно юристы-международники) говорят о непосредственном обязывающем воздействии международно-правовых норм на поведение субъектов внутреннего права без изменения их системной принадлежности. Третьи утверждают, что действие норм международного права внутри России невозможно без их трансформации во внутригосударственные правовые нормы. При этом каждая группа авторов в обоснование своих взглядов ссылается на положения ч. 4, ст. 15 Конституции Российской Федерации.
Однако правовую систему нельзя путать с системой законодательства. А «международно-правовые нормы, включая договорные нормы, являются элементом именно правовой системы России, а не системы национального законодательства. Отсюда вытекает очень важный практический вывод, заключающийся в том, что включение норм международного права в правовую систему России не означает того обстоятельства, что международно-правовые нормы становятся внутригосударственными нормами». Поэтому большинство российских юристов-международников заявляют о недопустимости отнесения международно-правовых актов к числу источников российского права. «Нормы международного права, - подчеркивает, в частности, С.Ю. Марочкин, - в рамках правовой системы Российской Федерации не становятся нормами российского права, а источники международного права – источниками права российского»1. По своей природе эти нормы занимают обособленное положение в правовой системе Российской Федерации. Они функционируют наряду с российским правом, должны толковаться и применяться в свете целей и принципов международного права и конкретного договора, а не с точки зрения соответствующих ориентиров внутреннего права. Введение в правовую систему государства источников международного права расширяет понятие «право государства» (внутригосударственное право) до понятия «право, применяемое в государстве» (внутригосударственное, международное и иностранное право) и, в конечном итоге, влияет на развитие производных от права элементов внутригосударственной правовой системы, таких как правосознание и юридическая практика.
Определенное сближение и взаимодействие международной и внутригосударственной правовых систем наблюдается сегодня по вопросу понятия субъекта права. Наиболее близким к действительности представляется определение субъекта международного права как участника международных отношений, обладающего правами и обязанностями, непосредственно предоставляемыми или возлагаемыми на него международными нормами. При этом традиционное подразделение субъектов на первичные и производные необходимо дополнить их разграничением на субъекты, наделённые нормотворческой функцией, и субъекты, ею не обладающие. Подобное положение существует и во внутригосударственном праве. Сегодня категория «мировое сообщество» охватывает значительно более широкий круг субъектов – от государств и международных организаций до транснациональных корпораций и индивидов, являющихся участниками отношений, выходящих за рамки национальных границ. Каждый из указанных субъектов вносит свой вклад в обеспечение нормального существования и развития мирового сообщества. Тем не менее функции его управляющей подсистемы во всех случаях выполняет международное сообщество государств. Именно государства обладают правомочиями устанавливать в рамках мирового сообщества по согласованию друг с другом юридически обязательные правила поведения, формировать его институциональный каркас, а также определять перечень и компетенцию других субъектов, выполняющих подобные функции. Создаваемые при этом на универсальном, региональном и двустороннем уровне нормативно-правовые предписания (при достижении между государствами соответствующей степени согласия) распространяют свое обязывающее или управомочивающее действие на все субъекты мирового сообщества.
Итак, стремительное вторжение регулирующего воздействия международного права в сферу внутренней компетенции государств, расширение его субъектной основы ещё раз доказывает тот очевидный факт, что хотя международное и внутригосударственное право представляют собой различные типы юридических регуляторов общественных отношений, они существуют в рамках единой правовой общности. В связи с этим совершенно логичной выглядит позиция Ю.А. Тихомирова, который считает, что «с точки зрения общей теории право можно рассматривать в качестве единого социального явления. Общество и государство, создавая право, учитывают его разные грани, “лики” и образы, различные формы выражения. Две плоскости жизни права позволяют вести речь о внутреннем праве, окрашенном отнюдь не только сугубо национальными чертами, и о международном праве, отражающем согласие государств сообща регулировать всеобщие публичные интересы. Их переплетение становится всё более органичным. И то и другое проистекает из общего источника – суверенной воли государств согласованно решать публичные дела разного масштаба»1.
Глобализация вызывает глубокие изменения как международного, так и внутригосударственного права, включая характер их взаимодействия. Человечество стоит на пороге создания новой модели права – мировой глобальной правовой системы, в которую включаются две самостоятельные крупные подсистемы – международное право и внутригосударственное право, а также совершенно новые, постепенно формирующиеся нормы, институты, отрасли права, о юридической природе и системной принадлежности которых в настоящее время ведутся дискуссии. И здесь мы как раз переходим к ключевому вопросу настоящего исследования – о самостоятельной правовой подсистеме, регламентирующей международные связи регионов федеративных государств. Этот формирующийся крупный массив нормативно-правовых актов как международного, так и внутригосударственного происхождения, регулирует международную деятельность регионов государств, то есть регламентирует общественные отношения, которые носят международный характер, но не относятся к межгосударственным. Это позволяет предположить, что правовая система международных связей регионов государств включает в себя элементы международного права и внутригосударственного права, а это значит, что для неё характерна полисистемность.
Можно выделить три основные закономерности, обусловленные спецификой данного типа отношений:
-
1) правовое положение регионов государств как основных субъектов регионального международного права характеризуется их властно подчиненным государству статусом в процессе осуществления ими международной деятельности;
-
2) соединение властных правовых предписаний, которые устанавливают основания и порядок возникновения прав и обязанностей регионов в отношениях с зарубежными партнёрами, с предоставлением регионам возможности самостоятельно определять своё поведение в рамках закона;
-
3) сочетание централизованного (централизованные нормы устанавливаются в международных договорах государств и в федеральном законодательстве) и локального (локальные нормы устанавливаются в международных соглашениях регионов и в региональном законодательстве), императивного и диспозитивного порядка регулирования международных связей регионов федеративных государств.
Все три выявленные закономерности свидетельствуют о вмешательстве публично-правового начала в международную деятельность регионов государств. Поэтому метод регионального международного права можно определить как сочетание императивного и диспозитивного методов, осложненных вмешательством публичноправового начала.
ЛИВАНОВА Ирина Владимировна - доцент кафедры общественных дисциплин Сибирского института международных отношений и регионоведения