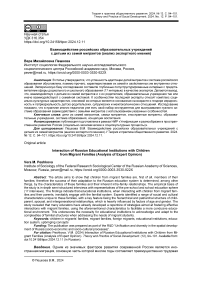Взаимодействие российских образовательных учреждений с детьми из семей мигрантов (анализ экспертного мнения)
Автор: Пешкова В.М.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье утверждается, что успешность адаптации детей мигрантов к системе российского образования обусловлена, помимо прочего, характеристиками их семей и свойственных им внутренних отношений. Эмпирическую базу исследования составили глубинные полуструктурированные интервью с представителями сферы дошкольного и школьного образования (17 интервью) в качестве экспертов. Делается вывод, что, взаимодействуя с детьми из семей мигрантов и с их родителями, образовательные учреждения так или иначе взаимодействуют с семейной системой. К особенностям последней эксперты относят комплекс социально-культурных характеристик, ключевой из которых является основанная на возрасте и гендере иерархичность и патриархальность детско-родительских, супружеских и межпоколенческих отношений. Исследование показало, что в практике многих педагогов уже есть свой набор инструментов для выстраивания нужного системе образования взаимодействия с семьями мигрантов с использованием указанных особенностей.
Дети из семей мигрантов, семьи мигрантов, иностранные мигранты, образовательные учреждения, система образования, концепции воспитания
Короткий адрес: https://sciup.org/149147632
IDR: 149147632 | УДК: 316.354 | DOI: 10.24158/tipor.2024.12.11
Текст научной статьи Взаимодействие российских образовательных учреждений с детьми из семей мигрантов (анализ экспертного мнения)
Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия, ,
Institute of Sociology of the Federal Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, ,
миграция из стран СНГ. Примерно со второй половины 2000-х и начала 2010-х гг. наблюдается постепенная ее феминизация, чему сопутствует и рост количества семей, поменявших место жительства, с несовершеннолетними детьми (Женщины-мигранты из стран СНГ в России …, 2011). По данным ряда социологических обследований, среди тех, кто въезжал на заработки в Россию в этот период, семейными были 57 %, из них с детьми – около 15-16 %1. И в настоящее время доля несовершеннолетних, находящихся в России с родителями-мигрантами, практически не изменилась (Толмачева, 2022: 58), но несколько возросло число иностранных приезжих, приобретших российское гражданство по линии воссоединения семей.
На конец 2020 г. число детей мигрантов, находящихся в школьном возрасте, оценивается как составляющее от 445 тыс. до 460 тыс. человек. Их доля от всех обучающихся в российских школах в масштабе страны составляет: менее 1 % – для приезжих из стран Средней Азии, 1,5 % – из Армении и Азербайджана; собственный миграционный опыт, полученный после 2011 г., имеют 0,6 % школьников (Смирнова, 2024: 99). Тем не менее именно образование детей из семей приезжих является одним из наиболее актуальных вопросов как в миграционной, так и в социальной политике России, а также выступает объектом множества междисциплинарных исследований. Так, анализ базы данных e-library показывает, что треть отечественных публикаций, посвященных детям мигрантов, – это работы, касающиеся разных сторон их образования2.
В исследовательской среде отмечается терминологический дисбаланс в отношении обозначения несовершеннолетних из семей иностранцев. Долгое время в научной литературе использовались словосочетания «дети мигрантов», «дети из семей мигрантов», «члены семей мигрантов», «члены семей трудовых мигрантов». Со временем все больше исследователей начали использовать в своих работах выражение «семьи с миграционной историей» и, соответственно, «дети из семей с миграционной историей» (вариант - «дети с миграцией в истории семьи»), что более точно, как представляется, описывает несовершеннолетних, переехавших с родителями в Россию, приобретших гражданство, но остающихся недостаточно интегрированными (Адаптация и интеграция детей из семей мигрантов в российской системе образования …, 2022: 13). В некоторых работах для обозначения иностранных мигрантов также предлагается такая исследовательская категория, как «видимые меньшинства» (“visible minority”) (Александров и др., 2012). Неоднозначность определений, скорее всего, частично обусловлена как самой природой миграции, так и тем, что приезжие не являются гомогенной социальной группой, поэтому и категоризация их связана с исследовательскими задачами по отношению к той или иной категории иностранцев.
В отечественной научной литературе образование детей из семей мигрантов рассматривается в первую очередь в контексте перспективы их адаптации и интеграции (Александров и др., 2012; Возможности адаптации детей мигрантов в школах Москвы и Подмосковья ..., 2017; Омельченко и др., 2022; Полетаев, 2017). В большинстве случаев исследователи приходят к выводу, что включение в российскую образовательную систему является одним из основных инструментов адаптации и интеграции иностранцев в российское общество, и не только детей, но и семей мигрантов в целом.
Первые масштабные комплексные исследования данного вопроса датируются второй половиной 2000-х и началом 2010-х гг. (Александров и др., 2012; Макаров, 2010 и др.). Можно выделить несколько направлений, по которым в современной российской научной литературе идет проблематизация школьного образования и адаптации детей из семей мигрантов: это доступность обучения, а также образовательные и социальные барьеры, с которыми сталкиваются приезжие несовершеннолетние; выявление факторов, влияющих на их учебу (например, миграционного и этнического статуса); проблемы школ, связанные с присутствием в них детей мигрантов, а также трудности самих приезжих; взаимодействие родителей и образовательных учреждений; стратегии и практики в отношении детей и их образования.
На протяжении всего периода активного изучения этого вопроса основной проблемой для системы образования является языковая компетентность детей из семей мигрантов (Баранова, 2012; Деминцева, 2020). Степень владения русским языком, а также этническое происхождение приезжих остаются ключевыми критериями отнесения образовательными учреждениями детей к мигрантам и, соответственно, определения методов работы с ними. Наиболее актуальны особые подходы оказываются для так называемых «мигрантских школ», в которых детей из семей иностранцев учится больше, нежели в других средних учебных заведениях (Деминцева, 2020). В рамках условно социально-педагогического подхода таких несовершеннолетних предлагается рассматривать как особую категорию обучающихся, требующую применения специальных поликультурных методов и тех- нологий педагогической деятельности, направленных на их адаптацию и интеграцию с учетом этнического и религиозного происхождения учеников (Купцова, 2023; Симаева, 2017).
Даже краткий обзор научной литературы демонстрирует, что в большинстве случаев образование детей из семей мигрантов рассматривается учеными из перспективы взаимодействия образовательного учреждения либо только с детьми, либо только с родителями. Исключением можно считать лишь несколько работ, но они уже утратили свою актуальность ввиду давности опубликования или касались транснациональных аспектов родительских стратегий (Александров и др. 2012; Бредникова, Сабирова, 2015 и пр.).
В современных условиях представляется важным воспринимать детей мигрантов как часть семьи приезжих. В этом контексте вопрос их образования также является частью семейной миграционной истории и, в том числе, обусловлен характеристиками этой малой социальной группы, а также отношениями внутри нее. Цель данной работы состоит в том, чтобы попытаться выявить некоторые особенности семей мигрантов, отношений их членов и практикуемых иностранцами концепций воспитания, которые влияют на взаимодействие образовательных учреждений с детьми из таких семей.
Методика исследования . Для достижения поставленной цели было решено проанализировать мнения представителей российского образования всех уровней: от учителей и воспитателей детских садов до чиновников. В 2022 г. были проведены 17 интервью с представителями сферы дошкольного и школьного образования, а именно с учителями общеобразовательных школ – 10 интервью, с воспитателями детских садов – 2, с директорами школ – 3, а также с представителями городских департаментов образования – 2. Важно подчеркнуть, что исследование проводилось в «обычных», не «мигрантских» государственных дошкольных и общеобразовательных учреждениях в четырех российских городах: в двух столичных (Москва и Санкт-Петербург) как наиболее миграционно-привлекательных и, для сравнения, в двух региональных (Тюмень и Нижний Новгород).
Вопросы гайда полуструктурированного интервью касались того, как на практике в конкретном образовательном учреждении проблематизируется взаимодействие с семьями мигрантов в отношении образования детей, с какими трудностями, в том числе адаптационными и интеграционными, с точки зрения экспертов от образования, сталкиваются дети приезжих. Респондентам предлагалось оценить динамику изменения численности несовершеннолетних разного этнического происхождения; доступность процедуры приема детей мигрантов в школу / детский сад, а также описать особенности работы с ними, взаимные сложности и достижения. Отдельный блок интервью содержал вопросы о том, как выстраивается взаимодействие образовательного учреждения и родителей, в чем его специфика, какие характеристики семей мигрантов, применяемые ими концепции воспитания обуславливают особенности этого взаимодействия. Экспертов от сферы образования также попросили высказать мнение об известных им поколенческих разрывах (языковых, культурных, интеграционных и пр.) между детьми и их родителями; а также о проявлениях ксенофобии или национализма в детском коллективе и практиках разрешения подобных ситуаций в учебном учреждении.
Результаты исследования . Среди работников в сфере образования имеется более или менее конвенциональное определение понятия семей мигрантов. В его основе – правовой статус. Семьи без российского гражданства учителя называют «иностранными», соответственно, детей из таких семей именуют «иностранцами». Однако на практике для воспитателей и учителей, то есть для тех, кто напрямую взаимодействует с детьми и их родителями, с точки зрения образовательного процесса важнее не наличие гражданства, а уровень владения русским языком и длительность нахождения семьи и ребенка в России. Поэтому между собой детей из семей мигрантов учителя часто называют «неговорящие», что включает и школьников из семей с миграционной историей, имеющих российское гражданство. Помимо этого, первичная категоризация учителями обучающихся как «неговорящих» может происходить по «странной» или «необычной» фамилии и имени, а также по внешности, которая определяется как «неславянская».
Эксперты сходятся во мнении, что за последние десять лет в представляемых ими образовательных учреждениях значительно возросло число детей из семей мигрантов (без российского гражданства) и из семей с гражданством, но имеющих миграционную историю, а также из смешанных семей, в которых один из родителей, как правило, мужчина, – иностранец или родом из другой страны. Этот процесс затрагивает преимущественно дошкольную, начальную и, в меньшей степени, среднюю школьную ступени образования. Большую долю иностранцев составляют семьи родом из стран Закавказья и, в последние годы, из стран Центральной Азии. Упоминаются случаи взаимодействия педагогов с детьми из смешанных семей, в которых отцы родом, например, из стран Африки или из Китая.
Для участвующих в обследовании работников образовательных учреждений адаптация -это вполне конкретный перечень действий по физическому и психологическому приспособлению ребенка к условиям учебного процесса. Они подчеркивают, что это предполагает определенную временную протяженность, поскольку происходит включение сначала в дошкольную, а затем и в школьную систему образования. Успешность адаптации несовершеннолетнего, на взгляд экспертов, зависит в равной степени от трех акторов: образовательного учреждения и его педагогического состава; от семьи и самого ребенка; от одноклассников или других учеников, а также общественного мнения по отношению к приезжим иностранцам и миграции в целом.
На практике, согласно ответам участников опроса, порядок приема детей в образовательные учреждения достаточно прозрачен и не представляет особой сложности даже для семей без российского гражданства. В то же время, несмотря на единые федеральные правила, прием в конкретные школы и детские сады регламентирован на местном уровне и, соответственно, может различаться от региона к региону. Например, эксперты в Москве и в Московской области отмечали растущую положительную роль цифровизации как при зачислении детей в образовательные учреждения, так и во взаимодействии «школа - родитель». Однако эта опция недоступна иностранным семьям, что очевидно ограничивает детей из таких семей в реализации их прав на образование. Основными барьерами при первоначальном приеме несовершеннолетних в школы, согласно экспертам, являются: во-первых, отсутствие свободных мест; во-вторых, предоставление родителями недостоверных данных, чаще всего - о месте регистрации. По словам директоров школ, в их практике не было случаев, когда при наличии мест в возглавляемо м ими учреждении они бы отказывали заявителям в приеме из-за этнического происхождения семьи или отсутствия гражданства1. Дефицит свободных мест также является главным барьером при приеме несовершеннолетних в детские сады во многих российских регионах, где родители, в том числе имеющие гражданство, записывают детей в детский сад с рождения. Соответственно, у семей иностранцев еще меньше возможностей, чем у россиян, получить место в детском саду для своего ребенка, особенно в столичных регионах.
Следует обратить внимание, что в школах, принявших участие в обследовании, не обнаружена практика организации так называемых «мигрантских классов» (Деминцева, 2020). Некоторые директора общеобразовательных учреждений признавались, что задумывались о таком эксперименте, однако не решались на его реализацию, прежде всего, из опасения возникновения эффекта геттоизации и маргинализации учащихся. Как объяснил один из педагогов, дети «должны слышать язык той страны, куда они приехали, не только от учителя, но и в своем окружении».
При приеме в школу все несовершеннолетние проходят тестирование, призванное определить их уровень владения русским языком и соответствие предшествующего обучения той или иной образовательной ступени в российской школе. По словам учителей, эта информация, а также сведения о том, откуда приехала семья, важны, прежде всего, с точки зрения организации эффективного образовательного процесса. То есть понимание уровня развития детей обуславливает разные усилия учителей и администрации по коммуникации с обучающимися и их родителями.
По итогам тестирования дети могут оказаться минимум на один класс ниже своего возраста, чаще всего из-за недостаточного знания русского языка, а также несоответствия школьных учебных программ двух стран друг другу. Наши эксперты демонстрируют понимание причин, из-за которых складывается такая ситуация. По их мнению, семьи иностранцев, особенно с несовершеннолетними детьми, находятся в более стрессовой, чем местные ячейки общества, ситуации, из-за смены страны, привыкания к новой обстановке. Поэтому часть учителей принимает то, что им следует прилагать дополнительные усилия при работе с такими детьми, а также предъявлять к ним более мягкие требования. Но одного желания зачастую недостаточно: «Например, в пятом классе у нас шесть уроков в неделю. Даже если я на каждом уроке буду выделять пять минут на этих детей, я все равно не смогу их дотянуть до нормального говорения» (учитель, Н. Новгород).
Красной линией через все интервью проходит вопрос о допустимости ношения в школах хиджаба. Но в каждом учебном заведении имеются свои представления о том, как с этим вопросом следует работать: от спокойного отношения, допускающего ношение религиозного головного убора, до его запрета внутренним указом. Отношение самих учителей также варьируется от толерантного восприятия до, можно сказать, латентной ксенофобии, причем противоположные мнения могут встречаться и внутри коллектива одной и той же школы.
Хотя при взаимодействии с семьями учебное заведение действует в установленных вышестоящими органами рамках, тем не менее многие вопросы, как подчеркивают учителя, оно решает самостоятельно. Такие конкретные действия на «низовом» уровне во многом обуславливают успешность адаптации. Директор одной из московских школ рассказал о том, как ученик
8 класса из семьи, приехавшей в Россию из Узбекистана, иногда «применял» к другим детям то, чему научился на занятиях по смешанным единоборствам. Выяснилось, что мальчик проявлял агрессию из-за проблем с успеваемостью. По итогам заседания школьного совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних совместно с родителями было принято решение разработать индивидуальный учебный план, чтобы ребенок смог повысить свою успеваемость и тем самым устранить причину агрессии.
Помимо соблюдения должностных обязанностей, крайне важным фактором обеспечения успешности адаптации детей к образовательным учреждениям, по мнению экспертов, являются человеческие качества и личность самого педагога, его способность создавать атмосферу, основанную на взаимоуважении и поддержке, независимо от происхождения ребенка или уровня владения русским языком, а также доносить глубокие идеи и мировоззренческие концепции. Эту непредвзятую позицию иллюстрируют слова одного из воспитателей детского сада в г. Санкт-Петербурге: «Дети, плохой, хороший – мы их всех любим, стараемся одинаково, у нас нет ни любимчиков, ни изгоев. Ребенок, которого приводят, даже того же китайца, который не знает русского языка, а он в чем виноват?».
Успешность адаптации детей к образовательному и воспитательному процессу сильно зависит от родителей и всей семьи в целом. По мнению экспертов, каждая из них обладает определенными характеристиками, которые обуславливают особенности социализации детей посредством образования и специфику взаимодействия учебных заведений с семьями мигрантов. Точкой отсчета для сравнения выступают российские семьи.
Основной причиной переезда иностранцев, в представлении участников обследования, является поиск работы, поэтому большинство таких семей на новом месте, как правило, находится в стесненных жизненных условиях. Как правило, это съемное жилье, которое может иногда делиться с родственниками или с другими мигрантами. Помимо этого, большинство иностранных семей, по наблюдениям педагогов, – многодетные. Из-за этих обстоятельств у несовершеннолетних отсутствует личное пространство, необходимое в том числе для подготовки школьных домашних заданий. Учителя также упоминают высокую мобильность некоторых семей мигрантов, из-за которой дети в связи с разными семейными обстоятельствами несколько раз меняют школу: например, сначала учатся на родине, затем – в российской школе, откуда их могут забрать родители до окончания учебного года и пр. В совокупности данные особенности, по мнению педагогов, характеризуют семьи мигрантов как в целом нестабильные и неблагополучные, особенно по сравнению с российскими.
Семьи иностранных мигрантов, прежде всего из стран Центральной Азии, также обладают комплексом особых социально-культурных характеристик. Одна из них - основанная на возрасте и гендере иерархичность внутрисемейных детско-родительских, супружеских и межпоколенческих семейных отношений. В этой системе авторитет родителей, в первую очередь, отца, не обсуждается. Как выразился один из учителей из Тюмени: «Если говорим про мигрантов из республик Кавказа и Средней Азии, это жесткая семейная иерархия, кто старше, тот и прав: старший брат прав, старшая сестра права, … авторитет прародителей, авторитет мужчины…».
Гендерное разделение семейных прав и обязанностей в супружеских отношениях, а также то, что русским языком в семьях мигрантов, как правило, лучше владеет мужчина, приводит к тому, что взаимодействие учителя и семьи по любым вопросам, касающимся детей, зачастую идет через папу. Судя по результатам интервью, зная эту особенность семей мигрантов, некоторые педагоги в решении особо сложных ситуаций прибегают к авторитету отца. Но поскольку у многих пап-мигрантов, по наблюдениям учителей, большая занятость на работе, эта коммуникация часто бывает очень эпизодической.
Иногда в разрешении некоторых ситуаций учителя прибегают к авторитету религиозных лиц. Так, один из участников опроса сообщил: «Стоило только учителю заговорить о том, что у него есть знакомство с муллой, и он может приобщить его к вашей дисциплине, и донести до ваших отцов, как вы себя ведете. Все, прекрасно дети просидели до конца урока, активно работали. То есть для них мулла – это авторитет, и они знают, что здесь должно быть определенное послушание» (учитель, г. Тюмень).
Семьи мигрантов уважительнее, чем российские семьи, относятся к институту образования в целом, а также к учителям и воспитателям в частности. Это проявляется и в том, что «дети всегда аккуратные, чисто одеты, есть все школьные принадлежности, видно, что работа с ними дома тоже ведется. Бывает такое, что коренные жители у нас выглядят значительно хуже, чем те, которые приехали к нам»; и в том, что «очень быстро реагируют [на обращения учителей] и прям душу отдают, ... и, если ребенку, учитель сказал что-то, то родители дома в обязательном порядке беседу проведут» (учитель, г. Тюмень).
В попытках описать семьи мигрантов эксперты также часто отсылают к сложностям, с которыми они сталкиваются. Любой иностранец, прежде всего, решает вопросы, касающиеся трудоустройства и проживания, легализации нахождения в России. Но для экспертов от образования ключевой характеристикой и проблемой семей иностранных мигрантов (в том числе и недавно приобретших российское гражданство) остается уровень владения русским языком. Это влечет за собой большинство других трудностей, являющихся барьерами не только для адаптации в образовательных учреждениях, но и для социально-культурной интеграции семьи в целом. В том числе из-за этого общение в семье происходит на родном языке, что, по единодушному мнению участников опроса, осложняет освоение русского языка детьми, соответственно, приводит к снижению успеваемости, а это - к психологическим трудностям и даже к агрессивному поведению детей. Особые затруднения возникают у несовершеннолетних, приехавших в Россию и поступивших в школу в возрасте старше 10-12 лет.
Со своей стороны учебное заведение, по словам учителей, предлагает несколько способов решить этот вопрос, чаще всего, речь идет о дополнительных групповых и индивидуальных занятиях. Тем не менее, с точки зрения педагогов, ответственность за изучение русского языка в большой степени лежит на родителях. Хотя последние зачастую сами (особенно женщины) не владеют им. Тем не менее наиболее результативно решение этого вопроса только тогда, когда в нем заинтересованы родители. В качестве примера приведем историю с мальчиком из семьи, приехавшей из Таджикистана, которого из-за слабого владения русским языком администрация школы планировала перевести на класс ниже. Но, «несмотря на то, что глава семьи сам плохо говорил на русском языке, создали условия, и ребенок самостоятельно, в том числе, занимался. В результате он закончил 6 класс намного лучше, чем наши русскоговорящие дети...» (учитель, г. Москва).
Принципиальная разница между российскими и мигрантскими семьями, с точки зрения экспертов, также состоит в том, что, во-первых, преобладает детоцентрический подход в воспитании, а во-вторых, как правило, воспитание происходит так, что у ребенка формируется четкое понимание иерархии отношений, формируются послушание и «в какой-то степени покорность родителям». Благодаря этому, в представлении педагогов, дети в семьях мигрантов более самостоятельные, ответственные и дисциплинированные, чем их сверстники из российских семей. Они как «маленькие дедушки, .они все знают. они готовят детей к жизни. А мы готовим детей для того, чтобы посадить и любоваться» (директор школы, г. Н. Новгород).
Иерархичность в семьях мигрантов выражается и в разном воспитании мальчиков и девочек, поскольку жизнь диктует им необходимость развития разных личностных качеств, в том числе важных, с точки зрения педагога, для образовательного процесса, взаимодействия учителя и ученика. Мальчик - «это мальчик, он решает, он может, но девочка - нет» (учитель, Н. Новгород). В школьных коллективах мальчики легче находят себе место, чем девочки. Последним в семье не дают «право слова», право выбора. Девочки описываются как «хозяйственные», «беспроблемные», «тихие», «аккуратные», «скромные». Один из участников исследования назвал их «идеальными» ученицами.
Педагоги также отмечают более высокую самоорганизацию и солидаризацию детей из семей мигрантов, которая выражается в том, что если в школе учатся дети разного возраста из одной семьи либо дети из нескольких семей мигрантов (даже из разных стран) какое-то время они общаются только друг с другом.
На контрасте с закрытыми, старающимися «сохранить свое» родителями дети в семьях мигрантов характеризуются педагогами как «более открытые и более спокойные, . они настроены на ассимиляцию, быстрее иногда находят общий язык со сверстниками» (учитель, г. Н. Новгород). Это одна из причин межпоколенческих разрывов, которые, по мнению большинства участников опроса, усиливаются по прошествии времени: чем дольше семья проживает в России, тем больше «дети становятся русскими и. избалованными» (директор школы, г. Н. Новгород). Разрывы в некоторых случаях закрепляются благодаря тому, что ребенок владеет русским языком лучше, чем родители. «В какой-то момент становится понятно, что он опережает маму в развитии, и нарушается иерархия старших-младших, потому что младший чувствует себя более продвинуто» (учитель, г. Н. Новгород). Даже если дети все еще имеют проблемы с усвоением русского языка, они нередко становятся переводчиками для своих родителей (матерей), причем с представителями не только образовательных учреждений, но и других социальных институтов.
Наконец, взаимодействие образовательных учреждений с детьми из семей мигрантов и их родителями, согласно экспертам, в определенной степени обуславливается и отношением к иностранцам других родителей. В качестве примера учителя приводят истории, когда мамы или папы забирали своих детей из классов, в которых учились дети-иностранцы либо дети, для которых русский язык не был родным.
В каждой школе также имеют место случаи буллинга по отношению к детям из семей иностранцев. По мнению педагогов, дети берут пример с взрослых, чаще всего с родителей, чье отношение свидетельствует о сохранении в российском обществе определенного уровня ксенофобии и мигранофобии. Несколько экспертов, наоборот, были свидетелями случаев предвзятого и даже агрессивного отношения к коллективу обучающихся со стороны детей из семей мигрантов или их родителей. Подобную агрессию учителя объясняют своего рода индивидуальной защитной реакцией на общую стрессовую ситуацию миграции, долгую адаптацию, на предвзятое отношение принимающего населения.
Заключение . Подводя краткие итоги, хотелось бы отметить следующие моменты. Взаимодействуя в рамках школы или детского сада с детьми из семей мигрантов и с их родителями, образовательные учреждения так или иначе устанавливают контактные связи с семейной системой. Поэтому успешность этого взаимодействия и адаптации к образовательным условиям, помимо прочих факторов, обусловлена особенностями семей мигрантов. Многие из них характеризуются экспертами как в целом нестабильные и неблагополучные, особенно по сравнению с российскими ячейками общества. Они обладают комплексом особых социально-культурных характеристик, из которых ключевой является основанная на возрасте и гендере иерархичность внутрисемейных детско-родительских, супружеских и межпоколенческих отношений. В воспитании детей это, в частности, выражается в том, что у ребенка формируется понимание иерархии отношений и, соответственно, послушание, дисциплинированность, уважение к авторитету. Но здесь складывается парадоксально противоречивая картина. В некоторых случаях иерархичность и патриархальность как ключевые характеристики семей мигрантов оцениваются учителями позитивно и даже, как было показано выше, иногда используются как инструмент в выстраивании нужного педагогу взаимодействия. В других – это порицается, когда, например, чаще всего мальчики из семей мигрантов не воспринимают учителя с уважением, потому что это женщина.
Таким образом, при взаимодействии с детьми-мигрантами следует помнить, что не существует единственно правильной модели семьи и семейных отношений. Сделанные наблюдения первичны, а выводы, скорее, носят пилотажный характер. Тем не менее хочется надеяться, что данная постановка вопроса позволит взглянуть на проблему образования детей из семей мигрантов под новым углом.
Список литературы Взаимодействие российских образовательных учреждений с детьми из семей мигрантов (анализ экспертного мнения)
- Адаптация и интеграция детей из семей мигрантов в российской системе образования / под ред. Е.А. Омельченко, А. А. Шевцовой. М., 2022. 169 с.
- Александров Д.А., Баранова В.В., Иванюшина В.А. Дети и родители мигранты во взаимодействии с российской школой // Вопросы образования. 2012. № 1. С. 176-199. DOI: 10.17323/1814-9545-2012-1-176-199 EDN: OXIMQV
- Баранова В.В. Языковая социализация детей мигрантов // Антропологический форум. 2012. № 17. С. 157-172. EDN: RGLCTJ
- Бредникова О.Е., Сабирова Г.А. Дети в мигрантских семьях: родительские стратегии в транснациональных контекстах // Антропологический форум. 2015. № 26. С. 127-152. EDN: UZNOJN
- Возможности адаптации детей мигрантов в школах Москвы и Подмосковья / Е.Б. Деминцева [и др.] // Демографическое обозрение. 2017. Т. 4, № 4. С. 80-109. EDN: YOBXXK