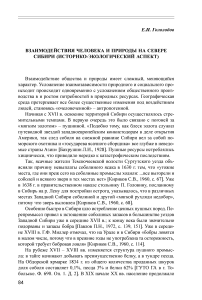Взаимодействия человека и природы на севере Сибири (историко-экологический аспект)
Автор: Гололобов Е.И.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XII-2, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521299
IDR: 14521299
Текст статьи Взаимодействия человека и природы на севере Сибири (историко-экологический аспект)
Взаимодействие общества и природы имеет сложный, меняющийся характер. Усложнение взаимозависимости природного и социального происходит происходит одновременно с усложнением общественного производства в и ростом потребностей в природных ресурсах. Географическая среда претерпевает все более существенные изменения под воздействием людей, становясь «очеловеченной» – антропогенной.
Начиная с XVII в. освоение территорий Сибири осуществлялось стремительными темпами. В первую очередь это было связано с погоней за «мягким золотом» – пушниной. «Подобно тому, как блеск золота служил путеводной звездой западноевропейским конкистодорам в деле открытия Америки, так след соболя на снежной равнине Сибири вел за собой поморского охотника и «государева ясачного сборщика» все глубже в неведомые страны Азии» [ Бахрушин Л.И., 1928 ] . Пушные ресурсы истреблялись хищнически, что приводило нередко к катастрофическим последствиям.
Так, ясачные жители Темлючеевской волости Сургутского уезда объясняли причину невыплаты соболиного ясака в 1630 г. тем, что «угожие места, где они преж сего на соболиные промыслы ходили: ...все выгорели и соболей и всякого зверя в тех местах нет» [ Кириков С.В., 1960, с. 67 ] . Уже в 1638 г. в правительственном наказе стольнику П. Головину, посланному в Сибирь на р. Лену для постройки острога, указывалось, что в различных местах Западной Сибири соболиной и другой «мягкой рухляди недобор», потому что зверь выловлен [ Кириков С.В., 1960, с. 68 ] .
Особенно быстро в Сибири шло истребление ценных пушных пород. Пе-репромысел привел к истощению соболиных запасов в большинстве уездов Западной Сибири уже в середине XVII в.; к концу века были значительно подорваны и запасы бобра [ Павлов П.Н., 1972, с. 139, 151 ] . Уже в середине XVIII в. Г.Ф. Миллер отмечал, что на Урале и в Сибири «бобры ловятся в малом числе, потому что в прежние годы не употреблена та осторожность, которой требует бобровая ловля» [ Кириков С.В., 1960, с. 114 ] .
На рубеже XVII – XVIII вв. изменяется структура пушного промысла: в тайге начинают добывать преимущественно белку, а в тундре песца. На Обдорской ярмарке 1834 г. из общего количества проданных шкурок доля соболя составляет 0,1%, песца 3% и белки 62% [ ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 690. Оп. 1. Д. 2 ] . В XIX начале XX вв. население продолжало 84
практиковать варварские способы охоты, которые приводили к массовому истреблению животных.
Быстрое истощение природных ресурсов заставляло власти обращать на это внимание. Первые нормативные документы, регулирующие эту сферу появились уже в XVII в. [ Павлов П.Н., 1974, с. 51 ] .
В начале XIX в. пришло понимание того, что хищническое истребление промысловых ресурсов не в интересах государства: «...жадные сибирские промышленники, предаваясь неумеренной своей охоте к звероловству, много сделали вреда государству. Преследуя с остервенением зверей, коих драгоценные меха составляют обильный источник нашего богатства, они истребили целые роды там, где бы всегда оставались они в великом множестве, если б ловля производима была с умеренностью и при должных осторожностях» [ Статистическое обозрение, 1810, с. 48 ] .
В 1892 г. был принят первый общероссийский закон об охоте. Однако он не распространялся на Сибирь [ ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 152. Оп. 34. Д. 353, Л. 9-11 об. ] . На рубеже XIX - XX вв. до первой мировой войны царское правительство продолжало предпринимать попытки регулирования охотничье-промысловой деятельности. Был создан «Природоохранительный Комитет» при Русском географическом обществе. В рамках этого комитета разрабатывались проекты по организации сети заповедников по всей стране. Россия делегировала своих представителей на первую международную конференцию по охране природы в Берн [ Шилленгер Ф.Ф., с. 35-36 ] .
Революция и гражданская война несколько затормозили этот процесс, но не остановили полностью. В 1920 г. был создан «Государственный Комитет по охране памятников природы», в состав которого вошли ученые и специалисты по всем отраслям естествознания. В 1921 г. СНК был принят и утвержден декрет по «Охране памятников природы, садов и парков», разработанный Комитетом [ Шилленгер Ф.Ф., с. 37 ] . В дальнейшем был принят еще целый ряд важных документов природоохранного характера.
Декларировалось изменение отношения и к природе северных территорий. На протяжении столетий Север Сибири представлял собой пример систематического «ограбления природы», «... триста лет из него выкачивались богатства в виде мехов, дичи, рыбы и т.п.». Представители новой власти заявляли, что этот «трехсотлетний период безудержной эксплуатации Севера» закончился [ ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 39., Л. 2-3 ] .
Однако в условиях хозяйственной разрухи, явившейся прямым следствием революции и гражданской войны, поиск путей экономического выживания страны был связан с развитием экстенсивных методов использования природных ресурсов. Сталинская модель индустриализации была сориентирована на стратегию покорения природы С экологической точки зрения ее претворение в жизнь «оказалось не менее опасным, чем тысячу раз заклейменный период первоначального накопления капитала в западных странах» [ Гладкий Ю.Н., 2001 ] .
Индустриальное освоение Сибири, начавшееся во второй половине XX в., привело к развитию кризисных тенденций во взаимодействии природы и человека. Послевоенное освоение края было связано с созданием транспортной сети, производственной и социально-бытовой инфраструктур, возведением городов.
На XX съезд партии было принято решение ускорить освоение природных ресурсов восточных районов страны. В последующие десятилетия здесь были сооружены крупнейших электростанций, создана металлургическая и нефтедобывающая базы, осуществлено строительство БайкалоАмурской магистрали и др.
Индустриальное освоение Северо-Западной Сибири было связано с развертыванием широкомасштабной добычи нефти и газа. Освоение нефтегазовых богатств велось крайне нерационально; здравый смысл и возможные экологические последствия не принимались в расчет. Постановления правительства констатировали не соблюдение природоохранного законодательства на Севере Сибири [ ГУТО ГА в г Тюмени. Ф. Р-814. Оп. 1. Д. 6209 ] .
Освоение природных ресурсов на современном этапе, безусловно, возможно лишь на основе достижений научно-технического прогресса. При этом очень важно учитывать многовековой опыт, накопленный человечеством на доиндустриальных стадиях. Ценность традиционного опыта для современного природопользования заключается в его природообусловлен-ности, способности содержательно дополнить индустриальные технологии, отличающиеся стандартизацией и недостаточной приспособленностью к локальным (региональным) особенностям. Каждый регион, обладая неповторимой географической, климатической, экологиче ской характеристикой, требует адекватной системы правового регулирования использования природных ресурсов и охраны природной среды, управления ее качеством.
В связи с этим важно не допустить механического перенесения методов использования природных ресурсов и охраны природной среды, выработанных и проверенных на практике в одних регионах, в специфические природные условия других. Серьезные просчеты в охране природы бассейна озера Байкал, зоны хозяйственного влияния БАМа, Азово-Черноморского региона и районов Крайнего Севера обусловлены не только ведомственным подходом к использованию природных ресурсов, но и стремлением государственных органов разрешить характерные только для данных регионов экологические проблемы на федеральном уровне [ Казанник А.И., 1997, с. 4-5 ] .
Для продуманной обоснованной политики в этом направлении при наличии государственных юридическими норм, обеспечивающими охрану окружающей среды, необходим учет разных типов экологичности и механизмом их регуляции, в том числе традиционных норм и форм природопользования. Делать это необходимо с широких историко-географических, этноэкологических позиций, учитывая специфику региона.