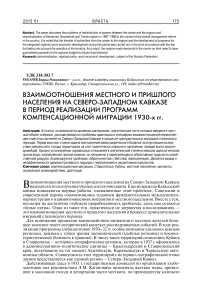Взаимоотношения местного и пришлого населения на Северо-Западном Кавказе в период реализации программ компенсационной миграции 1930-х гг
Автор: Ракачев Вадим Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье, основанной на архивных материалах, значительная часть которых введена в научный оборот впервые, рассматриваются проблемы адаптации и специфика взаимоотношений переселенцев и местных жителей на Северо-Западном Кавказе в процессе принудительных миграций сталинского периода. Перед властью стояла задача восполнения демографического баланса на опустевших вследствие репрессий и голода территориях за счет политически лояльного населения, прежде всего красноармейцев. Однако установлению нормальных отношений в значительной степени мешала идеологическая пропаганда, направленная против казаков, их неприязнь к переселенцам и объективные трудности хозяйственной разрухи. Анализируется проблема «обратничества» (бегства) переселенцев. Делается вывод о неэффективности административного подхода к переселению и закреплению мигрантов.
Компенсационные миграции, ставрополье, кубань, местное население, мигранты, социальное взаимодействие, адаптация
Короткий адрес: https://sciup.org/170167649
IDR: 170167649
Текст научной статьи Взаимоотношения местного и пришлого населения на Северо-Западном Кавказе в период реализации программ компенсационной миграции 1930-х гг
В заимоотношения местного и пришлого населения на Северо-Западном Кавказе находятся в поле изучения ученых достаточно давно. Еще во времена Кавказской войны появляются первые работы, посвященные этой проблеме. Советский и современный период ознаменовались изданием фундаментальных междисциплинарных трудов о взаимоотношениях мигрантов и местного населения. Вместе с тем, несмотря на достаточно глубокую проработанность проблемы, здесь еще остаются «белые пятна». Одна из таких тем, практически не затронутая в исследованиях, – это взаимоотношения местного и пришлого населения в процессе принудительных миграций сталинского периода.
Для понимания процессов взаимодействия мигрантов и местных жителей большое значение имеет исторический контекст рассматриваемых событий. В ходе реализации программы хлебозаготовок 1930–32 гг. особое внимание уделялось южным регионам, важным с точки зрения экономической (хлебные регионы) и военностратегической (близость к границе). К числу таких территорий относились Кубань и Ставрополье – историко-географические регионы, которые к 1937 г. оформились в административно-политические единицы – Краснодарский и Ставропольский края, включавшие на тот момент Адыгейскую, Карачаевскую и Черкесскую автономные области. Совокупность этих территорий с историко-географической точки зрения представляется как единый регион – Северо-Западный Кавказ.
Действовавшая здесь в 1932 г. государственная комиссия по организации хлебозаготовок под руководством Л.М. Кагановича применяла жесткие меры, приведшие к массовому голоду и депортации части местного, по преимуществу казачьего населения за пределы Северо-Западного Кавказа. Выселение ряда станиц, занесенных на «черную доску» как не выполнивших планы хлебозаготовок, было важным пропагандистским шагом советской власти, предупреждением тем, кто не понимал серьезность и важность государственной программы. Суть «черной доски» заключалась в запрещении контактов с провинившейся станицей, прекращении завоза товара, выселении так называемого «контрреволюционного населения» и других репрессивных мер. Вывешивание черной доски/черного флага выстраивало четкие параллели с эпидемией (черный флаг вывешивали во время чумы или других эпидемий, и доступ в данный населенный пункт был запрещен до полной ликвидации болезни).
Вследствие репрессивных мер и голода 1932–1933 гг. опустели значительные территории. Теперь перед властью стояла важная стратегическая задача – восполнить демографический баланс на этих территориях за счет политически лояльного населения. Одним из основных контингентов, использовавшимся в ходе освоения территорий, в т.ч. и на Северо-Западном Кавказе, являлась армия. Используя армию при заселении и освоении новых территорий, правительство получало лояльных в политическом и идеологическом плане поселенцев. Соответствующий идеологический настрой демонстрируют письма переселяемых красноармейцев: «Мы будем зорко глядеть, там еще кое-где в дырках засели кулаки, всех вытравим» [Тархова 2010: 250-251].
11 сентября 1933 г. в Москве утверждается предполагаемая начальная разнарядка переселяемых красноармейских семейств по районам и станицам АзовоЧерноморского края – 12 000 чел. 1 Отчеты политотдела МТС за 1933 г. содержат сведения организационного и хозяйственного характера о красноармейцах-переселенцах. Так, в станице Старолеушковской организованы 3 полеводческие бригады из переселенцев-красноармейцев общей численностью трудоспособных в 89, 79 и 96 чел. 2
С целью стимулирования и закрепления на новом месте переселенцам выделялось жилье, в основном за счет домов репрессированных местных жителей, причем особо отмечалось, что «необходимо обеспечить ремонт жилья для вселяемых кухонными плитками, гвоздями, стеклом. Также поставить вопрос о долгосрочных кредитах для вселяющихся на хозяйственное обзаведение». Уделялось большое внимание продовольственному и хозяйственному вопросам обеспечения переселенцев: «обязать МТС первоочередным обслуживанием красноармейских бригад для того, чтобы эти бригады находились в наиболее благоприятных условиях в колхозах. Колхозы обеспечивают вселяющихся овощами, картофелем, подсолнечным маслом» 3 .
Соответствующей была и идеологическая подготовка. Среди переселенцев распространялись брошюры, которые должны были показать, что выселение местных жителей связано с их враждебной и вредительской работой: «В станице Полтавской нет жеребят, казак, когда-то славившийся своею любовью к коню, граблями бьет по брюху колхозную жеребую матку» или: «...казаки делали землю “черной, как под горкой в тени”, заборонывали, но не сеяли, не бросали в землю не единого зернышка» [Радин, Шаумян 1932: 7].
Как в этой ситуации строился диалог между местным населением (казаками) и переселенцами (красноармейцами)? Переселенцы-красноармейцы в основном тоже были крестьянами и сами сталкивались с проблемами коллективизации. Можно предположить, что ненависти к местному населению они не испытывали. Однако установлению нормальных отношений в значительной степени мешала идеологическая пропаганда, которая с целью обоснования проводимых в регионе мероприятий представляла казаков как идеологических врагов, по отношению к которым невозможен компромисс. Переселенцы-красноармейцы, напротив, были поставлены в привилегированное по отношению к местным жителям положение с помощью различных льгот, и тем самым опять же противопоставлялись им. Это значительно осложняло процессы взаимодействия и адаптации. Результатом идеологической пропаганды стало формирование в сознании двух взаимодействующих сторон соответствующих стереотипов, которые в значительной степени способны определять и направлять процессы социального взаимодействия. А конфликты во взаимодействии в свою очередь осложняли процессы адаптации и в ряде случаев приводили к бегству переселенцев.
Адаптацию на новом месте можно считать успешной, когда переселенец и местный житель смотрят друг на друга как на индивидов, а не представителей некой социальной группы. Но в условиях Северо-Западного Кавказа этот процесс осложнялся исторически сложившимся противостоянием: «казаки – иногородние», «казаки – кацапы» и т.п. В итоге переселенцы воспринимались местными жителями не только как чужаки, прибывшие по решению и при поддержке власти, но прежде всего как «не казаки», «кацапы», носители иных культурных норм и ценностей. Такое восприятие наглядно демонстрируют материалы экспедиции РГГУ 1989 г. под руководством Д.Н. Хубовой. Интервью со станичниками – местными жителеями четко воспроизводят эти стереотипы: «У нас их [переселенцев] называли кацапы. Они… сами по себе грязные. В комнатах у них тоже: и свинья в комнате, может, и теленок в комнате…. А дом... Будут жить до тех пор, покуда он до такой степени не развалится, что уже в нем жить нельзя» [Хубова 1995: 85].
Переселенцы, в свою очередь, оказавшись в напряженной ситуации и встретив неприязнь со стороны местных жителей, также формируют и воспроизводят негативный образ казака. «Во двор детей мы первое время боялись пускать. Сидели дома: местные – казаки мастерили капканы и ставили их у наших дверей, в траве, вокруг дома, у колодца». «Плохо жить было, очень плохо. Как услышат, что мы по-русски говорим: “А-а! Кацапки!” И нас матом гонят с очереди. Ну, а потом немножко лучше… разогнали их, увезли их всех, куда – не знаю…» [Хубова 1995: 85].
Местные жители – казаки наделялись такими негативными качествами, как лень, бесхозяйственность, безынициативность. В этом ключе звучат и выступления переселенцев: «Колхозники Кубани голодали потому, что не хотели работать. Они сами виноваты в этом. На Кубанской земле мы быстро разбогатеем, покажем ударные темпы и добьем кулака» 1 .
Но адаптация переселенцев осложнялась и вследствие объективных причин. Недостатки в устройстве и снабжении зачастую вызывали у переселенцев отрицательные настроения и, как следствие, приводили к случаям бегства. Так, почти все красноармейцы-одиночки ушли обратно. Среди переселенцев нередкими были такие разговоры: «При вербовке нам обещали полное обеспечение на месте. Гарантировали свободное возвращение по домам в случае, если не понравятся станицы. Здесь нам ничего не дают, станицы заросли бурьяном, колхозы неблагоустроенны. Отправляйте нас обратно» 2 .
Со временем в настроениях переселенцев появляются сомнения в правильности самой политики. В спецсообщениях секретно-политического отдела ОГПУ отмечаются случаи антисоветских выступлений среди переселенцев: «В Ново-Деревянковской МТС со стороны отдельных переселенцев отмечены а/с [антисоветские] выступления: “…мы не крепостные, не захотим работать, силой не заставите. Нам будет то же, что и местным жителям. Их морят голодом”», «…не намерены здесь голодать и кормить вшей. Если колхозникам зимой не дадут хлеба, то они сложат знамена и пойдут по другому пути развития» 3 .
В отдельных случаях ситуация действительно была критической, переселенцы терпели лишения и голод наряду с местными жителями. Переселенцы обвиняли в этом власти. Показательными являются письма красноармейцев из станицы
Уманской: «Живем очень плохо, почти по суткам живем голодные. Сейчас сеем, сеять не на ком, лошади стали… приходится пахать и сеять на людской силе. Хлеба дают, что корм, 400 г на день…» 1 .
С ухудшением положения появляется такой феномен, как «обратничество» (социальная практика возвращения, бегства переселенцев с новых мест проживания на территорию исхода), которое на Северо-Западном Кавказе принимает масштабные формы. Согласно сведениям контрольных органов за 1936 г. в целом по районам Азово-Черноморского края «обратники» составили 55% 2 .
Н.С. Тархова говорит о двух группах дезертиров с Кубани – конкретных и косвенных. К косвенным причислялись те, кто написал своим семьям, чтобы они не приезжали, надеясь на то, что без семьи их отпустят домой. Эту группу в основном составляли досрочно демобилизованные красноармейцы, право быть «вольным гражданином» они могли получить лишь после полного окончания срока службы [Тархова 2010: 254-255].
Местное население, настроенное против переселенцев, развернуло активную практику запугивания, которая лишь подстегивала бегство. Переселенцам угрожали, подбрасывали записки, известны случаи нападения и насилия по отношению к ним. В записках писали: «Вы приехали на голодную смерть, с казаками не уживетесь, уезжайте обратно…», «Мы тут подыхаем с голода и от малярии, и с вами то будет» 3 . Случаи открытых нападений побуждали переселенцев-красноармейцев требовать от власти защиты или возможности защищаться самим. Из доклада С.Н. Кожевникова руководству ПУ РККА: «Народ требует, чтобы им выдали какое-нибудь оружие… Со своей стороны считаю, что оружие дать им нужно, и прошу Вашего разрешения выдать им кое-что из забракованного оружия для самообороны» [Тархова 2010: 256].
Однако постепенно местное население смиряется с необходимостью присутствия мигрантов. В условиях запустения и хозяйственной разрухи они начинают восприниматься как неизбежность и даже как необходимость. По воспоминаниям И.Л. Полежаева, жителя станицы Уманской, приезд переселенцев спас станицу от гибели: « Станица немного ожила. Правда, здесь главную роль играют теперь переселенцы – белорусы, народ крепкий, надежный, трудолюбивый и симпатичный. Для станицы их приезд равносилен вливанию крови в организм умирающего человека, что его и спасает в конечном счете» 4 .
Постепенно внешние проявления неприязни между переселенцами и местными жителями сходят на нет. Это заметно по газетным публикациям, сводкам и донесениям. Краевые газеты за 1934–1935 гг. практически не упоминают о конфликтах между казаками и переселенцами-красноармейцами, большая часть материалов сообщает о выполнении планов красноармейскими колхозами, выдвижении бывших переселенцев на руководящие должности и т.д.
Анализируя сложившуюся ситуацию, можно охарактеризовать ее как чрезвычайную. Неэффективность административного подхода к переселению и закреплению мигрантов была очевидна. Задача восстановления демографического баланса в регионе путем плановых переселений в полной мере не была реализована. Несмотря на компенсационные миграции, численность населения региона существенно сократилась. Кризис и противоречия во взаимодействиях местного населения и переселенцев осложняли хозяйственно-экономическую ситуацию в регионе. В целом стабилизация социально-политической и экономической ситуации на Северо-Западном Кавказе хотя и была достигнута, но путем значительных жертв и лишений.
Список литературы Взаимоотношения местного и пришлого населения на Северо-Западном Кавказе в период реализации программ компенсационной миграции 1930-х гг
- Радин А., Шаумян Л. 1932. За что жители станицы Полтавской выселяются с Кубани в северные края. Ростов н/Д. 15 с.
- Тархова Н.С. 2010. Красная армия и сталинская коллективизация 1928-1933 гг. М.: РОССПЭН. 375 с.
- Хубова Д.Н. 1995. Черные доски: tabula rasa: Голод 1932-1933 годов в устных свидетельствах. -Голод 1932-1933 годов: сборник статей (отв. ред. Ю.Н. Афанасьев). М.: РГГУ.
- Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 5675. Оп. 1. Д. 39. Л. 13.
- Центр документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК). Ф. 80691. Оп. 1. Д. 4. Л. 280.
- РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 39. Л. 13-14.
- РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 43. Л. 23.
- РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 43. Л. 22.
- РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 43. Л. 20.
- Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 9. Оп. 36. Д. 613. Л. 300; Голод в СССР. 1929-1934: В 3 т. Т. 2: Июль 1932 -июль 1933: 2012. (отв. составитель В.В. Кондрашин). М.: МФД. С. 472-474.
- РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 95. Л. 53-54.
- ЦДНИКК. Ф. 80691. Оп. 1. Д. 4. Л. 280.
- Дневники Ивана Лазаревича Полежаева (30-е годы, ст-ца Уманская). 2002. -Родная Кубань (литературно-исторический журнал). № 3. С. 51-61.