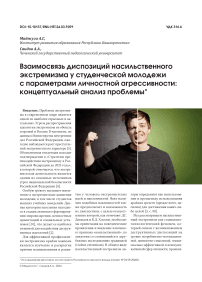Взаимосвязь диспозиций насильственного экстремизма у студенческой молодежи с параметрами личностной агрессивности: концептуальный анализ проблемы
Автор: Маджуга А.Г., Саидов А.А.
Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday
Рубрика: Вопросы психологии
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
Представлены результаты исследования диспозиций насильственного экстремизма среди студенческой молодежи. Особое внимание было уделено изучению влияния личностной агрессивности на склонность студентов к насильственному экстремизму. По результатам корреляционного анализа была выявлена связь агрессивности как личностной характеристики со склонностью к насильственному экстремизму. На основе полученных результатов сделан вывод о необходимости разработки и реализации программ психолого-педагогического сопровождения и социальной адаптации студенческой молодежи, которые позволят эффективно противодействовать распространению экстремистских тенденций и минимизировать риски вовлечения молодых людей в экстремистскую деятельность.
Экстремизм, диспозиции насильственного экстремизма, студенческая молодежь, личностная агрессивность
Короткий адрес: https://sciup.org/148329060
IDR: 148329060 | УДК: 316.6 | DOI: 10.18137/RNU.HET.24.03.P.091
Текст научной статьи Взаимосвязь диспозиций насильственного экстремизма у студенческой молодежи с параметрами личностной агрессивности: концептуальный анализ проблемы
Введение. Проблема экстремизма в современном мире является одной из наиболее серьезных и актуальных. Угроза распространения идеологии экстремизма не обошла стороной и Россию. В частности, по данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, ежегодно наблюдается рост преступлений экстремистского характера [5]. Обозначенная тенденция находит подтверждение в «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», в которой отмечается, что экстремистская деятельность является одним из основных источников угроз национальной безопасности Российской Федерации [8].
Особую тревогу вызывает вовлечение в экстремистские движения молодежи, в том числе студентов высших учебных заведений. Данная категория населения находится в стадии активного формирования мировоззрения, ценностных ориентаций и социальных установок [10], что делает ее наиболее уязвимой для воздействия деструктивных идеологий [2].
Для эффективной профилактики экстремизма крайне важным является изучение и раскрытие причин возникновения и разви-
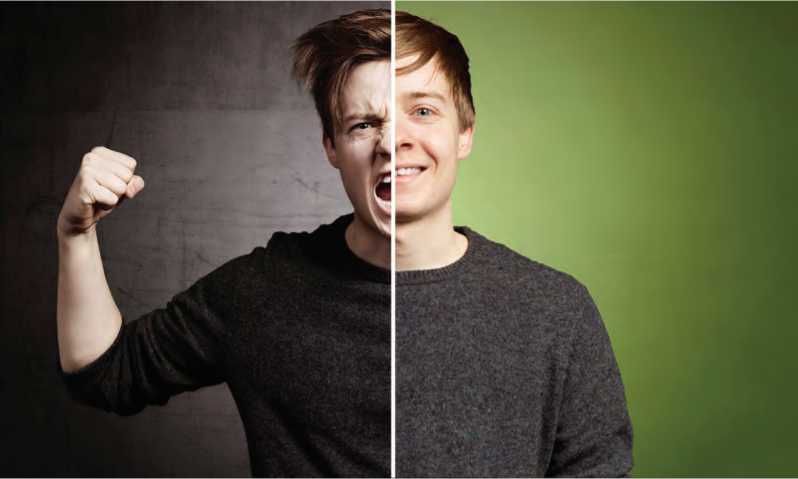
тия у человека экстремистских идей и наклонностей. Факт наличия подобных наклонностей также предполагает и возможность их диагностики, с целью осуществления которой, как отмечают Д.Г. Давыдов и К.Д. Хломов, необходима ориентация на поведенческие проявления и введение ключевого признака «насильственный», по аналогии со сложившейся в зарубежных исследованиях традицией (violent extremism). В общем виде насильственный экстремизм ав- торы определяют как использование и пропаганду использования крайних средств (прежде всего, насилия) для достижения каких-либо целей [3, с. 80].
Мы рассматриваем насильственный экстремизм как социальнопсихологический феномен, который связан с возникновением деструктивных диспозиций на уровне потребностно-мотивацион-ной, ценностно-смысловой, эмоционально-аффективной и коммуникативной сфер личности, проявля-
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 24-28-20482).

МАДЖУГА АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Российская Федерация, город Уфа
ANATOLY G. MADZHUGA
Ufa, Russian Federation

САИДОВ АСЛАНБЕК АРБИЕВИЧ
Российская Федерация, город Грозный
ASLANBEK A. SAIDOV
Grozny, Russian Federation
ющийся, в том числе,в повышении уровня личностной агрессивности и конфликтности. Обозначенные деструктивные проявления личности определяют применение агрессии и насилия по отношению к другим людям для достижения радикальных идеологических, политических, религиозных целей, а также направлены на пропаганду и оправдание таких действий.
Относительно склонности к насильственному экстремизму необходимо отметить,что на протяжении многих лет психологи и психиатры пытались раскрыть его психологические основы на индивидуально-личностном уровне. Однако ранние попытки, основанные на психопатологии, поиске психического заболевания, однозначно показали, что психические заболевания и аномалии, как правило, не являются основными причинами экстремистского поведения. Идею о том, что большинство экстремистских и террористических поступков вызвано психическим заболеванием или личностными особенностями террориста опровергает R. Borum [14]. В статье о психологической уязвимо- сти и склонности к вовлечению в насильственный экстремизм он предлагает альтернативное направление исследования – индивидуальную психологию терроризма, исследующее как в остальном нормальные психические состояния и процессы, основанные на характерных установках, диспозициях, склонностях и намерениях, могут повлиять на склонность человека к участию в насильственных экстремистских группах и действиях. Автор определяет менталитет (относительно устойчивый набор установок, предрасположенностей
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСПОЗИЦИЙ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ С ПАРАМЕТРАМИ ЛИЧНОСТНОЙ АГРЕССИВНОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ*
и склонностей) и мировоззрение в качестве основы психологического «климата», в рамках которого различные уязвимости и склонности формируют идеи и поведение таким образом, что могут увеличить вероятность вовлечения человека в насильственный экстремизм [14].
Причины склонности личности к экстремизму не всегда очевидны и могут быть связаны с социально-психологическими факторами, такими как социальное неравенство и дискриминация [6], ощущение беспомощности [13; 17], стремление к принадлежности к группе [23] и многими другими.
На сложность системы социально-психологических детерминант, влияющих на возникновение насильственного экстремизма, указывают в своем исследовании L. Pauwels и N. Schils. Они отмечают роль социального окружения и экстремистского контента в социальных сетях в формировании склонности к насильственному экстремизму среди молодежи. Влияние информационного воздействия опосредуется реальными межличностными отношениями [20].
Исследования, проведенные А.А. Апремовой, М.П. Литвиненко и В.В. Волковым, указывают на важность анализа мотивационно-личностной сферы студентов и идентификации факторов риска экстремистского поведения, включая склонность к девиантным формам поведения и дезинтеграцию мотивационной сферы [1].
В контексте влияния микросо-циального окружения значимым фактором является взаимодействие подростков с различными социальными группами, в том числе участие в буллинге. По данным В.С. Собкина и А.А. Мкртычяна, это может влиять на формирование экстремистских взглядов и поведения, особенно у лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам или испытывающих социокультурную дискриминацию [7].
Исследования A. Kruglanski, J. Fernandez, A. Factor и E. Szumowska показывают, что мотивационный дисбаланс и стремление к личной значимости, реализуемое через агрессивные действия, могут служить катализаторами для вовлечения в насильственный экстремизм [18]. Результаты исследования, проведенного J. Troian и его коллегами, свидетельствуют о том, что экзистенциальные мотивы, такие как стремление к значимости после пережитого остракизма или унижения, могут способствовать склонности к насильственному экстремизму. Аномия, выражающаяся в чувствах бессмысленности и изоляции, может служить медиатором между потерей значимости и принятием экстремистских взглядов [24].
В свете представленных данных А. Harpviken подчеркивает, что психические заболевания, травматический опыт, особенности ранней социализации, воспринимаемая дискриминация, социальный капитал и делинквентность являются важными факторами, способствующими формированию психологической уязвимости и, как следствие, склонности к экстремизму среди молодежи [16].
R. Agnew в разработанной им общей теории деформации утверждает, что рост насильственного экстремизма в обществе более вероятен, когда возникает так называемое «групповое напряжение». Оно может быть следствием действий в отношении группы, с которой человек идентифицирует себя, воспринимаемых как дискриминация; чувства несправедливости; опосредованной или прямой травмы от войны и гражданских беспорядков [12]. A. Nivette, M. Eisner и D. Ribeaud обнаружили, что напряжение в детстве и подростковом возрасте предвещает насильственные экстремистские взгляды в юности, особенно у тех, кто сталкивался с образовательными трудностями, семейными конфликтами и отторжением со стороны сверстников [19].
По мнению Т. Kharroub, основными социально-психологическими факторами насильственного экстремизма являются групповые процессы и дегуманизация жертв [17]. Дегуманизация происходит, когда чужая группа определяется как недостойная моральных норм, соблюдаемых по отношению к членам своей группы. Таким образом, дегуманизация рассматривается как необходимая предпосылка для совершения жестоких нападений на членов чужой группы [21]. Процессы, ведущие к дегуманизации и насилию, развиваются постепенно. Первым шагом является повышение значимости социальной идентичности (к примеру, этнической или религиозной) [22].
Основываясь на результатах рассмотренных выше исследований, можно утверждать, что проблема насильственного экстремизма среди студенческой молодежи требует комплексного подхода в изучении. Важно учитывать множество факторов, включая индивидуальные психологические характеристики, социокультурные и социально-экономические условия, а также влияние микросоциаль-ного окружения и информационного пространства. Только такой подход позволит разработать эффективные стратегии профилактики и коррекции, направленные на снижение риска вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность и повышение уровня социальной адаптации и психологического благополучия данной группы населения. Однако, несмотря на наличие многочисленных исследований проблем экстремизма, вопрос о социально-психологических детерминантах склонности личности к насильственному экстремизму до сих пор остается дискуссионным и открытым.
В этой связи актуально проведенное нами исследование, целью которого стало изучение влияния личностной агрессивности и конфликтности на склонность к насильственному экстремизму у представителей студенческой молодежи.
Материал и методы исследования. Эмпирическое исследование проводилось среди студенческой молодежи Чеченской Республики. В нем приняли участие студенты 1–2 курсов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чеченский государственный педагогический университет» (город Грозный) в возрасте от 17 до 23 лет (средний возраст – 19 лет). Общее количество респондентов – 100 человек.
Для учета социально-демографических характеристик опрошенная на констатирующем этапе исследования выборка респондентов была разделена на следующие группы: по половому признаку – женская выборка (выборка девушек) – 57 % и юношеская выборка – 43 %; по месту жительства: 49 % – представители села и 51 % – из городской местности.
Специфика выборки состоит в том,что она была сформирована из студентов, постоянно проживающих в Чеченской Республике – регионе, население которого было подвержено воздействию психотравмирующих событий в результате длительной чрезвычайной ситуации. В ходе подобной ситуации антропогенного (военного) характера большинство населения, проживавшего на территории Чеченской Республики, подверглось воздействию различных психотравмирующих событий, способных существенно повлиять на психическое здоровье и вызвать значительные психопатологические и эмоционально-личностные нарушения.
В качестве исследовательского инструментария были использованы: методика диагностики диспозиций насильственного экстремизма (Violent Extremism Attitude Scales, далее – VEAS) Д.Г. Давыдова и К.Д. Хломова [3], направленная на выявление диспозиций к насильственному экстремизму среди подростков и молодежи; методика Е.П. Ильина «Личностная агрессивность и конфликтность» [11], предназначенная для выявления склонности к конфликтности и агрессивности как личностных характеристик.
Количественная математико-статистическая обработка осуществлялась на персональном компьютере с использованием программных комплексов Microsoft Office Excel и IBM SPSS Statistics 27. Анализ эмпирических данных производился с помощью следующих методов: частотный анализ; при сравнении значений независимых выборок – критерий t-Стьюдента; расчет связей между переменными с использованием метода ранговой корреляции по Ч. Спирмену.
Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения склонностей студенческой молодежи Чеченской Республики к насильственному экстремизму нами было проведено исследование с использованием методики диагностики диспозиций склонности к насильственному экстремизму [3]. Она позволяет дать оценку по 11 шкалам: «Культ силы», «Допустимость агрессии», «Интолерантность», «Конвенциональное принуждение», «Социальный пессимизм», «Мистичность», «Деструктивностъ и цинизм», «Протестная активность», «Нормативный нигилизм», «Антиинтрацепция», «Конформизм». Описательная статистика для каждой диспозиции представлены в Таблице 1.
Из эмпирических данных, представленных в Таблице 1, видно, что наибольшее среднее значение во всей выборке имеет конвенциональное принуждение, которое, как утверждает Д.Г. Давыдов, состоит в стремлении выявлять людей, не уважающих общепринятые нормы и ценности, с последующим их наказанием, в запретах и жестких требованиях к другим и себе ради восстановления справедливости и отказа от гуманистических ценностей [3, с. 85].
На втором месте по выраженности стоит антиинтрацепция как показатель неприятия субъективных переживаний личности. Третье место занимает мистичность, проявляющаяся в стремлении к уклонению от ответственности и потребности в защите от страха перед реальностью через простые, но эмоционально насыщенные объяснения мироустройства. Наименьшее среднее значение демонстрирует показатель нормативного нигилизма (пренебрежительное отношение к социальным нормам, правилам и законам).
В то же время, исходя из средних значений,мы не наблюдаем высокую степень выраженности какого-либо из показателей, позволяющую включить всю вы-
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСПОЗИЦИЙ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ С ПАРАМЕТРАМИ ЛИЧНОСТНОЙ АГРЕССИВНОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ*
борку в группу риска (показатель выше 21). Далее, для выявления структуры выборки по показателям диспозиций насильственного экстремизма нами был проведен частотный анализ уровней выраженности для каждой диспозиции. Его результаты представлены в Таблице 2.
Согласно данным частотного анализа диспозиций насильственного экстремизма, по всем показателям большинство опрошенных имеет средний уровень выраженности. Однако имеется достаточно большая доля респондентов, продемонстрировавших высокие зна- чения диспозиций, что позволяет отнести данную категорию к группе риска.
В экспериментальной выборке 15 % опрошенных демонстрирует высокий уровень антиинтрацеп-ции, 9 % – имеет высокие уровни культа силы и конвенционального принуждения, у 7 % наблюдается высокий уровень интоле-рантности,у 6 % – мистичности, а также деструктивности и циниз-ма,у 5 % – протестной активности и конформизма, у 4 % – допустимости агрессии и социального пессимизма,у 2 % – нормативного нигилизма.
Из всей выборки 39 % респондентов продемонстрировали высокий уровень хотя бы по одному показателю, а 7 % характеризуются высокими показателями по 3 и более диспозициям, что позволяет отнести их к группе риска.
На основе полученных данных можно сделать вывод о наличии среди опрошенных студентов значимой доли людей,имеющих такой показатель диспозиций насильственного экстремизма, который позволяет отнести их к группе риска, а также констатировать наличие у них склонности к насильственному экстремизму.
Таблица 1
Описательная статистика диспозиций насильственного экстремизма
|
Диспозиции насильственного экстремизма |
N |
Минимум |
Максимум |
Среднее |
Стандартное отклонение |
|
Культ силы |
100 |
10 |
25 |
17,08 |
3,174 |
|
Допустимость агрессии |
100 |
7 |
24 |
16,48 |
3,307 |
|
Интолерантность |
100 |
7 |
26 |
16,79 |
3,494 |
|
Конвенциональное принуждение |
100 |
12 |
29 |
18,73 |
2,774 |
|
Социальный пессимизм |
100 |
10 |
24 |
16,66 |
2,938 |
|
Мистичность |
100 |
7 |
24 |
17,50 |
2,754 |
|
Деструктивностъ и цинизм |
100 |
7 |
24 |
17,14 |
3,200 |
|
Протестная активность |
100 |
11 |
24 |
17,40 |
2,523 |
|
Нормативный нигилизм |
100 |
7 |
23 |
16,10 |
2,736 |
|
Антиинтрацепция |
100 |
11 |
26 |
18,56 |
2,564 |
|
Конформизм |
100 |
11 |
26 |
17,43 |
2,524 |
Таблица 2
Частотное распределение уровней выраженности диспозиций насильственного экстремизма, %
|
Диспозиция |
Уровни выраженности (%) |
Пропущенные ответы |
||
|
Низкий |
Средний |
Высокий |
||
|
Культ силы |
14,0 |
77,0 |
9,0 |
0 |
|
Допустимость агрессии |
16,0 |
80,0 |
4,0 |
0 |
|
Интолерантность |
15,0 |
78,0 |
7,0 |
0 |
|
Конвенциональное принуждение |
1,0 |
90,0 |
9,0 |
0 |
|
Социальный пессимизм |
18,0 |
78,0 |
4,0 |
0 |
|
Мистичность |
9,0 |
85,0 |
6,0 |
0 |
|
Деструктивность и цинизм |
13,0 |
81,0 |
6,0 |
0 |
|
Протестная активность |
7,0 |
88,0 |
5,0 |
0 |
|
Нормативный нигилизм |
18,0 |
80,0 |
2,0 |
0 |
|
Антиинтрацепция |
4,0 |
81,0 |
15,0 |
0 |
|
Конформизм |
7,0 |
88,0 |
5,0 |
0 |
Для изучения влияния гендерного фактора на показатели склонности к насильственному экстремизму нами был проведен сравнительный анализ значений диспозиций насильственного экстремизма между мужской и женской выборками. Результаты сравнительного анализа приведены в Таблице 3.
Результаты сравнительного анализа по гендерному признаку позволили выявить статистически значимые различия лишь по трем показателям. Так, у мужчин в среднем отмечаются более высокие показатели культа силы, допустимости агрессии и нормативного нигилизма. Исходя из данных результатов, можно сделать вывод о некотором влиянии гендерного фактора на формирование склонности к насильственному экстремизму. Мужчины в данном случае демонстрируют более высокую вероятность вовлечения в насильственную экстремистскую деятельность.
При выявлении зависимости показателей насильственного экстремизма от места проживания респондентов мы не наблюдали значимых различий по большинству шкал (см. Таблицу 4). Из одиннадцати показателей только один –
«нормативный нигилизм» – имеет обусловленность городской или сельской средой (p ≤ 0,05).
Городские жители, как мы видим из эмпирических данных, представленных в Таблице 4, более критично относятся к соблюдению общественных законов и социальных норм.Они с большей вероятности пойдут на нарушение правил и законов для достижения своих целей.
Для изучения влияния личностной агрессивности на склонность к насильственному экстремизму нами был проведен корреляционный анализ с использованием ме-
Таблица 3
Сравнение средних значений диспозиций насильственного экстремизма по половому признаку
|
Диспозиция насильственного экстремизма |
Среднее (женщины, n = 57) |
Среднее (мужчины, n = 43) |
t-знач. |
p |
|
Культ силы |
16,386 |
18,000 |
–2,589 |
0,011 |
|
Допустимость агрессии |
15,807 |
17,372 |
–2,398 |
0,018 |
|
Интолерантность |
16,421 |
17,279 |
–1,219 |
0,226 |
|
Конвенциональное принуждение |
18,386 |
19,186 |
–1,436 |
0,154 |
|
Социальный пессимизм |
16,456 |
16,930 |
–0,797 |
0,427 |
|
Мистичность |
17,632 |
17,326 |
0,548 |
0,585 |
|
Деструктивностъ и цинизм |
17,246 |
17,000 |
0,378 |
0,706 |
|
Протестная активность |
17,140 |
17,744 |
–1,188 |
0,238 |
|
Нормативный нигилизм |
15,544 |
16,837 |
–2,396 |
0,018 |
|
Антиинтрацепция |
18,421 |
18,744 |
–0,622 |
0,535 |
|
Конформизм |
17,088 |
17,884 |
–1,573 |
0,119 |
Таблица 4
Сравнение средних значений диспозиций насильственного экстремизма по признаку места жительства
|
Диспозиция насильственного экстремизма |
Среднее (сельские, n = 49) |
Среднее (городские, n = 51) |
t-знач. |
p |
|
Культ силы |
17,224 |
16,941 |
0,444 |
0,658 |
|
Допустимость агрессии |
15,857 |
17,078 |
–1,869 |
0,065 |
|
Интолерантность |
17,122 |
16,471 |
0,932 |
0,354 |
|
Конвенциональное принуждение |
18,571 |
18,882 |
–0,558 |
0,578 |
|
Социальный пессимизм |
16,755 |
16,569 |
0,316 |
0,753 |
|
Мистичность |
17,551 |
17,451 |
0,181 |
0,857 |
|
Деструктивностъ и цинизм |
17,020 |
17,255 |
–0,365 |
0,716 |
|
Протестная активность |
17,224 |
17,569 |
–0,680 |
0,498 |
|
Нормативный нигилизм |
15,429 |
16,745 |
–2,467 |
0,015 |
|
Антиинтрацепция |
18,408 |
18,706 |
–0,579 |
0,564 |
|
Конформизм |
17,327 |
17,529 |
–0,400 |
0,690 |
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСПОЗИЦИЙ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ С ПАРАМЕТРАМИ ЛИЧНОСТНОЙ АГРЕССИВНОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ*
тода ранговой корреляции Ч. Спирмена. Результаты анализа представлены в Таблице 5.
Корреляционный анализ диспозиций насильственного экстремизма с параметрами личностной агрессивности показал, что наблюдается положительная связь культа силы с напористостью (r 0,374, p ≤ 0,001), неуступчивостью (r 0,365, p ≤ 0,001), а также отрицательная связь с бескомпромиссностью (r –0,337, p ≤ 0,001). Допустимость агрессии имеет положительную корреляцию с напо- ристостью (r 0,330, p ≤ 0,001), неуступчивостью (r 0,361, p ≤ 0,001), мстительностью (r 0,425, p ≤ 0,001), отрицательную корреляцию с бескомпромиссностью (r –0,382, p ≤ 0,001). Интолерантность положительно связана с обидчивостью (r 0,296, p ≤ 0,01) и неуступчивостью (r 0,201, p ≤ 0,05). Конвенциональное принуждение положительно связано с напористостью (r 0,205, p ≤ 0,05), обидчивостью (r 0,235, p ≤ 0,05) неуступчивостью (r 0,258, p ≤ 0,01) и мстительностью (r 0,272, p ≤ 0,01).
Социальный пессимизм положительно связан с напористостью (r 0,258, p ≤ 0,01), обидчивостью (r 0,231, p ≤ 0,05), неуступчивостью (r 0,353, p ≤ 0,001), нетерпимостью к мнению других (r 0,233, p ≤ 0,05), подозрительностью (r 0,312, p ≤ 0,01) и отрицательно с бескомпромиссностью (r –0,224, p ≤ 0,05). Мистичность показывает отрицательную связь с бескомпромиссностью (r –0,208, p ≤ 0,05). Деструктивность и цинизм имеют положительную корреляцию с напористостью (r 0,202, p ≤ 0,05),
Таблица 5
Матрица корреляций диспозиций насильственного экстремизма с параметрами личностной агрессивности и конфликтности
Суммарная шкала предрасположенности к экстремистскому поведению (вычисляется сложением значений всех 11 диспозиций) положительно связана с напористостью (r 0,309, p ≤ 0,01), обидчивостью (r 0,333, p ≤ 0,001), неуступчивостью (r 0,358, p ≤ 0,001), мстительностью (r 0,281, p ≤ 0,01), нетерпимостью к мнению других (r 0,198, p ≤ 0,05), подозрительностью (r 0,216, p ≤ 0,05) и отри- цательно с бескомпромиссностью (r –0,306, p ≤ 0,01).
Таким образом, анализ корреляционной связи между различными проявлениями личностной агрессивности и предрасположенностью к насильственному экстремизму позволяет сделать вывод о наличии статистически значимых положительных корреляций. Эти данные свидетельствуют о том, что агрессивное поведение, проявляемое в формах напористости, обидчивости, неуступчивости, мстительности, нетерпимости к чужому мнению и подозрительности, может служить предиктором склонности к экстремистским действиям. Из вышесказанного следует, что чем выше уровень личностной агрессивности, тем больше проявляется склонность к экстремистским взглядам и поведению у студенческой молодежи.
Итак, обнаруженные связи подчеркивают сложность феномена экстремизма и указывают на множество социально-психологических детерминант, которые могут влиять на его проявление.Зна-ние этих детерминант дает возможность определить правильный вектор для разработки профилактических мер и программ, направленных на снижение риска экстремистского поведения среди молодежи.
Заключение. Согласно результатам частотного анализа уровней выраженности диспозиций насиль- ственного экстремизма у студенческой молодежи, большинство респондентов имеет средний уровень выраженности всех показателей (культ силы, допустимость агрессии, интолерантность, конвенциональное принуждение, социальный пессимизм, мистичность, деструктивность и цинизм, протестная активность, нормативный нигилизм, антиинтрацепция). Также выявлена значительная доля респондентов с высокими их значениями, что позволяет отнести их к группе риска. В экспериментальной выборке от 2 до 15 % опрошенных имеет высокий уровень различных показателей диспозиций, что указывает на наличие у них склонности к насильственному экстремизму.
Кроме того, было выявлено влияние семейных и социально-демографических факторов на формирование склонности молодежи к насильственному экстремизму. Так, лица мужского пола демонстрируют более высокую вероятность вовлечения в насильственную экстремистскую деятельность, чем женского.У жителей городской местности отмечается более высокий уровень нормативного нигилизма.
В ходе корреляционного анализа было доказано, что агрессивность как личностная характеристика может стать одним из факторов склонности личности к насильственному экстремизму.
Список литературы Взаимосвязь диспозиций насильственного экстремизма у студенческой молодежи с параметрами личностной агрессивности: концептуальный анализ проблемы
- Апремова А.А., Литвиненко М.П., Волков В.В. Исследование факторов риска экстремистского поведения у студенческой молодежи вуза // Педагогика и психология: тенденции и перспективы развития: Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции, Волгоград, 11 октября 2017 года. Вып. IV. Волгоград: Инновационный центр развития образования и науки, 2017. С. 30–35.
- Буданов С.А., Колесников Р.В. Молодежный экстремизм: особенности структуры личности преступника // Вестник Воронежского института МВД России. 2022. № 1. С. 139–145.
- Давыдов Д.Г., Хломов К.Д. Методика диагностики диспозиций насильственного экстремизма // Психологическая диагностика. 2017. Т. 14, № 1. С. 78–97.
- Кузнецова А.С., Хавыло А.В. Психологические детерминанты отношения молодежи к экстремистской деятельности // Психология и право. 2021. Т. 11, № 3. С. 33–46. DOI: 10.17759/psylaw.2021110303
- Сапожников А. В России на 160 % за год выросло число экстремистских преступлений // Сетевое издание «Коммерсантъ». URL: https://www.kommersant.ru/doc/5861839?ysclid=lu1oy15y3d828716884 (дата обращения: 21.05.2024).
- Сериков А.В. Радикализм и экстремизм в российской молодежной среде в контексте избыточных социальных неравенств // Гуманитарий Юга России. 2020. № 6. С. 68–79.
- Собкин В.С., Мкртычян А.А. Роль социокультурных факторов в формировании отношения к экстремизму среди школьников Москвы и Риги // Национальный психологический журнал. 2013. № 2 (10). С. 32–40. DOI 10.11621/npj.2013.0204
- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утверждена Президентом РФ от 29.05.2020 № 344). URL: http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202005290036?type=pdf&ysclid=lg5i3w0dda784097579 (дата обращения: 20.05.2024).
- Тупикова В.А., Гудкова Я.А., Овчинников-Лысенко Е.Г. Эмпатия студентов в контексте риска экстремизма // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2023. Т. 23, № 3. С. 579–589. DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-579-589
- Хилько М.Е., Ткачева М.С. Возрастная психология: учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024. 201 с.
- Шипова Л.В. Методы психологической диагностики агрессии и агрессивности школьников: учебно-методическое пособие. Саратов, 2016. 56 с.
- Agnew R.A General Strain Theory of Terrorism. Theoretical Criminology. 2010. No. 14. P. 131–53.
- Borum R. Assessing Risk for Terrorism Involvement. Journal of Threat Assessment and Management. 2015. No. 2 (2). P. 63–87.
- Borum R. Psychological Vulnerabilities and Propensities for Involvement in Violent Extremism. Behavioral Sciences & the Law. 2014. No. 32. P. 286–305. DOI: https://doi.org/10.1002/bsl.2110
- Elzesser A. Propensity to Extremism in the Context of Socio-Psychological Maladjustment. Psikhologicheskii zhurnal. 2023. DOI: https://doi.org/10.31857/s020595920026155-6
- Harpviken A. Psychological Vulnerabilities and Extremism Among Western Youth: A Literature Review. Adolescent Research Review. 2020. No. 5. P. 1–26. DOI: https://doi.org/10.1007/S40894-019-00108-Y
- Kharroub T. Understanding Violent Extremism: The Social Psychology of Identity and Group Dynamics. Arab Center Washington DC. 2015. URL: https://arabcenterdc.org/resource/understanding-violent-extremism-the-social-psychologyof-identity-and-group-dynamics/#_ftn29
- Kruglanski A., Fernandez J., Factor A., Szumowska E. Cognitive mechanisms in violent extremism. Cognition. 2019. No. 188. P. 116–123. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.11.008
- Nivette A., Eisner M., Ribeaud D. Developmental Predictors of Violent Extremist Attitudes: A Test of General Strain Theory. Journal of Research in Crime and Delinquency. 2017. No. 54:6. P. 755–790.
- Pauwels L., Schils N. Diff erential Online Exposure to Extremist Content and Political Violence: Testing the Relative Strength of Social Learning and Competing Perspectives. Terrorism and Political Violence. 2016. No. 28. P. 1–29. DOI: https://doi.org/10.1080/09546553.2013.876414
- Savage R. Modern genocidal dehumanization: a new model. Patterns of Prejudice. 2019. No. 2. P. 139–161.
- Tajfel H. Individuals and groups in social psychology. British Journal of Social and Clinical Psychology. 1979. No. 2. P. 183–190.
- Taylor M. The Terrorist. London: Brassey's, 1988. 181 p.
- Troian J., Baidada O., Arciszewski T., Apostolidi, T., Çelebi E., Yurtbakan T. Evidence for indirect loss of significance effects on violent extremism: The potential mediating role of anomia. Aggressive behavior. 2019. DOI: https://doi.org/10.1002/ab.21863