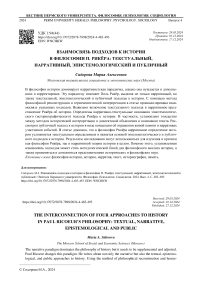Взаимосвязь подходов к истории в философии П. Рикёра: текстуальный, нарративный, эпистемологический и публичный
Автор: Сидорова М.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (60), 2024 года.
Бесплатный доступ
В философии истории доминирует нарративистская парадигма, однако она нуждается в дополнениях и корректировке. Эту парадигму изменяет Поль Рикёр, выделяя не только нарративный, но также текстуальный, эпистемологический и публичный подходы к истории. С помощью метода философской реконструкции и герменевтической интерпретации в статье проанализирована взаимосвязь указанных подходов. Выявлено включение текстуального подхода в нарративное представление Рикёра об истории. Определены нарративно-текстуальные основания эпистемологического (историографического) подхода Рикёра к истории. В частности, установлено тождество между методом исторической интерпретации и диалектикой объяснения и понимания текста. Рассмотрен публичный подход к истории в виде концепции об отражении живой памяти в нарративах участников событий. В статье доказано, что в философии Рикёра нарративное определение истории усложняется текстуальным определением и является основой эпистемологического и публичного подходов к истории. Результаты исследования могут использоваться для изучения и критики как философии Рикёра, так и нарративной теории истории в целом. Помимо этого, установленная взаимосвязь подходов может стать методологической базой для философского анализа истории, а также применяться и дополняться представителями исторических и философских наук.
Философия истории, история, нарратив, текст, историография, память
Короткий адрес: https://sciup.org/147247262
IDR: 147247262 | УДК: 1:94(44) | DOI: 10.17072/2078-7898/2024-4-483-493
Текст научной статьи Взаимосвязь подходов к истории в философии П. Рикёра: текстуальный, нарративный, эпистемологический и публичный
Со второй половины двадцатого столетия в философии истории преобладает нарративистский подход. Его предпосылкой стал известный лингвистический поворот , позволивший ученым отойти от классических онтологических проблем указанной дисциплины, а именно — от вопросов о сущности и этапах исторического процесса, о развитии общества, социальном прогрессе. Стала актуальной проблема об эпистемологической составляющей философии истории. Нарративисты дополнили историческое исследование чтением, письмом, интерпретацией и поставили вопрос о текстуализации реальности. Он превратился в одну из важнейших тем постструктуралистических теорий. Так, например, в работах М. Фуко [Фуко М., 1996] и Р. Барта [Барт Р., 2003] историческое прошлое получило определение нарративного конструкта. В итоге в постмодернистской философии укоренилось отождествление исторического повествования с поэтическим дискурсом. Во многом этому способствовала теория Х. Уайта. В ней историку приписана одна из ролей автора художественного текста, а именно — роль создателя сюжета исторического нарратива [Уайт Х., 2002, с. 27]. Взгляды Уайта обнажили проблему сведения истории к рассказу и послужили источником для дискуссий.
В этих дискуссиях принял участие и Поль Рикёр — представитель французской филосо-484
фии субъекта, автор феноменологической герменевтики. Он получил мировую известность во многом благодаря разработанной им теории нарратива в 80-е гг. XX в. Вопросы об истории стали важной составляющей ее проблемного поля и всей философии французского мыслителя. Рикёр неоднократно обращался к понятию истории (l’histoire) как в ранних произведениях (сборник работ «История и истина»), так и в поздней философии истории (книга «Память, история, забвение»). Исследователи его трудов сходятся во мнении, что в них история предстает в качестве разновидности нарратива. Среди иностранных ученых об этом пишут, например, Д. Каплан [Kaplan D.M., 2003, р. 54] и Д. Вуд [Wood D., 1991, р. 16]. Отечественные исследователи мысли Рикёра с ними солидарны. Так, о его нарративной концепции истории заявляют И.С. Вдовина, С.Н. Зенкин, Е.Н. Шульга, А.В. Ямпольская [Вдовина И.С., 2019; Зенкин С.Н., 2013; Шульга Е.Н., 2015; Ямпольская А.В., 2015].
Действительно, нарративная парадигма является определяющей в философии истории Рикёра, но не единственной. Помимо нее в его работах можно обнаружить текстуальный, эпистемологический и публичные подходы к истории. В статье будет показано, что указанные подходы переплетаются в произведениях Рикё-ра, а их взаимосвязь является смысловым фундаментом, на котором философ выстраивает целостную концепцию истории как ответ нар- ративистам: он предлагает рассматривать историю в значении отдельного вида нарратива, отличного от поэтического, художественного рассказа. В первой части нашего исследования будет проанализировано становление его герменевтики исторического текста и нарративной концепции истории, а также установлена их взаимосвязь. Во второй части работы будут рассмотрены эпистемологический и публичный подходы к истории в виде парадигм, выстроенных на основе представлений Рикёра об историческом нарративе — повествовании и в письменной, и в устной форме. В заключении будут сделаны выводы и предложены варианты применения результатов исследования.
Текстуальный и нарративный подходы к истории
В творчестве Рикёра представление об истории как о тексте предшествует ее нарративному определению. Французский философ разработал текстуальный подход к истории в 70-е гг. ХХ в. в период увлечения герменевтикой социального действия 1 . Последнее он определил в значении публично осмысленного поступка. Рикёру нужно было доказать саму возможность описания действия как явления, осмысленного не только его автором, но и другими — любыми участниками совместного бытия, социальной сферы жизни. Для этого он сопоставил социальное действие с текстом и выделил четыре сходства между ними в статье «Модель текста: осмысленное действие как текст» (1971).
Первое сходство следует из принципа объективации: социальное действие, как и текст, объективировано [Рикёр П., 2008, с. 29]. Если объективация текста состоит в фиксировании смысла дискурса с помощью записи, то объективация действия — в запечатлении его смысла на ткани общественного пространства. Рикёр рассматривает эту социальную запечатлен-ность как запись, документирование и задается вопросом: «Разве история не представляет собой документ человеческого действия?» [Ри-кёр П., 2008, с. 33]. Философ подразумевает утвердительный ответ. В его герменевтике со- циального действия история предстает записью поступков, событий — текстом о публичных смыслах произошедшего.
Последующие аргументы об аналогии действия с текстом также содержат в себе текстуальный подход к истории. Так, согласно второму аргументу, социальное действие, как и текст, автономно от своего автора: «наши действия “убегают” от нас и приводят к последствиям, которые мы не намеревались произвести» [Рикёр П., 2008, с. 32]. Их автономность позволяет историкам вариативно фиксировать — записывать их смыслы. Третий аргумент связан с идеей преодоления действия, как и текста, своей изначальной ситуации . По мнению Рикёра, «осмысленное действие — это действие, значимость которого распространяется за пределами его релевантности для изначальной ситуации» [Рикёр П., 2008, с. 33]. Иначе говоря, действие (подобно тексту) освобождено от своего ситуационного контекста, что позволяет истории как записи сделанного преодолевать их событийность и быть открытой для бесконечных интерпретаций. Об открытости Рикёр непосредственно заявляет в четвертом аргументе: действие, как и текст, адресовано бесконечному количеству читателей [Ри-кёр П., 2008, с. 34]. Следовательно, история как запись открыта для прочтения и толкования.
Рикёр развивает текстуальный подход к истории в своей семантике, идеи которой описаны им, например, в статье «Символическая структура действия» (1977). В ней философ именует культуру, любые действия и события символически опосредованными явлениями. Он определяет исторический текст в качестве репрезентации событий с помощью повествовательных символов. По мнению Рикёра, действия, отпечатавшись в социальном бытии, записываются в историю и «регистрируются в форме досье, документов, архивов, завершающих путь превращения человеческого действия в текст» [Рикёр П., 2017, с. 199–200]. Зафиксировав события, текст истории отражает их, но не становится их копией, потому что подпитывается воображением историков. Рикёр утверждает, что не только авторы художественных текстов, но и историки, «сочиняя интригу, изобретают ход событий, отличный от того, что происходит в действительности» [Рикёр П., 2017, с. 201–202]. При этом в его философии такая трансформация реальности с помощью вымысла не приравнивается к ее деформации. Воображение историков позволяет им реорганизовывать ход событий, создавать исторические сюжеты для того, чтобы описать, понять и объяснить произошедшее.
Связывая вымысел с функцией текста представлять реальный мир, Рикёр отсылает нас к нарративу (повествованию) — феномену, изучению которого он посвятил в 80-е гг. немало времени. В работе «Структура символического действия» намечен переход от текстуального подхода к истории к нарративному. В ней философ в итоге пишет: «Сквозь сито рассказанных историй мы осуществляем повествовательное прочтение нашей собственной жизни и жизни сообществ, которым мы принадлежим» [Рикёр П., 2017, с. 202].
Итоговое преобразование текстуального подхода к истории в нарративный мы встречаем в книге «Время и рассказ». Однако в ней нарративный подход не отрицает текстуальное понимание истории, потому что рикёровская концепция нарратива включает в себя понятие исторического текста. Так, у Рикёра нарратив — это повествование в широком смысле (и письменное, и устное) 2 . При этом акценты в определении истории все-таки расставлены по-новому. Теперь для французского философа важна не столько история как форма фиксации событий (устная или письменная), сколько сам факт ее повествовательной сущности.
В книге «Время и рассказ» он наделяет историю основными признаками нарратива (повествования), а именно — свойствами подражать (mimesis) человеческому опыту и соединять его в единый сюжет (mythos). Указанные свойства он заимствует из поэтики Аристотеля, который рассмотрел поэзию в роли искусства подражания реальной практической жизни людей и определил интригу трагедии (mythos) как «mimesis praxeos» (подражание действию) [Аристотель, 1983, с. 652]. Рикёр анализирует любое повествование с помощью аристотелев- ской пары mimesis – mythos, что позволяет ему определить исторический нарратив не как копию реальных событий, а как миметическую деятельность, которая организует факты, включая их в интригу [Рикёр П., 1998, с. 45–46]. С его точки зрения, историческое повествование формирует единство смысла события, единство самих событий, а его сюжет отражает целостность жизненного опыта людей.
Кроме того, Рикёр наделяет историю еще одним важным для него признаком нарратива — способностью преобразовывать время. Как указывает Д. Каплан, французский философ обнаружил, что «рассказ истории трансформирует “природное время” в “человеческое”, когда создает новые интерпретации и новые значения» (перевод наш. — М.С. ) [Kaplan D.M., 2003, р. 54]. Объединение проблемы темпоральности истории с вопросами о ее повествовательной сущности делает концепцию Рикёра о нарративе уникальной теорией. Философским фундаментом этого объединения становятся поэтика Аристотеля и концепция времени у Августина. Как указывает Е.В. Петровская, «Рикёр как будто подвергает философов взаимному испытанию» [Петровская Е.В., 2013, с. 212]. Соединив представления Августина о времени с Аристотелевыми понятиями «mimesis» и «mythos», он формулирует основную идею своей концепции нарратива: «Время становится человеческим в той мере, в какой оно артикулируется нарративным способом, и, наоборот, повествование значимо в той мере, в какой оно очерчивает особенности временного опыта» [Рикёр П., 1998, с. 13]. В итоге время у Рикёра предстает как «препарированное историческим рассказом» [Петровская Е.В., 2013, с. 213].
Во «Времени и рассказе» описаны стадии перехода времени жизни людей в любой нарратив, в том числе и в исторический: префигура-тивная (мимесис-I), конфигуративная (миме-сис-II) и рефигуративная (мимесис-III). Рассмотрим их особенности. Признаком первого миметического этапа является изначальная нарративная опосредованность человеческого опыта. Ее Рикёр выводит из символической опосредованности событий. С точки зрения философа, о ситуации или о поступке мы можем составить рассказ по причине их артику- ляции в знаках, в нормах, в культуре. Рикёр называет символы культуры условиями для прочтения жизни людей как истории. Особенностью второго миметического этапа становится появление mythos: повествование объединяет (конфигурирует) различные ситуации, деяния в целостный сюжет, связывает их с помощью интриги. Рикёр полагает, что «идеи начала, середины и конца берутся не из опыта: это не черты реального действия, но следствия самого построения поэмы» [Рикёр П., 1998, с. 51]. По мнению философа, «история принадлежит нарративному полю, определяемому вышеназванной конфигурирующей операцией» [Ри-кёр П., 1998, с. 260]. Она предстает модусом повествования, соединяя отдельные события. Что касается заключительной миметической стадии, то ее Рикёр описывает как повествование от лица читающих. Он рассматривает чтение в качестве способа «рефигурации мира действия, осуществляемой под знаком интриги» [Рикёр П., 1998, с. 94]: читатели, интерпретируя, достраивают само повествование и связывают его с собственным жизненным миром. Одними из них являются историки. Они создают исторические тексты или рассказы как варианты интерпретации событий, тем самым нарративно рефигурируют (репрезентуют) опыт человечества. В интерпретациях историков настоящее пересекается с реальностью, конфигурированной повествованием.
Стоит отметить, что зачатки идеи Рикёра о роли прочтения исторического нарратива присутствуют уже в его статье «Модель текста: осмысленное действие как текст». Доказывая в ней открытость социального действия для интерпретации, он пишет: «Смысл человеческого действия — это то, что адресовано неопределенному кругу потенциальных “читателей”. Судьями являются не современники, а, как сказал Гегель, сама история» [Рикёр П., 2008, с. 34]. Если дальше проследить за ходом мысли Рикё-ра, то выходит, что история судит от лица ее читателей как интерпретаторов, связывающих прочитанные исторические нарративы с произошедшим и происходящим в социальном бытии. Однако, чтобы интерпретировать поступки или события, нужно изначально объединить их в сюжет, в нечто целое, а значит — составить о них повествование, текст. Поэтому чте-ние/интерпретация истории будет всегда актом возвращения от исторического нарратива к самой реальности. Из чего следует, что уже в 70е гг. в период создания герменевтики социального действия Рикёр определяет историю как результат прочтения жизни людей, а следовательно, и как результат интерпретации, осуществляемый посредством не только нарративной конфигурации, но и нарративной рефигурации.
После написания книги «Время и рассказ» Рикёр возвращается к нарративному подходу к истории на позднем этапе своего философского пути, а именно — в произведении «Память, история, забвение» (2000). В нем французский мыслитель ставит вопрос о взаимосвязи нарративного вымысла с реальным прошлым в историческом тексте и обращается к высказанной им во «Времени и рассказе» идее о том, что любое повествование (художественное или историографическое) устроено так, как если бы оно рассказывало о том, что действительно произошло. Другими словами, нарративность следует из самого события, поступка. Может ли историческое событие быть данным нам очищенным от повествования о нем? Рикёр отвечает отрицательно на этот вопрос, следуя завету Ханны Арендт о том, что любой поступок — это всегда поступок рассказанный [Рикёр П., 2004, с. 369]. При этом он не рассматривает действия, события как то, что предает истинность историческому нарративу. С его точки зрения, жизнь людей не является историей, а получает историческую форму посредством повествования о ней. В итоге Рикёр приходит к констатации простой, но важной идеи своей философии истории: история — это не прожитое, а нарративно конструируемое. Это определение истории является для Рикёра рабочим тогда, когда понятие нарратива включает в себя не только устное повествование, но и письменную фиксацию. Ведь в «Памяти, истории, забвении» философ возвращается и к текстуальному подходу к истории, о котором писал в 70-е гг. В этой книге он напоминает, что история — это разновидность записи, предназначенная для прочтения [Рикёр П., 2004, с. 689]. В поздней философии Рикёра нарративный подход к истории включает в себя подход текстуальный. Это включение связано с проблематикой других подходов Ри-кёра к истории — эпистемологического и публичного.
Эпистемологический и публичный подходы к истории
В философии Рикёра проблема исторического текста и нарратива раскрыта с помощью эпистемологического и публичного подходов к истории. Под эпистемологическим подходом мы имеем в виду научно-познавательный взгляд на историю как на историографию. Так, определение истории как способа научного познания встречается в тех работах Рикёра, в которых он обращается к вопросам об историческом письме, повествовании. В частности, такое определение становится источником для создания герменевтики социального действия. Ведь Ри-кёр сравнивает действие с текстом во многом для того, чтобы доказать необходимость включения герменевтики в методологию научного познания общества. Будучи критически настроенным к психологизму герменевтики Шлейер-махера, Рикёр диалектически соединяет понимание с объяснением и формулирует следующую установку для наук о человеке: «Больше объяснять, чтобы лучше понимать» [Рикёр П., 2013, с. 61].
Какие науки Рикёр имеет в виду под социальными? В первую очередь, историю 3 . Уже в раннем творчестве Рикёра содержатся идеи о диалектическом синтезе объяснения и понимания как метода истории. Так, в сборнике работ «История и истина» (1955) философ утверждает, что историк должен дополнять объяснение событий собственным пониманием прошлого. При этом каждое понимание «несет на себе печать» объяснения (исторического анализа) [Ри-кёр П., 2002, с. 39]. В итоге диалектика объяснения и понимания как методология истории получила развитие в творчестве Рикёра в 80е гг., а именно — в произведении «Время и рассказ» (1984–1988).
В первом томе этой книги он рассматривает исторический нарратив как предмет деятельности профессиональных историков. Рикёр приписывает им роли авторов и интерпретаторов исторических повествований. Историк — этот тот, кто, описывая исторический опыт людей, трансформирует его в нарратив, и тот, кто, ин- терпретируя рассказы о событиях, создает новые исторические повествования. При этом в книге «Время и рассказ» сделан акцент на описание историков в роли создателей исторического нарратива. С точки зрения Рикёра, их задача состоит в объяснении и понимании событий с помощью исторического повествования. Философ проблематизирует объяснительную силу историографии. Он не согласен с наррати-вистским подходом (например, с подходами У.Б. Гэлли, П. Вейна) к исторической науке, а именно — с отождествлением ее метода объяснения с самообъяснением литературного рас-сказа4. По мнению Рикёра, для истории как науки объяснение — это цель, отличная от задач художественного повествования. Для него любое научное объяснение — это ответ «потому что» на вопрос «почему». В философии Ри-кёра историк как ученый является судьей: он оспаривает, либо пытается доказать, что исследуемое объяснение события качественнее другого какого-либо объяснения.
В его концепции нарратива историческое объяснение предстает доказательством наличия лакуны между историографией и рассказом. Однако Рикёр не отрицает, что историческое объяснение все-таки взаимосвязано с нарративным пониманием. Как указывает Дж. Ржидки, в интерпретации французского философа «историография и повествует, и объясняет» [Řídký J., 2023, p. 119]. В конечном счете, с точки зрения Рикёра, «историческое знание является производным от нарративного понимания» [Рикёр П., 1998, с. 110]. По сути, Рикёр возвращается к ранее разработанному им для социальных наук принципу «больше объяснять, чтобы лучше понимать» и конкретизирует его для историографии в работе «Время и рассказ». Философ предлагает историкам использовать объяснение или каузальный анализ при выявлении в событиях причинно-следственных связей, «объяснительная сила которых не зависит от закона» [Борисенкова А.В., 2007, с. 61]. По мнению Ри-кёра, объяснение является основой для такого метода исторической науки, как понимание.
Отсылки к указанному методологическому принципу присутствуют и в поздней философии истории Рикёра. Так, в книге «Память, история, забвение» диалектика объяснения и понимания выделена в качестве отдельной фазы историографического познания действительности. Рикёр дает ей название «объяснение/понимание» [Ри-кёр П., 2004, с. 255], используя не союз «и», а знак «/», тем самым подчеркивая диалектическую взаимосвязь этих познавательных процедур. В интерпретации философа к этим познавательным методам историки обращаются одновременно для установления связей между документально подтвержденными фактами. Другими словами, наличие документов — это предпосылка для историографического «объясне-ния/понимания» событий.
В поздней философии Рикёра исторический документ оказывается тем звеном, который объединяет все производимые историками операции. Помимо «объяснения/понимания», к ним мыслитель относит еще собственно документирование, а также репрезентацию5. Они анализируются Рикёром не как сменяющиеся друг друга стадии работы историка, а как взаимопроникающие уровни научного познания исторической реальности. На каждом из них история предстает в виде задокументированного нарратива — в виде записи [Рикёр П., 2004, с. 329]. Фаза создания документа предполагает запись свидетельства — «момент, когда высказанное переходит из области устного в область письма, которую история уже никогда не покинет» [Рикёр П., 2004, с. 203], и «момент зарождения архива, который отныне станут пополнять, хранить, запрашивать» [Рикёр П., 2004, с. 203–204] для «объяснения/понимания» и для репрезентации. Фаза «объяснения/понимания» продолжает документальную интерпретацию исторического факта и приводит к письменной репрезентации истории — к созданию исторического текста («книги истории»). Этот текст постоянно переписывается и всегда возвращает историков в пространство реальных событий: «Вырванный архивом из мира действия, историк включается в него, внедряя свой текст в мир своих читате- лей; сама же книга истории становится документом, открытым для дальнейшего переписывания: тем самым историческое познание включается в непрерывный процесс пересмотра» [Рикёр П., 2004, с. 329].
Открытость для интерпретаций — вот основной, с точки зрения Рикёра, признак исторического научного текста. В его философии интерпретация становится итоговой целью историка. Для ее осуществления создаются архивы, а сама она возникает в результате диалектики объяснения и понимания и реализуется через репрезентацию «в книге истории». Тем самым концепция историографии включена в общую логику герменевтики Рикёра, суть которой состоит в интерпретации: «Слово “герменевтика” означает не что иное, как последовательное осуществление интерпретации» [Рикёр П., 2013, с. 49].
Вдобавок в позднем эпистемологическом подходе Рикёра к истории поставлена новая проблема, не получившая до этого развития ни в разработанной им для социальных наук герменевтической методологии, ни в его нарративной герменевтике, а именно — проблема памяти. В интервью О. Мачульской к русскому изданию книги «Память, история, забвение» Рикёр называет память соединительным звеном между нарративом и временем: «Память выполняет функцию свидетельства о событиях, произошедших во времени, а повествование позволяет структурировать память» [Рикёр П., 2004, с. 8]. Как указывают рикёроведы, анализ проблемы памяти в исторической науке приводит французского философа к следующему выводу: «С одной стороны, историки создают память о прошлом в документах, они формируют коллективную память. С другой стороны, эта созданная им память не является пережитой кем-то» (перевод наш. — М.С.) [White H., 2007, р. 237]. Другими словами, Рикёр обнаруживает разрыв между историографией и памятью, а именно — живой памятью свидетелей событий. Источник этого разрыва — сам исторический текст как архивирование произошедшего. Записывая, историки стремятся сохранить живую память, но удаляются от нее, растворяя в научных текстах рассказы очевидцев [Рикёр П., 2004, с. 689]. Они, по мнению Рикёра, занимаются «погребением» [Рикёр П., 2004, с. 691]. Что философ имеет в виду, используя такую метафору? То, что исторический научный текст, претендуя на достоверные умозаключе- ния о прошлом, не может его воскресить. Историография постоянно сталкивается с отсутствием, а именно — с отсутствием описываемого события, которое никогда не было таким, каким оно зафиксировано в исторической записи. Обнаруживая в истории как науке эту проблему, Рикёр, по сути, возвращается к ранней своей идее о тексте как о способе запечатления действий, событий и дополняет ее противоречием, связанным с отношением между историческим текстом и памятью. В его позднем творчестве историческое письмо как дело профессиональных историков предстает в значении не столько свидетельства о событиях, сколько его «призрака».
Однако Рикёр не только указывает на пропасть между историографией и памятью, но и предлагает способ ее преодоления. Таким способом оказывается публичный или со-бытийный подход к истории. В его рамках Рикёр рассматривает исторический нарратив уже не как текст, авторами которого являются историографы, а как сторителлинг (storytelling) тех, кто вплетает историческую память в собственную жизнь — в жизнь совместную, в со-бытие с другими людьми. Кто же они, обладающие живой памятью ? С точки зрения Рикёра, ими являются не столько очевидцы, участники событий, сколько граждане, обладающие живым словом , т.е. способные рассуждать о происходящем или произошедшем представители политической, социальной, культурной сфер общественного бытия. Рассудительные граждане читают историю, записанную историками-профессионалами, и говорят о ней на публике, тем самым преодолевают разрыв между историческим текстом и памятью. «Получатель исторического текста должен и лично, и в плане публичной дискуссии поддержать равновесие между историей и памятью» [Рикёр П., 2004, с. 691].
Мысль о таком равновесии свойственна Ри-кёру и до написания книги «Память, история, забвения». В частности, ее мы встречаем в статье «Каков новый этос для Европы?» (1992). В ней идея о связи живой памяти с живым повествованием преподносится, по сути, как создание публичной истории. Последняя понимается Рикёром как сплетение множества жизненных историй. «Мы буквально впутаны в истории» [Рикёр П., 2021, с. 186–187], — пишет он, указывая, что жизненная история одного человека является частью жизненной истории других людей. Ведь рассказывая о себе, мы одновременно рассказываем о других. С точки зрения философа, именно повествовательная идентичность каждого говорящего о себе индивида является условием для переплетения историй, в котором и происходит обмен живой памятью. Для Рикёра эта память является синонимом культурной памяти. Ее обмен осуществляется посредством интерпретации культур разных сообществ, а именно — наций, народов. Интерпретация как создание новых рассказов способствует избавлению от «мертвых» вариантов толкования тех или иных событий, тем самым поддерживает жизнь публичной памяти, а следовательно, и публичной истории.
Помимо этого, Рикёр преподносит публичную историю как историю не только живой памяти и живого слова, но и живого действия . Как указывает С.Н. Зенкин, «по его мысли, не (только) профессиональные историки, но (также) обычные люди “практически интерпретируют” чужие действия посредством своего собственного социального действия» [Зенкин С.Н., 2013, с. 336]. Другими словами, в философии Рикёра публичные нарративы — это действия, которые, сохраняя память, образуют историю. В рамках публичного подхода история предстает разновидностью праксиса (praxis). Такой взгляд Рикёра на публичную историю сквозь призму практической жизни связан с его идеей об открытости событий для интерпретации — идеей, высказанной в 70-е гг. в статье «Модель текста: осмысленное действие как текст». В ней французский философ наделяет интерпретацию деятельной природой и рассматривает историю как разновидность такой практической интерпретации. Можно сказать так: история действует, интерпретируя. При этом для Рикёра важно определить топос истории как праксиса. Им и оказывается публичное пространство, а сама история предстает в нем как совместное бытие людей (социально-политическое существование), на котором действия оставляют следы или метки . Каждый такой след — это запись в публичную историю. Появляясь, она автоматически нуждается в интерпретации. «Так, история становится суммой меток, судьба которых перестает контролироваться индивидуальными акторами» [Рикёр П., 2008, с. 33], — заявляет философ в «Модели текста».
Таким образом, в указанной работе текстуальный подход к истории включает в себя зачатки публичного подхода, но не раскрывает его в полной мере, т.к. не содержит в себе идею нарратива как повествования и устного, и письменного. Именно в поздней философии Рикёра происходит соединение публичного и нарративного подходов к истории. Такой синтез необходим французскому мыслителю для разделения истории на публичную и научную — разделения, ставшего отличительной чертой его теории истории. Рикёр различает историографию и публичную историю в зависимости от того, каким видом нарратива они являются. История историков-профессионалов — это текст как архив истории. История со-бытия людей — это нарратив как живое слово , которое может быть и устным, и записанным (главное условие его жизненности — его воспроизведение, обсуждение на публике). Вторым условием их отличия становится отношение с памятью как с живой памятью : историография не работает с такой памятью; публичная история реализует ее в себе.
Заключение
Представления Рикёра об истории образуют цельную теорию, которая соответствует проблематике нарративной парадигмы философии истории, но решает ее по-новому. Философ переосмыслил сущность нарратива и возможности его применения в историческом познании, тем самым преодолел крайние позиции как нарративистских, так и позитивистских взглядов на историю. В частности, он дал отрицательный ответ на вопрос о тождественности исторического рассказа поэтическому дискурсу и предложил сочетать в историографии нарративное понимание с объяснением. По сути, Ри-кёр наметил путь познания, по которому следует двигаться для создания в XXI в. новых концепций об историческом нарративе. Уникальность этого пути — во взаимосвязи нарративного подхода с текстуальным, эпистемологическим и публичным подходами к истории.
В философии Рикёра текстуальный подход становится частью нарративного представления об истории. В ней исторический нарратив обретает широкое значение, а именно — определяется не только как устный рассказ, но и как письменно зафиксированное повествование о человеческом опыте, событии, социальном дей- ствии. На основе такого расширенного представления о нарративной истории Рикёр выстраивает эпистемологический и публичный (со-бытийный) подходы к ней. В рамках первого исторический нарратив предстает в значении предмета деятельности историков. В рамках второго подхода — в значении актуального praxis людей в совместном социальном бытии. В итоге в философии Рикёра история как повествование о социальном действии оказывается его разновидностью — нарративным действием в совместном бытии людей.
Поздняя теория истории Рикёра отличается от ранней (от герменевтики исторического текста, от теории нарратива) тем, что в ней поставлена проблема памяти. Указанная проблематика дополняет и расширяет повествовательную концепцию истории французского мыслителя: исторический рассказ (научный или публичный) направлен на работу с памятью. Однако если историография как дело профессиональных историков не связана с живой памятью , то публичная история основана на ней. Публичный подход Рикёра предполагает, что история как память о действии, событии возможна только в значении истории, создаваемой в процессе социального, политического взаимодействия людей в совместном бытии. В свою очередь, его эпистемологический подход вскрывает противоречие в деятельности профессиональных историков: они стремятся воскресить память, но занимаются «погребением».
Полученные результаты могут быть использованы в историко-философской работе с творческим наследием Рикёра. Кроме того, установленная нами взаимосвязь подходов к истории в текстах Рикёра открывает для исследователей, работающих на стыке исторических и философских наук, новые перспективы. В частности, она показывает, что история как предмет изучения многогранна и не может быть сведена к одному своему проявлению. Для ее целостного исследования необходимо сочетать, объединять, переплетать разные методы. Одними из них могут быть реконструируемые нами из философии Рикёра подходы к истории: нарративный, текстуальный, эпистемологический и публичный (со-бытийный). Их взаимосвязь, установленная французским мыслителем, открыта для дополнений, изменений и критики. Она может служить образцом для выстраивания взаимосвязей между подходами к истории.
Список литературы Взаимосвязь подходов к истории в философии П. Рикёра: текстуальный, нарративный, эпистемологический и публичный
- Аристотель. Поэтика / пер. с древнегреч. М.Л. Гаспарова // Аристотель. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 645-680.
- Барт Р. Дискурс истории // Барт Р. Система моды: статьи по семиотике культуры / пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. С. 427-441.
- Борисенкова А.В. Теория повествования Поля Рикёра: от нарративной организации опыта к нарративным основаниям научного знания // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6, № 1. С. 55-63.
- ВдовинаИ.С. Поль Рикёр: на «Елисейских полях» философии. М.: Канон+, 2019. 288 с.
- Зенкин С.Н. Социальное действие и его смысл: историческая герменевтика после Рикёра // Поль Рикёр в Москве / общ. ред. И.С. Вдовиной. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2013. С. 327-345.
- Петровская Е.В. Великая нарратология (Размышление о книге П. Рикёра «Время и рассказ») // Поль Рикёр в Москве / общ. ред. И.С. Вдовиной. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2013. С.207-225.
- Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1: Интрига и исторический рассказ / пер. с фр. Т.В. Славко. М.; СПб.: Университетская книга, 1998. 313 с.
- Рикёр П. Герменевтика и метод социальных наук // Поль Рикёр в Москве / общ. ред. И.С. Вдовиной. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2013. С. 49-61.
- Рикёр П. История и истина / пер. с фр. И.С. Вдовиной, А.И. Мачульской. СПб.: Алетейя, 2002. 400 с.
- Рикёр П. Модель текста: осмысленное действие как текст / пер. с англ. А.В. Борисенковой // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7, № 1. С. 25-43.
- Рикёр П. Память, история, забвение / пер. с фр. И.И. Блауберг и др. М.: Изд-во гуманит. лит., 2004. 728 с.
- Рикёр П. Политика, экономика, общество: рукописи и выступления / пер. с фр. И.С. Вдовиной. М.: Центр гуманит. инициатив, 2021. 240 с.
- Рикёр П. Структура символического действия // Рикёр П. Философская антропология: рукописи и выступления / пер. с фр. И.С. Вдовиной. М.: Изд-во гуманит. лит., 2017. С. 186-204.
- Сидорова М.А. Герменевтика действия Поля Рикёра: от интерпретатора к актору // Социологическое обозрение. 2024. Т. 23, № 3. С. 201-226. DOI: https://doi.org/10.17323/1728-192x-2024-3-201-226
- Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / пер. с англ. Е.Г. Трубиной, В.В. Харитонова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. 528 с.
- Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / пер. с фр. C.В. Табачниковой. М.: Касталь, 1996. С. 47-96.
- Шульга Е.Н. Нарративная герменевтика Поля Рикёра // Поль Рикёр: Человек - общество - цивилизация / под ред. И.И. Блауберг, И.С. Вдовиной. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2015. С. 219-234.
- Ямпольская А.В. За пределами события: Поль Рикёр о даре и прощении // Поль Рикёр: Человек -общество - цивилизация / под ред. И.И. Блауберг, И.С. Вдовиной. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2015. С.302-314.
- Kaplan D.M. Ricoeur's Critical Theory. N.Y.: State University of New York Press, 2003. 236 р. DOI: https://doi.org/10.1353/book4657
- Ridky J. Many Colors of History: Ricœur's Third Time as a Key to the Hermeneutics of Historical Time // Études Ricœuriennes. 2023. Vol. 14, no. 2. Р. 117-133. DOI: https://doi.org/10.5195/ errs.2023.524
- White H. Guilty of History? The Longue Durée of Paul Ricoeur // History and Theory. 2007. Vol. 46, iss. 2. P. 233-251. DOI: https://doi.org/10.1111/ j.1468-2303.2007.00404.x
- Wood D. Introduction: Interpreting Narrative // On Paul Ricoeur: Narrative and Interpretation / ed. By D. Wood. London; N.Y.: Routledge, 1991. P. 1-19.