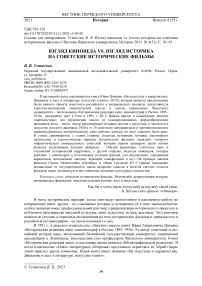Взгляд киноведа vs. взгляд историка на советские исторические фильмы
Автор: Устюгова В.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Инструментализация прошлого в политике памяти и медиа
Статья в выпуске: 4 (55), 2021 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье анализируется книга Юрия Цивьяна «На подступах к карпалистике. Движение и жест в литературе, искусстве и кино» (2010), которая является продолжением более раннего проекта известного российского и американского киноведа, представителя Тартуско-московской семиотической школы и школы киноведения Чикагского университета - исследования «Историческая рецепция кино: кинематограф в России, 1895-1930», увидевшего свет в Риге в 1991 г. Ю. Г. Цивьян вводит в киноведение понятие «карпалистика» для обозначения одного из основополагающих, формообразующих принципов кино - жеста. Автор рассматривает историю жестов в искусстве, в частности в искусстве русского авангарда 1920-х гг. В советском киноавангарде в противоположность дореволюционному антимонтажному кино победил монтаж, но жест хоронить было рано. В статье сравниваются, с одной стороны, подходы историков, которые анализируют идеологемы и идеологические маркеры исторических фильмов, выявляют «вторую» мифологическую кинореальность советской истории (ярким примером такой оптики является исследование Евгения Добренко - «Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив»), с другой стороны, подходы киноведов, которые работают с кинокадром и источниками создания фильма (эго-документами, сценарными вариантами, монтажными листами, версиями кинофильмов и пр.). На примере анализа фильмов Сергея Эйзенштейна «Октябрь» и «Иван Грозный» Ю. Г. Цивьян показывает независимые от государственного заказа авторские смыслы в богатой системе отсылок фильмов, видит заложенную в них тайнопись историко-культурных контекстов.
Советские исторические фильмы, эйзенштейн, репрезентация истории, киноавангард, формализм, интеллектуальный монтаж, жест в искусстве
Короткий адрес: https://sciup.org/147246394
IDR: 147246394 | УДК: 791.224 | DOI: 10.17072/2219-3111-2021-4-39-45
Текст научной статьи Взгляд киноведа vs. взгляд историка на советские исторические фильмы
Как бы я хотел иметь когда-нибудь неудачу такой силы.
В. Шкловский о фильме «Октябрь»
В эпоху исторических передряг, когда одни ведут кропотливую и ежедневную работу по возвращению имен, другие – по отмыванию истории и сотворению ее в сане ликоподобности, особое значение имеет профессиональный разговор о репрезентации исторического прошлого в публичном пространстве массовой культуры, кино, искусства, музеев, выставок. Этот разговор начался не сегодня, и серьезные исследования на тему исторических фильмов и сериалов есть в российской историографии – не прочь вспомнить о них.
В 1991 г. в рижском издательстве «Зинатне» вышла книга Юрия Гавриловича Цивьяна «Историческая рецепция кино: кинематограф в России, 1895–1930». Ее автор, советский и латвийский историк кино, закончивший Латвийский государственный университет, защитивший диссертацию в Ленинграде, впоследствии стал профессором Чикагского университета. Книга «Историческая рецепция кино» в настоящее время является библиографической редкостью. И когда издательство «Новое литературное обозрение» предложило переиздать ее, Юрий Гаврилович прислал другое сочинение. Новая книга имеет название «На подступах к карпалистике. Движение и жест в литературе, искусстве и кино».
Ю. Г. Цивьян преподавал на разных кафедрах Чикагского университета (Cinema and Media Studies, Department of Art History, Department of Slavic Languages & Literatures, Department of Comparative Literature), читал курсы «Визуальный стиль в неподвижных и движущихся изображениях», «Левое искусство и советская кинокультура 1920-х годов», «Кино Чарли Чаплина» и др. Область его научных интересов – русское дореволюционное кино и советский киноавангард 1920-х гг., жест и перформанс, монтаж фильмов, кинометрия [ Лотман , Цивьян , 1994; Цивьян , Ковалова , 2011, 2012; Tsivian , 1989, 1994, 1998, 2002, 2004]. Юрий Цивьян – специалист по творчеству Евгения Бауэра, Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова, автор понятий «русский киностиль», «карпалистика».
Книга «Историческая рецепция кино» была написана с точки зрения подходов тартуской семиотической школы (автор является учеником Ю. М. Лотмана) и новой школы социальной истории кино (которую автор также представляет, будучи ведущим специалистом кафедры си-нема и медиа, наряду с Т. Ганнингом, М. Хансен и др.). Как заметил сам Юрий Гаврилович, старая книга смотрит на культуру, новая – на искусство. Исследование «На подступах к карпа-листике» написано в духе и стиле формалистических концепций 1920-х гг. Юрий Цивьян считает, что советское киноведение в лучших своих образцах – это школа формализма (а не наследие учений марксизма или неомаркизма, не следование концепциям модерности и пр.).
В своих киноведческих исследованиях Ю. Г. Цивьян обращается к анализу канонических кинотекстов советского исторического фильма – кинотекстов Сергея Эйзенштейна. Советские исторические фильмы сегодня анализируются с разных методологических и идеологических позиций (подходов публичной истории, феминизма и т.д.). В чем различие подходов историков и киноведов в анализе канона советского исторического кино? Одной из самых значимых работ о кино как об институте по производству истории является книга Евгения Добренко «Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив» [ Добренко , 2008]. Недавно Евгений Александрович опубликовал двухтомник «Поздний сталинизм. Эстетика политики» о малоизученном, но очень важном и драматичном периоде послевоенной истории СССР – периоде формирования имперского националистического сознания [ Добренко , 2020].
На основе анализа не только кинонарратива, но и литературы, искусства, музейного дела, Евгений Добренко показывает, как сталинизм работал с памятью и историей. Понятия и конструкции, которые использует историк: «историзирующая анестезия», «медиум идеологической и исторической репрезентации», «идеологический монтаж» и др. «Репрезентация истории – это всегда репрезентация власти…», – пишет Е. А. Добренко [ Добренко , 2008, с. 8]. Память – травма, история – терапия, отчуждение фактов; история – процедура концептуализации и отчуждения пережитого, памяти; память персональна, история социальна. В этой композиции музей не только материализованная история, но и гильотина истории, одновременно умерщвляет и экспонирует прошлое. Напротив, архив есть основа работы историка по восстановлению прошлого (по сравнению с музеем, основой официального мифа и институтом инсталлирования искусственного прошлого).
Автор книги «Музей революции» показывает, как в кинематографе происходила «персо-низация» истории: в 1930-х гг. возник супержанр – биографический фильм, были сняты картины об Александре Невском, Суворове, Кутузове, Ушакове, Нахимове. Некоторые фильмы о правителях России, например о Петре I, были созданы в коннотации «цари хороши, царизм плох». Е. А. Добренко отмечает, что «искусство занято созданием новых и – по определению – фиктивных объектов» [Там же, с. 26]. И эти фильмы были направлены на укрепление государства, прославление побед. Историк анализирует кино как идеологический конструкт – превращение прошлого в сталинскую историю, как средство обоснования легитимности и построения советской идентичности, формирования политического воображаемого.
Взгляд киноведа другой, и это взгляд с точки зрения кинотеории, манифестирующей свою генеалогию от авангардного формализма 1920-х гг. Слово «карпалистика» изобрел Владимир Набоков в романе «Пнин». Этим термином Ю. Г. Цивьян обозначает жест в искусстве – физические, словесные, метафорические движения в литературе, живописи, кинематографе. Автор книги «На подступах к карпалистике» настаивает на том, что жест в искусстве отличается от предмета кинесики, и обращается к «жесту революции», графологическим жестам, проблеме жеста и монтажа. В искусстве кино есть два конкурирующих начала – жест и монтаж.
Ю. Г. Цивьян отмечает, что это и есть формообразующие принципы кино. И в этой связи исследователь обращает внимание на различия между российским и западным киноведением: «Формальная школа сформулировала закон: нет и не может быть общей теории искусства. Для частных явлений должны создаваться частные теории. История кино – по определению розничный товар» [ Цивьян , 2010, с. 263].
Еще в «Исторической рецепции» Ю. Г. Цивьян посвятил целую главу внутритекстовым стратегиям восприятия кино и рассмотрел их на материале киноавангарда 1920-х гг., фильмов «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, «Октябрь» Сергея Эйзенштейна и «Обломок империи» Фридриха Эрмлера. Юрий Гаврилович предлагает их покадровое прочтение. Терминология киноведа – «интеллектуальный монтаж» и «концептуальный монтаж», «осевое движение», «внутренний монолог» и др. Интеллектуальный монтаж анализируется как конструкция монтажных фраз по разным типам: обыгрывания естественного языка («наиболее интимных моментов»), каламбуров, игры слов, зашифрованных в цепочке киноизображений цитат, внутренних монологов. Юрий Цивьян не отделяет кино от насыщенного историко-культурного контекста 1920-х гг., ведет дискуссию с С. В. Дробашенко и указывает на требование «плотности» смыслов в богатой системе отсылок фильмов. Доктрину интеллектуального кино Ю. Г. Цивьян сближает с манифестами сторонников заумного языка в поэзии, или значение сцены с расколом Большого театра в «Человеке с киноаппаратом» восстанавливает, вспоминая, что для сотрудников журнала «ЛЕФ» словечко «Большой театр» было распространенным обозначением пассеизма в искусстве: «…ну, словом Большой театр!». «Подобные реплики приобретают особую роль в фильме, чьим девизом являлся “отказ от языка театра и литературы”. Скорее всего, кадр задуман как пластический комментарий к выступлению О. М. Брика на лефовском совещании о кино в 1927 году: “Мы десять лет говорим, что нужно закрыть Большой театр, а его в этом году еще отремонтировали”» [ Цивьян , 1991, с. 360]. Манифесты и высказывания формалистов (Б. Эйхенбаума, А. Погодина, А. Крученых) примыкают, – как пишет Ю. Г. Цивьян, – к эйзенштейновским идеям интеллектуального монтажа, внутренней речи, пралогическому «мышлению кадрами». Параграфы, в которых киновед дискутирует об «Октябре», получают в «Исторической рецепции» названия «Метод монтажа», «Пустые комнаты», «Спальня императрицы», «Яйцо (эволюция смысла)», «Голова / бомба / яйцо».
Ссылаясь на американскую исследовательницу М. К. Ропарс-Вюйемье, ее мысль о том, что «статуи в “Октябре” символизируют силу, враждебную революции», Юрий Гаврилович соглашается: фундаментальная художественная оппозиция «Октября» – противопоставление каменных изваяний и людей [Там же, с. 333]. Так, попытка Корнилова реставрировать старое показана в фильме методом обратной съемки: обломки монумента Александра III возвращаются на пьедестал, напротив, свержение власти эквивалентно разрушению истукана. Юрий Цивьян делает наблюдение, что многое у С. Эйзенштейна идет от символизма начала ХХ в. (например, А. Блок «Король на площади»). По мнению киноведа, мотив окаменения власти обыгран С. Эйзенштейном и в сцене «Керенский – Наполеон».
Особенность подхода киноведа – это скрупулезная работа с источниками, самими фильмами и их разными копиями, письменными свидетельствами, в числе которых неопубликованные личные дневники, черновые сценарные наброски и монтажные листы. Юрий Цивьян отмечает, что режиссер считал сцену разрушения памятника реализацией своей студенческой мечты [Там же, с. 344; Цивьян , 2010, с. 219], и в качестве подтверждения приводит свидетельство из дневника С. Эйзенштейна: «Сколько раз, проходя мимо памятника Александра III, я мысленно примерял “вдову” – машину доктора Гильотена – к гранитному постаменту… ужасно хочется быть приобщенным к истории! Ну а какая история без гильотины» ( Эйзенштейн , 1964–1971, т. 1, с. 273).
Юрий Гаврилович анализирует несколько хронологических срезов в процессе создания «Октября»: сценарий, монтажные записи и экранный вариант. Например, режиссер решал, как поступить с Временным правительством. В монтажных записях есть простейшая метафора «министры и покойницкая», которая появляется еще в «Стачке» в сцене разгона рабочих, кадры которого чередуются с кадрами скотобойни. В экранном варианте дана другая метафора – пустые одежды министров. Это вновь отсылка к А. Блоку и его «Балаганчику». Сергей Эйзенштейн не видел спектакля, но это была в свое время культовая постановка, на которой побывал весь студенческий и рафинированный Петербург (постановка В. Мейерхольда на сцене театра В. Комиссаржевской в 1907 г., музыка М. Кузьмина, декорации Н. Сапунова), и в дневниках режиссера есть запись: «А для нас “Балаганчик” – это как Спас-Неридица для Древней Руси» (Там же, с. 309). В художественном плане «Октябрь» предполагает зрителя, –замечает Юрий Гаврилович, – в рецептивную компетенцию которого входило владение культурными кодами символизма, в фильме есть тайнопись, знаки, предполагающие просвещенного. Некоторые современники «Октября» бранили фильм, потому то видели в нем мирискустническую линию эстетизма (например, А. Пиотровский).
В книге «На подступах к карпалистике» Юрий Гаврилович пишет, что «Октябрь» знал как минимум три редакции: забракованный юбилейной комиссией, вариант одобренный и показанный, далее через 40 лет картину перемонтировал Г. Александров. Единственная копия, авторство которой достоверно, хранится в Британском кинообществе. Издание 2009 г. – это эйзенштейновская версия. Для киноведа важна эта точность в деталях, потому что авторская, режиссерская позиция дана именно в деталях. Известный у нас до этого момента фильм – это перемонтированная версия Александрова, снабженная музыкой Шостаковича, в версии 1967 г. подвергнуты сокращению монтажные фразы, в том числе в спальне императрицы. Юбилейный, забракованный вариант Эйзенштейн сел сокращать, «и в процессе возникло то, что Эйзенштейн-теоретик назовет “интеллектуальным монтажом”» [ Цивьян , 2010, с. 203].
Киновед указывает, что в версии, перемонтированной Г. Александровым уже после смерти Эйзенштейна, кадры с фарфоровыми яйцами отсутствуют. Между тем монтажная запись «Иконы. Яйца. Кресты» выстраивает цепочку фраз режиссерской экранной версии. Этими кадрами начинается внутренний монолог матроса, озирающегося в царской опочивальне. Ю. Г. Цивьян цитирует запись от 14 апреля 1927 г. в дневнике Сергея Эйзенштейна: «Одна спальня чего стоит: 300 икон и 200 фарфоровых пасхальных яиц. Рябит в глазах. Спальня, которую бы современник психически не перенес. Она невыносима» [ Красовский , 1965, с. 47]. В «Карпалистике» Юрий Цивьян перечисляет предметы «немого разговора»: иконостас, яйца Фаберже, хрустальный графин в форме собора с куполами-луковками вместо пробок – смесь веры с китчем. Какая-то скульптура из дворцовой коллекции эротики – Христос благословляет девушку, у той прикрыта голова, а внизу скромница голая. В силу вступает монтажный закон Кулешова. Этюд, казалось бы, по принципу семантического контраста: объекты религиозного культа противопоставлены объектам, имеющим отношение к «человеческому низу». В экранной версии киновед не находит кадров, соответствующих монтажной записи: «Матрос с яйцом Николая Угодника в руках», «Катятся яйца Николая» [ Цивьян , 1991, с. 342]. Эти строки вносят еще один обертон: связь генитального мотива с темой революции. Юрий Гаврилович ссылается на исследование Ф. Альбера, в котором показано, как в фильме «Октябрь» трансформировались и наложились впечатления Эйзенштейна от прочтения романа Э. Золя «Жерминаль» и наблюдения сцены в музее восковых фигур, где солдаты проносят на пиках голову Марии-Антуанетты. Идея революции связана с представлениями об обезглавленном и/или кастрированном правителе.
Столкновение высокого и низкого Юрий Гаврилович трактует как «левое неприличие» от Эйзенштейна. Слухи, коллективные представления отвечали рецептивным ожиданиям зрителя: матросы – с бескозыркой «Амур»; штык в руках матроса – орудие любви; осада и штурм Зимнего дворца – в образах любовной победы. Монтажные записи смелее: «В белье находят ударниц» [Там же, с. 348]. Игра слов и образов в «Октябре» создает рискованные шутки: оленьи рога на стене кабинета Керенского после титра «Казачья артиллерия изменила». В «Карпали-стике» Юрий Цивьян уточняет, что Керенский занимал покои не императрицы, а Александра III и скрылся не как «Бонапарт в юбке», но, помимо исторических точностей, для режиссера была важнее метафора «Павлин и Керенский»: павлин поворачивается задом, Керенский входит в клоаку Зимнего и кадр с замком, Керенский «попался». Как считает киновед, шутки такого сорта входили в этос левого искусства 1920-х гг., каламбуры в «Октябре» восходят к левому театру, бытовой и газетной шутке, даже к хулиганскому Пушкину. Это резоннее, – добавляет Ю. Г. Цивьян, – объяснить « любовью к Домье и к площадному театру, чем ненавистью к классовым врагам » [ Цивьян , 2010, с. 187].
В книге «На подступах к карпалистике» Юрий Цивьян подробно анализирует эйзенштейновского «Ивана Грозного», и вновь его внимание привлекают разные источники этого фильма. Юрий Гаврилович приводит, в частности, тот факт, что Эйзенштейн посылал Михаила Кузнецова, исполнителя роли Федьки Басманова, в алма-атинский зоопарк изучать повадки, оскалы хищных животных. Ю. Г. Цивьян посвятил «Ивану Грозному» главу «Капралистика в свете биологии и антропологии», которая имеет параграфы «Руколикость», «Горько!», «Два поцелуя в диафрагму», «“Bisex” как тема и как художественный прием». Юрий Цивьян указывает на то, что Эйзенштейна пленяли работы Лисицкого, режиссер увлекался и читал в этот период литературу по биологии, психологии. «Эйзенштейновская теория искусства складывалась путем проекции на факты искусства внеположенных искусству идей» [Там же, с. 39]. Режиссер изучал антропологию Люсьена Леви-Брюля, общался с психологами Л. С. Выгодским и А. Р. Лурией, ходил на лекции Марра, интересовался достижениями биологических наук. Сергея Эйзенштейна увлекал феномен синестезии – утечки информации из одного сенсорного канала в другой.
В контексте создания «Ивана Грозного» – книга «Искусство и жест» (1910) французского философа Жана д’Удина в переводе князя Сергея Волконского. Книга писалась под впечатлением демонстраций ритмической гимнастики швейцарца Эмиля Жака-Далькроза, опыта перенесения музыкального ритма на человеческое тело согласно идее, что каждой эмоции соответствует телесное движение. В книге «Неравнодушная природа» Сергей Эйзенштейн пишет, что обязан книге д’Удина. Искусство будит в нас биологическую память, – считал Эйзенштейн. В круг чтения режиссера входила и книга «Вырождение» Макса Нордау.
Характеризуя фильм «Иван Грозный», Ю. Г. Цивьян вводит прилагательное «фрактальный». Термин относится к фигурам, обладающим свойством самоподобия. Фрактальная фигура – это фигура, составленная из частей, каждая из которых подобна фигуре, взятой в целом. Помнить о фрактальности особенно полезно, – пишет Ю. Г. Цивьян, – когда речь заходит об «Иване Грозном». Фильм на глазах у зрителя двоится и дробится, причем дробится, как подобает фракталам. В «Иване» играются две свадьбы. Одна – светлая, гетеросексуальная, вторая – ее антипод, темное отражение. Юрий Цивьян находит, что симметрия эта выстаивается в зарисовках и рабочих записях Эйзенштейна: фрактальная симметрия – зеркальная и негативная.
Проработав документы РГАЛИ (Ф. 1923), Юрий Цивьян выявил, как специалисты по эпохе указывали режиссеру, что обрядового разбивания чаш в эпоху Грозного быть не могло, так как чаши были серебряными; слюдяные окна, разбиваясь, не звенят. Академик Милица Нечкина писала в письме, что Грозный не был таким уж кошкодавом и нельзя ли сократить количество казней, на что Эйзенштейн записал в дневнике, что казней сдавать нельзя, а не то пропадет «оскал эпохи (обеих!)» [ Цивьян , 2010, с. 51–53]. В дневнике Эйзенштейна Юрий Гаврилович находит фразу «ляпы исторические», но замечает, что режиссер должного внимания им не уделял. Звонкий звук разбиваемых чаш и окна был нужен и интересен Эйзенштейну именно как звук, как шумовой мотив, соотнесенный с темой падающих колоколов и звоном монет, ведущих счет душам.
Первоначально Эйзенштейн намеревался закончить первую серию панихидой по Анастасии, по-голливудски. Возникает мотив бисексуальности. Дневниковые записи говорят, что бисексуальность интересовала Эйзенштейна. Ю. Г. Цивьян обращается не только к монтажным и дневниковым записям Эйзенштейна, но и к его рисункам (в том числе Малюты в духе Бердсли). В зарисовках Эйзенштейна в образе Федьки проглядывают Лермонтов и Врубель, ангелоподобный Серафит из Бальзака, юноша с портрета Боттичелли. И в рукописных записях Сергей Эйзенштейн об этих образах-источниках пишет. Одна доминанта в развитии образа Федьки обозначена у Эйзенштейна именем Серафита, другая выступает под именем Вотрен. В фильме происходит превращение Федьки из Серафита в Вотрена. Первая серия проходит под знаком Анастасии, вторая – Федьки. В рабочей записи Эйзенштейна, как цитирует киновед, «Федор – Ersats Анастасии», Иван видит в нем «чистоту» и «голубиность» Анастасии. Во второй серии лицо ангела-андрогина, сменив освещение, походит на Демона и Вотрена. Гульба опричников парадирует свадьбу Ивана и Анастасии. «Пир это – зеркальное отражение, но отражение в зеркале теней, в негативе. День сменился ночью, одежды потемнели» [Там же, с. 67]. Вместо белых лебедей на блюдах несут черных. Лицо Анастасии превратилось в глумливую маску Федьки, «демонского воеводы».
В главе «Жест революции III: трон и стул» Юрий Цивьян возвращается к дискуссиям об «Октябре» и определениям революционного жеста: революционный жест не в том, чтобы перевернуть картинку (трамвай на рельсах – это трамвай, трамвай на боку – это баррикада), а в том, чтобы перевернуть ценностный мир. «Жест революции – не всякий переворот, а обмен местами высокого и низкого, здесь – державного верха и телесного низа» [Там же, с. 183].
Считается, что съемки штурма Зимнего причинили дворцу больше ущерба, чем события 7 ноября 1917 г. Это предположение можно понимать метафорически, символически, в смысле роли кинематографа в создании коллективного мифа об Октябре. Историко-киноведческий анализ «внутреннего монолога» режиссера «открывает двери» не только в кухню-мастерскую-лавку старьевщика, но показывает скрытое сопротивление – сопротивление материала, искусства, элитарной художественной оппозиции. Критики «Ивана Грозного» рассмотрели в фильме вместо «прогрессивной политики» придворные интриги и «опричников беснующихся». Сопротивление режиссера навязываемому идеологическому дискурсу выражено и в выборе оператора для съемки «Ивана» – фэксовского оператора А. Москвина, чьи гигантские тени управляют маленькими, суетливыми, интригующими марионетками в реальности «заговоров и застенков» (выражение О. Ковалова). Историки сегодня оценивают результаты и эффекты технологичной работы государства с психологией масс. Киноведы смотрят на отдельную личность в искусстве, монтажный лист, культурный контекст и генеалогию, узнавая потенциал авангарда, вскрывая энергию художественного противостояния, потенциал жеста обновления в искусстве.
Список литературы Взгляд киноведа vs. взгляд историка на советские исторические фильмы
- Добренко Е.А. Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 424 с. EDN: QRIYGX
- Добренко Е.А. Поздний сталинизм. Эстетика политики. 1-2 тт. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 712 + 600 с.
- Красовский Ю. Как создавался фильм "Октябрь" // Из истории кино. М.: Искусство, 1965. Вып. 6. С. 40-62.
- Лотман Ю.М., Цивьян Ю.Г. Диалог с экраном. Таллин: Александра, 1994. 144 с.
- Цивьян Ю.Г. Историческая рецепция кино: кинематограф в России, 1895-1930. Рига: Зинатне, 1991. 492 с.