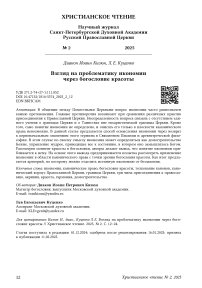Взгляд на проблематику икономии через богословие красоты
Автор: Диакон Иоанн Кизюн, Л. Е. Куценко
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
В общении между Поместными Церквами вопрос икономии часто равнозначен камню преткновения. Главные противоречия возникают при сравнении различных практик присоединения к Православной Церкви. Неопределенность вопроса связана с отсутствием единого учения о границах Церкви и о Таинствах вне евхаристической границы Церкви. Кроме того, само понятие икономии не определено, и описать его только в плоскости канонического права невозможно. В данной статье предлагается способ осмысления икономии через возврат к первоначальным значениям этого термина в Священном Писании и древнегреческой философии. В этом случае по своему смыслу икономия может определяться как домостроительство Божие, управление мудрое, приводящее все к состоянию, в котором оно замышлялось Богом. Рассмотрев понятие красоты в богословии, авторы делают вывод, что понятие икономии приближается к нему. На основе этого вывода предпринимается попытка рассмотреть применение икономии в области канонического права с точки зрения богословия красоты. Как итог предлагается критерий, по которому можно отделить истинную икономию от беззакония.
Икономия, каноническое право, богословие красоты, толкование канонов, канонический корпус Православной Церкви, границы Церкви, три чина присоединения к православию, акривия, красота, гармония, домостроительство
Короткий адрес: https://sciup.org/140309595
IDR: 140309595 | УДК: 271.2-74+27-1:111.852 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_12
Текст научной статьи Взгляд на проблематику икономии через богословие красоты
Lev Evgenievich Kutsenko
Postgraduate Student of Moscow Theological Academy.
В каноническом праве термин акривия (греч. акрсвыа, досл. «строгость, точность») обозначает точное следование каноническим нормам, а для описания ситуаций, когда Церковь вынуждена отступить от буквального следования канонам ради достижения условий спасения конкретного человека в конкретной ситуации, используется термин икономия (греч. οἰκονομία, досл. «домостроительство»). При этом понятие икономии не определено в Православной Церкви1. Одним из камней преткновения является применение икономии при присоединении раскольников и еретиков к Церкви, так как это поднимает более обширный круг вопросов: о действенности таинств вне Церкви и о границах Церкви. В случае «широкого» понимания границ Церкви (при котором допускается существование таинств в сообществах, не связанных евхаристически с истинной Церковью), перекрещивание всех еретиков и раскольников считается мерой икономии (в значении изменения буквального правила в сторону его ужесточения), применяемой в силу исторических причин, а использование трех чинов присоединения2 — акривией. В случае приема раскольников в соответствии с практикой трех чинов присоединения к Церкви и при этом уверенности в четко определенных евхаристическим общением границах Церкви возникает вопрос, как могли недействительные таинства стать действительными? Как ответ на этот вопрос некоторыми богословами предлагается учение, которое усваивает ико-номии свойство восполнять благодать таинств. В теоретическом плане это порождает логические следствия, называемые смелыми даже их авторами, а в практическом смысле порождает явления, которые ведут к разделениям в Церкви. Для того чтобы сформулировать критерии действительности икономии, в данной статье предлагается попытка рассмотреть каноническое понятие икономии, отталкиваясь от его первоначальных значений в контексте богословия красоты.
Канонический контекст. В рамках канонического права предложено множество различных способов решения проблемы применения икономии к таинствам вне Церкви, а также собраны критические материалы и обоснованные альтернативные модели понимания икономии, не порождающие усвоения икономии новых свойств. Тем не менее проблема не решена окончательно и однозначно, так как этому препятствует принципиальность разных сторон в трактовке исторического и культурного контекста предпосылок формирования проблемы.
«Икономическая теория». Мнение о четкой границе Церкви, приводящее к пониманию икономии как способа наделять таинства, совершённые вне Церкви, спасительностью, основано на трудах свт. Киприана Карфагенского, в которых он говорит о безблагодатности таинств вне канонических границ Церкви3. Действительно, основной тезис в той или иной степени принимается всеми4, но при этом граница Церкви может определяться более широко. Уже во время жизни свт. Киприана его мнение не было абсолютным: например, блж. Августин признавал таинства, совершенные вне канонических границ Церкви5. Буквальное прочтение слов свт. Киприана даже было осуждено его современником сщмч. Стефаном, папой Римским6.
«Икономическая» теория о таинствах вне Церкви, основываясь на мнении свт. Киприана, считает акривией 46-е, 50-е и 68-е правила Святых Апостолов и иные правила Поместных Соборов в Малой Азии (см. подр.: [Зайцев, 2011, 265-283]) в их буквальном толковании, т. е. об обязательном перекрещивании всех, кто находится вне евхаристических границ Церкви. При этом икономией считается практика трех чинов приема (через Крещение, Миропомазание, Покаяние в зависимости от степени отпадения человека от Церкви), которая основывается на 8-м, 19-м правилах I Вселенского Собора, 95-м правиле Трулльского Собора, 1-м правиле свт. Василия Великого. Аргументом служит исторический контекст правил о нескольких чинах приема, из которого делается вывод, что в каждом из них имел место частный случай, который не может являться общеупотребительным правилом. Дополнительным подтверждением служит то, что свт. Василий Великий в своем правиле говорит о признании таинства Крещения у раскольников как о допускаемом ради пользы церковной (см. подр.: [Ανδρούτσος, 1907, 304–306; Δυοβουνιώτης, 1913, 160– 161])7. Изложенное понимание канонов закрепилось в греческой традиции после XVIII в. и транслируется в трудах толкователей канонов и канонических сборниках (см. подр.: (Пидалион, 2019, 91–95, 151); [Никодим Милаш, 2001, 589–591]). При этом на практике прием в Православную Церковь продолжается в соответствии с тремя чинами. Получается, что те, кто должны при переходе в Церковь принимать Крещение, могут быть только миропомазаны или исповедованы. Логическим следствием таких рассуждений является то, что благодать «неисполненных» таинств при использовании практики трех чинов приема сообщается «по икономии». Некоторыми предлагалось объяснение, что благодать Крещения восполняется в том таинстве, посредством которого человек принимается в Церковь, что порождало еще большие вопросы (см. подр.: [Сергий Старогородский, 2001, 35, 41–42]). В своем логическом развитии «икономическая теория» привела к появлению понимания икономии как инструмента, через который Церковь может сообщать благодать таинств без их действительного совершения и, наоборот, не признавать действенности таинств, совершенных в Церкви, по своему усмотрению (см. подр.: [Δυοβουνιώτης, 1913, 163-165])8, на основании представления о Церкви как о сокровищнице благодати и, следовательно, ее распорядительнице. Именно в таком духе современные греческие богословы трактуют действия Константинопольского патриархата по «легитимизации» раскола на Украине (см. подр.: [Γρηγόριος Νικολάου, 2022, 15, 36, 71]).
Альтернативная каноническая модель. Альтернативное мнение основывается на ином толковании канонов и заключается в признании за акривию практики трех чинов приема. В пользу этого мнения служат следующие аргументы. Если в изданном Соборами правиле предлагается какое-либо решение, являющееся ико-номией, то об этом прямо говорится, например в 3-м правиле Трулльского Собора: «…по сему предмету принадлежащие к святейшей римской Церкви предлагали наблюдати строгое правило, а подвластные престолу сего богохранимаго и царст-вующаго града, правило человеколюбия и снисхождения: то мы, отечески и вместе богоугодно совокупив то и другое во едино, да не оставим ни кротости слабою, ни строгости жестокою…» (Книга правил, 2016, 39). Таких замечаний мы не находим в правилах о трех чинах приема, в том числе и в 95-м правиле Трулльского Собора. Правило свт. Василия Великого, где он описывает применение трех чинов приема в зависимости от степени отпадения от Церкви еретиков, раскольников или самочинных сборищ, под «признанием таинств ради пользы церковной» говорит вовсе не о том, что Церковь по своему усмотрению считает одни таинства благодатными, а иные нет. Напротив, свт. Василий говорит о необходимости применения разных способов приема как об акривии, которая служит церковной пользе (см. подр.: [Сергий Старогородский, 2001, 56–57]). Такой подход не только является разумным, так как наказание зависит от степени вины, но и отражает церковную традицию различения степени греха и, следовательно, степени отдаления от Бога, которая, например, была выражена в разделении кающихся на несколько чинов (см. подр.: [Афанасьев, 1993, 195; Пентковский, 2002, 63-70]). Кроме того, при этом не нарушаются границы Церкви, так как, несмотря на использование трех чинов как свидетельства о наличии некоторых таинств вне евхаристической границы, Церковью всегда соблюдается правило прекращения евхаристического общения с отпадшими. Таким образом, несмотря на строгие границы Церкви, не все отпадшие совершенно теряют связь с ней. В современной канонической науке, на основе воззрений, предложенных богословами и канонистами XX в., возник взгляд, который описывает эту действительность посредством модели двух кругов — четкой канонической границы Церкви и более широкой «мистической территории», границы которых определяются евхаристическим общением для первой, а более широкая область завершается там, где не может быть признано таинство Крещения. В пределах этой «прослойки» между Церковью и внешним миром могут совершаться некоторые таинства, низводящие благодать. Границы ее с внешним миром канонически определены различением находящихся на «мистической территории» с теми, кто может быть принят в Церковь только через Крещение (см. подр.: [Цыпин, 1986, 218-219]). Мнение современной Русской Православной Церкви выражено в документе «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию», в котором отмечено: «отпавшие от единства с православием никогда не рассматривались как полностью лишенные благодати Божией. Разрыв церковного общения неизбежно приводит к повреждению благодатной жизни, но не всегда к полному ее исчезновению в отделившихся общинах. Именно с этим связана практика приема в Православную Церковь приходящих из инославных сообществ не только через таинство Крещения. Несмотря на разрыв единения, остается некое неполное общение, служащее залогом возможности возвращения к единству в Церкви, в кафолическую полноту и единство» (Принципы отношения к инославию, 2000).
Исторический контекст «икономической теории». Также важно осветить исторический аспект возникновения «икономической» теории, так как он повлиял и на создание самой теории, и на принципиальность ее сторонников. Несмотря на уже существовавшее мнение об отсутствии благодати за пределами канонических границ, как уже было отмечено выше, оно не было всеми признаваемо и не было закреплено как правило. При этом практика была разнородной и часто зависела от отношений конкретной Поместной православной Церкви или даже ее части с той или иной христианской деноминацией. Например, в практике приема католиков после заключения Ферраро-Флорентийской унии участились случаи применения первого чина — Крещения, такая практика была закреплена в 1620 г. на Московском Соборе, но впоследствии отменена на Соборе в 1666-1667 гг., последуя практике того времени в Константинопольской Церкви. В самой Константинопольской Церкви была принята практика приема католиков по третьему чину (покаяние), однако в 1755 г. был издан орос, закреплявший как обязательную практику перекрещивание. Этот орос является действующим постановлением в Константинопольской Церкви, несмотря на неоднозначную историю его принятия, сопровождавшуюся категорическим его неприятием Синодом и неоднократными низложениями патриархов (см. подр.: [Луховицкий, 2018]). Характерно, что практика перекрещивания католиков установилась в одно время с усилением деятельности католических миссионеров. Возникновение богословских и канонических оснований решения, принятого оросом 1755 г., было не причиной принятия ороса, а следствием из него (см. подр.: [Кирилл Говорун, 2010]).
В заключение краткого канонического обзора проблемы «икономической» теории необходимо отметить, что она имеет альтернативы в каноническом праве, которые не противоречат церковной практике приема инославных и которые имеют основание как в каноническом корпусе, так и в творениях святых отцов. Однако в действительности эта проблема не разрешена, так как для «икономической» теории, несмотря на ее позднее возникновение, были созданы канонические и богословские обоснования. Для разрешения противоречия необходимо выйти за рамки канонического права и описать икономию не в рамках какой-либо системы, а отталкиваясь от самого понятия.
Истоки понятия икономии. Изначально термин oiKovopia использовался как профанное понятие и служил обозначением домоуправления, распоряжения имуществом. В этом же смысле он используется в греческом тексте Ветхого Завета9. При использовании этого термина в философии раскрывается глубинный смысл понятия. Платон противопоставлял мироустройство искусственное (ταχύς) и естественное (οίκονομία) и утверждал, что источником нематериальных ценностей должна быть гармония мироустройства, которая может служить образцом и регулятором в любом деле. Икономия в его понимании была искусством приведения хаоса в состояние гармонии и в сфере управления, и вообще в любой деятельности человека. Такая икономия требовала определенных навыков, умений и вдохновения свыше. В доведенном до своего логического завершения виде у пифагорейцев понятие икономии является обозначением идеального, гармоничного мироустройства, понимание которого может стать доступным человеку только через сверхъестественное откровение (см. подр.: [Brisson, 2007, 92]). Через призму этих логических выкладок даже профанное значение приобретает вполне конкретный оттенок административного искусства управления в соответствии с Божиим замыслом мироустройства, которое не может быть воспринято без откровения. Именно в таком смысле можно интерпретировать использование термина o^кovoц^a в Евангелии от Луки (Лк 12:42; 16:1-8). Там управителю дана характеристика πιστὸς (верный), и косвенно это указывает на управителя не просто как на исполняющего свои обязанности, но как исполняющего «всякую правду» (Мф 3:15). В притче о верном домоправителе управление представлено не просто как административная функция, но как управление мудрое, которое ведет человека ко спасению. В апостольских посланиях философское понятие икономии получает христианскую интерпретацию и используется для обозначения Божественного домостроительства — Божьего замысла об устроении дела спасения человека через пришествие в мир Сына Божия10. Такое понимание термина икономии наделяет его значением не только понятия из области канонического права, но позволяет перевести рассуждения о нем в область богословия красоты.
Понятие красоты . Чтобы говорить о красоте, прекрасном и красивом, нужно понять, почему обсуждение красивого воспринимается только как разговор о красоте внешней. Исторически и философски корни эстетического направления проявляются с древнейших времен, плоды этого вектора развития даже называются палеоэстетикой, выраженной в «поделках» или росписях предметов культа. Но этот исторический этап развития выражал эстетическое скорее имплицитно, а вот в Древней Греции он проявился более предметно, хотя и на своем уровне. Осмысление феномена прекрасного проявилось в трудах Платона, Аристотеля или философских школ стоиков, пифагорейцев и т. п. Выработались эстетические понятия: свет, святость, гармония, порядок, катарсис, вкус и т. п. Однако это была не математически выверенная система знаний, подобная сегодняшнему направлению в философии (аналитике). Это была скорее практическая деятельность философов, поскольку они искали Блага и Красоты, которые и являлись способом бытия, а понятие красоты стало онтологично для философии и образа жизни «ищущего» (см. подр.: [Лосев, 1930, 84]). Христианская мысль немыслима без эстетических категорий. Пресвитер Климент Александрийский, а также свв. Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, блж. Августин, Иоанн Дамаскин и другие возвращаются к античной философии, перерабатывают ее и вводят терминологию эстетики в антропологию, онтологию, сотериологию и иные будущие дисциплины христианского богословия (см. подр.: [Аверинцев, 1977, 320]). В первую очередь связывается аскетика с эстетикой, отсюда и всем нам знакомое описание святых отцов как «художников», занимающихся аске-тикой — «художеством из художеств» (см. подр.: [Флоренский, 2018, 324]).
Однако со временем эстетика в каком-то смысле не успела развиться в «классической» философии: она ассоциировалась с излишней религиозностью христианства первых веков и прямо уничтожалась юридическим подходом схоластической мысли. В конце концов эстетика была поглощена этикой, что нашло выражение в кантовском подходе к эстетическим категориям. Эстетика стала одной из составляющих и внешней оболочкой. Под давлением субъективной морали эстетика оказалась заключена в узкие этические рамки, где отсутствует ясное понятие истины, а значит, красота лишается определенной цели. В таких условиях цель становится условной и может быть пересмотрена или направлена в зависимости от воли сильнейшего — будь то в моральном, социальном или политическом смысле (см. подр.: [Аверинцев, 1977, 32–33]).
Первым и чуть ли не единственным, кто из русских мыслителей попытался вывести эстетику в область самостоятельной науки, по крайней мере в русской философии, был о. Павел Флоренский, о чем пишет Н.А. Бердяев (см.: [Бердяев, 2001, 264]). Современным же продолжателем мыслей о. Павла является В. В. Бычков, который называл о. Павла одним из первых, кто начал транслировать и раскрывать православное богословие языком эстетики (см.: [Бычков, 1990, 4]). Что о. Павел, что Виктор Васильевич акцент делают на отношениях человека с Богом, где образом жизни является аскеза, а красота есть результат, процесс и Божественное одобрение (см. подр.: [Бычков, 1990, 17]). Эстетика у них рассматривается в метафизическом смысле и относится к духовному, высшему миру, являя собой не внешнюю оболочку, но соединение добра, истины и красоты в едином.
Что же означает эта метафизическая триада — «истина, добро и красота»? Она есть не три отдельных разных начала, но одно, самостоятельное, приводящее к единому, рассматривающее духовную жизнь под разными углами (см. подр.: [Флоренский, 2003, 85]). Истина есть единственность правды. Если эта правда воспринимается ближним — она есть добро. И если добро с истиной созерцаются третьим, то это и есть красота. Таким образом, для красоты необходимы делающий, воспринимающий и созерцающий. Логично будет заметить, что трое действующих лиц могут претендовать на явление красоты лишь при наличии Бога, Который заключает в себе полноту
Блага, Истины и Красоты. Бог в богословии красоты есть Тот, Кто эту красоту одобряет и преподает. Как для Бога естественно творить добро, обладая истинным знанием, так естественно и стяжать проявление добра в истине человеку. Ключевое отличие восточнохристианского богословия от западнохристианского в том, что истина для восточного христианства есть necessaria, т. е. необходимое знание, а не utilitatem habere, т. е. желанное или полезное. И красота немыслима без желания познания истины — необходимого знания. А значит, немыслима и без проявления любви. Всё это находится в области доверия Божественному Промыслу и непрестанному попечению Бога о потенциальной красоте (Быт 1:31) (см. подр.: [Флоренский, 2003, 86]). К слову, что немаловажно, о чем отчасти говорилось выше и что отмечает о. Павел Флоренский, доброта ещё не есть красота, и перекос внимания в сторону «доброты» — лукавая ошибка. Доброта в современном и древнем значении — разные вещи. Раньше доброе означало нечто красивое, точнее — прекрасное, а не некое моральное совершенство, а значит, рассмотрение стиха из книги Бытия (Быт 1:31) приобретает уже другой смысл (см. подр.: [Флоренский, 2003, 103]). И здесь мы опять встречаемся с противоборством этики и эстетики. Мы подходим к главному заявлению о. Павла Флоренского, которое ему довелось высказать первым от лица русских мыслителей XX в. Звучит оно как объявление войны этике: «Человек XIX века делает себя абсолютным мерилом истины и красоты. Он заставляет все мироздание вращаться около себя. Перспектива есть живописное выражение кантианского понимания» [Флоренский, 2000, 484]. Необходимо зафиксировать: этический подход заставляет весь мир вращаться вокруг человека — вокруг себя. В этой парадигме уже присутствует право на личную собственность относительно жизни, которая есть дар. И здесь речь не о том, что у человека не должно быть прав на своего рода «личную собственность», но присутствует указание на смещение ориентиров при том, что никто не будет отрицать, что человеческая жизнь — самое важное и ценное имеющееся у человека. Критиковал Канта и А. Ф. Лосев, называвший его систематизатором либерального духа. По Канту, вкус как эстетическая категория является тем, посредством чего можно оценивать предмет или явление. Если оно вкусно, значит, приносит удовольствие — и, следовательно необходимо; а если не вкусно, то не приносит удовольствия — и, следовательно, можно отказаться (см. подр.: [Кант, 1966, 85]). Заметим, данная мысль не удерживает в себе идею полезности, но допускает и другие проявления субъектом себя по отношению к себе и к миру (см. подр.: [Лосев, 2001, 515]).
Теперь, когда мы определились, что рассматриваем эстетику в отношении Божественного, а не внешнего, перейдем к православному пониманию красоты и вопросу о совместимости ее с икономией. Всё, что создается Богом, всё, что относится к Богу и что Им одобряется, есть своего рода результат Его Промысла. Но результат не как самостоятельный деятель, будь то София, Красота, еще какая-нибудь сила или четвертая ипостась, а результат, законченный в творении и развивающийся в жизни. Примером прекрасного в онтологии является всем известная фраза, завершающая творение мира (Быт 1:31). О наличии красоты в человеке мы также узнаем из Священного Писания (Быт 1:26), где человек создается по образу и подобию Самого Бога. Красота есть отпечаток Бога, область Его одобрения и путь. Вспомним о самых важных событиях для человеческой истории: Воплощение, Воскресение и Преображение Христа, Который называет себя «Истиной, Путем и Жизнью» (Ин 14:6). Красота как явление всегда связана с порядком и благом. Она не обязательно зависима от чьих-то предпочтений или желаний, даже кажущихся хорошими. Безусловно, она необходима для бытовой жизни (2 Пар 3:6). Желанна, потому что связана с Источником блага (Пс 44:12). Потому-то Бог и называется «совершенством красоты» (Иез 27:3), поскольку Он там, где красота, а красота там, где Бог (Пс 49:2). Отсюда, от красоты создания, и познается Бог (Прем 13:5), и все Его дела приводят к покрытию хаоса, потому что они «слава и красота» (Пс 110:3).
Теперь определим, что из составляющих понятия «красота» наиболее близко к понятию икономии. Предположим, термин «гармония», который уже упоминался в других пунктах статьи и в начале исторической вводной. Все изложенные выше описания взаимосвязи красоты и Бога направлены в первую очередь к пониманию того факта, что красота не может быть законсервирована. Красота — это не выгода, это не достаток и это не обладание. Красоте нужна история, движение, порядок, красоте нужна жизнь. Красота связана с гармонией, поскольку предотвращает непорядок, противоборствует хаосу. Что есть ἁρμονία (связь, союз, совпадение), происходящее от ἁρμόζω — «прилаживать, подгонять». В Евангелии используется термин ἡρμοσάμην, что значит «обручил», восходящий к ἁρμόζω — «соединять, заключать союз» (2 Кор 11:2–3). В латинском языке используется слово arma — «оружие», или ordo — «ряд, порядок». Порядок необходим, и он должен поддерживаться, а не удерживаться. Порядок создает гармонию, а гармония дает видеть красоту. Красота может быть только живой, а значит, любые попытки сделать красоту неживой есть не что иное, как поддержание жизни идола. Красота как бы покрывает хаос, но не является плакатом, закрывающим разрушенный мир, а есть результат Божественного вмешательства. Она сочетает в себе всё Божественное, которое нам доступно. Поэтому любое действие красоты — это не ширма, но преобразующее действие, которое является антонимом слову «хаос». Возможность корректировать красоту человеку доступна, как образу Бога, но желание обладать ею может привести к стагнации красоты, и за-консервированность будет только лишать ее жизни и разрушать изнутри. При таком подходе любое красивое будет красивым лишь внешне, и поддержание этого внешнего станет единственной возможностью не оказаться без красоты, хоть бы и лишь с «оберткой». Обладание таковой есть страх от неимения красоты, своего рода страх богооставленности. Что может быть хуже, чем оказаться нерадивым работником, которому доверили золото, а он преподнес позолоту? Церковь, конечно, нуждается в красоте, потому что Церковь — свята, и потеряв связь с Божественным она станет всего лишь человеческим институтом. Однако Церковь (земная) — богочеловеческий организм и существует в земном, пораженном грехом мире.
Где же место икономии в концепции богословия красоты? Результат, разрушающий общую красоту в каком-либо месте, бросает тень на всю красоту, поэтому, когда красоту начинают восстанавливать, сначала строят ограду, чтобы не дать разойтись хаосу и не впустить вовнутрь тех, кто вместе с хаосом уничтожит и красоту. Хаос принято прикрывать, хотя бы и зная, что он есть и существует. Но не может быть статичного состояния красоты и хаоса: растет либо одно, либо другое. Поэтому правильнее было бы сказать, что хаос «покрывается», т. е. на него налагается лечебный пластырь. Таким образом прекращается развитие хаоса внутри, не допускается его выход наружу, одним словом, красоту начинают восстанавливать с наличием внутри каких-то «неровностей или шероховатостей». Принцип икономии устанавливает границу между созданием «внешней ограды», попытками закрыть хаос позолотой, т. е. того, что в терминологии канонического права можно назвать беззаконием, и тем самым лечебным пластырем, который исцеляет неровности и обстоятельства падшего мира, обращает конкретную ситуацию к состоянию первозданного, задуманного Богом мира и человека — состоянию красоты. Икономия показывает, что хаос и красота — это разные вещи, в результате взаимозамены которых красотой может быть объявлено беззаконие.
Следует помнить, что красота всегда связана с Богом, но не является Его сущностью. Она не просто инструмент или атрибут. Использовать красоту — значит стремиться к обладанию абсолютной истиной. Под «использованием красоты» подразумевается использование чего-то красивого, что уже оформлено и завершено, в то время как настоящая красота не может быть окончательной, иначе она утратит свою живость.
Таким образом, богословие красоты в первую очередь переносит, возвращает акцент на Бога как центра вселенной, оставляя за этикой (как наукой) человека. Отсюда, всё остальное понимание онтологии, и в первую очередь сотериологии, преодолевает закостенелые лжеубеждения и не дает человеческому фактору вмешиваться в дела Божии на основании удобопреклонности человеческой души, каковая не раз подтверждена в человеческой истории.
В заключение статьи мы попытаемся предположить, как на практике может быть использовано понимание икономии через призму красоты и может ли оно быть использовано как критерий правильности примененной икономии. Для примера опишем несколько случаев применения икономии.
Примером икономического решения, которое изменяет форму правила в сторону ужесточения, является 12-е правило Трулльского Собора (Книга правил, 2016, 42) о безбрачии епископов, которое по своей форме, кажется, противоречит Священному Писанию: «епископ должен быть непорочен, одной жены муж» (1 Тим 3:1–4) и следующему из этого изречения правилу 5 Святых Апостолов: «епископ, или пресвитер, или диакон, да не изгонит жены своея…» (Книга правил, 2016, 7), которые подразумевают, что может быть живущий в браке епископ. Смысл слов ап. Павла о единобрачии епископов заключается в изложении критериев благочестия кандидатов на епископскую хиротонию, при этом сами эти критерии воспринимаются не как обязательная догма, но как необходимый минимум11. Именно поэтому позднее 12-е правило Трулльского Собора уточняет форму, изложенную в Священном Писании, не отклоняясь от Его первоначального духа, смысла и цели. В данном случае ужесточение формы через постановление о запрещении брачной жизни епископам является проявлением икономии как изменения буквальной формы правила для достижения условий спасения в конкретных исторических обстоятельствах. Проявление икономии как ужесточения правила является творческим порывом и не чем иным как конкретизацией условий достижения святости. Альтернативный вариант, при котором была бы сохранена форма, установленная как необходимый минимум, в конкретной исторической ситуации явился бы нарушением достижения цели правила — достижения условий красоты.
Иной случай послабления формы правила по икономии находим в 69-м правиле Святых Апостолов: «Аще кто епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец, не постится во святую четыредесятницу пред Пасхою, или в среду, или в пяток, кроме препятствия от немощи телесныя: да будет извержен. Аще же мирянин: да будет отлучен» (Книга правил, 2016, 14). Отступление от правила в случае телесной немощи является икономией, так как в этом конкретном случае подразумеваемое правилом достижение условий спасения уже выполнено и не нуждается в дополнительном исполнении. Почему здесь сохраняется красота? Икономия предписанием не совершать действие способствует достижению условий красоты (святости), так как в конкретной ситуации формальное исполнение правила препятствовало бы достижению этих условий красоты. То, что, икономия разрешает не выполнять формальное правило, продиктовано тем, что правило по своему смыслу/духу (в сущности) исполнено.
Чем является красота в системе канонического права в контексте применения красоты? Красота является результатом действия Божия — замысел Бога о человеке является действием Божиим: человек замыслен красивым, т. е. святым. Икономия как средство к достижению условий спасения, приведение к состоянию, которое задумано Богом, создает условия для покаяния, при которых человек может выбрать святость/красоту. Икономия не призвана оправдать человека, а призвана соблюсти правило по своей сути (т. е. привести к той же цели) в конкретной исключительной ситуации.
Икономия способствует установлению красоты, предлагает путь.