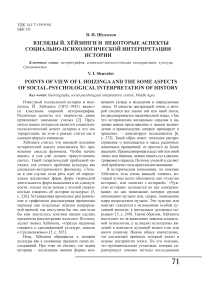Взгляды Й. Хёйзинги и некоторые аспекты социально-психологической интерпретации истории
Автор: Шувалов Владимир Иванович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению взглядов известного голландского историка Й. Хёйзенги. Особое внимание уделяется изучению специфики его социально-психологической интерпретации истории.
Историография, социально-психологическая интерпретация, культура, средневековье
Короткий адрес: https://sciup.org/14720673
IDR: 14720673 | УДК: 141.7:159.9:94
Текст научной статьи Взгляды Й. Хёйзинги и некоторые аспекты социально-психологической интерпретации истории
Известный голландский историк и мыслитель Й. Хёйзинга (1872–1945) является классиком мировой историографии. Различные аспекты его творчества давно привлекают внимание ученых [2]. Предметом наших интересов является социальнопсихологический аспект истории в его интерпретации, на этом в рамках статьи мы и сконцентрируем внимание.
Хёйзинга считал, что никакой подлинно исторический анализ невозможен без прояснения смысла феномена. Чтобы начать анализ, в уме уже должен присутствовать синтез. Такой теоретической проблемой являлась для ученого проблема культуры как социально-исторического феномена. «Только в том случае, если речь идет об определении жизненных форм, форм творческой деятельности, форм мышления в их совокупности, только тогда можно с полной уверенностью говорить об истории культуры» [5, с. 226]. Устанавливая временное разграничение и графически рассматривая временные периоды как отдельные отрезки непрерывной прямой, мы поступили бы так, как если бы нам захотелось ломтики пикши сделать предметом рассмотрения зоологии. Поэтому, делает вывод Хёйзинга, «гораздо надежнее говорить о средневековой культуре, нежели о Средневековье» [5, с. 265].
Итак, Хёйзинга обращается к истории культуры как к основному предмету своих исследований. При этом он считает, что задача историка – исследовать именно формы жиз- ненного уклада и мышления в определенные эпохи. В качестве центральной точки, в которой сходятся все линии той или иной эпохи, им рассматривается национальный идеал. «Так что историческим жизненным идеалом я называю всякое представление о некоем великолепии и превосходстве, которое проецирует в прошлое», – констатирует исследователь [6, с. 275]. Такой образ имеет тотальное распространение и воплощается в массе различных жизненных проявлений: от простого до более высокого. Проанализировав идеал той или иной эпохи или периода, можно понять суть рассматриваемого периода. Поэтому ученый и уделяет этой проблеме столь пристальное внимание.
В историческом понимании, по мнению Хёйзинги, есть очень важный элемент, который лучше всего обозначить как «чувство истории», или «контакт с историей». «Чувство истории» осознается не как сопереживание, но как понимание, которое сродни пониманию музыки или, скорее, пониманию мира посредством музыки. Это чувство или контакт «сводится к мгновениям особой духовной ясности, к внезапным духовным порывам» [5, с. 249]. Таким образом, Хёйзинга выступает не за выявление законов социальной психологии, а за анализ культурных явлений в контексте духовной жизни того или иного социума. Важно общее впечатление, тот системный принцип, который лежит в основе восприятия эпохи. По его мнению, это принципиальная установка, которая характеризует именно методы исследования истории культуры. Эту идею ученый и пытается применить в практике конкретноисторических исследований.
В работе «Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах» (1919) автор задается целью выяснить, как зародились и расцвели «средневековые идеи и формы жизненного уклада». Именно эта работа и является основным предметом нашего анализа.
Выделим четыре принципиально важных, по нашему мнению, установки ученого.
Во-первых, Хёйзинга подчеркивает, что каждый, кто берется за изучение истории Средневековья, в какой-то момент будет поражен, сколь недостаточно объяснять целый ряд исторических явлений этого периода исключительно политико-экономическими причинами, как это практикуется в современных исторических исследованиях. Экономические противоречия, которые берутся здесь за основу, продолжает он, по большей части всего лишь схематические конструкции, которые при всем желании нельзя было бы извлечь из источников. Например, объяснять только экономическими причинами возникновение и борьбу средневековых партий, невозможно. «Не только богатство порождало зависть, но ничуть не меньше – и слава. Фамильная гордость, жажда мести, пылкая верность сторонников – вот каковы были главные побуждения» [4, с. 31]. Именно это приводит к семейным раздорам, которые резко поляризуются по отношению к феодальной власти, что и ведет к образованию партий, которые видят основание для своего разграничения исключительно в солидарности и корпоративной чести. Объяснить суть этого процесса одними экономическими противоречиями невозможно.
В связи с этим заметим, что в советской историографии на эту проблему также обращали внимание. Например, А. Я. Гуревич вслед за Хёйзингой считал, что целый ряд важных исторических проблем Средневековья в привычных социально-экономических категориях принципиально не решается [1, с. 65]. Таким образом, важность основного постулата Хёйзинги до сих пор не потеряла значения.
Во-вторых, прежде чем приступить к детальному анализу составляющих средне- векового менталитета, Хёйзинга останавливается на общем тоне жизни этой эпохи, особенностях восприятия человека анализируемого им периода.
Народ в период Средневековья не мог воспринимать и собственную судьбу, и творившееся вокруг иначе, как нескончаемое бедствие дурного правления, вымогательств, дороговизны, лишений, чумы, войн и разбоя. Затяжные формы, которые обычно принимала война, ощущение постоянной тревоги в городах и деревнях, то и дело подвергающихся нашествию всякого опасного сброда, вечная угроза стать жертвой жестокого и неправедного правосудия, гнетущая боязнь адских мук, страх перед чертями и ведьмами – все это не давало угаснуть «чувству всеобщей беззащитности», что вполне способно было окрасить жизнь в самые мрачные краски. Поэтому на исходе Средневековья основной тон жизни – горькая тоска и усталость, считал Й. Хёйзинга. Ощущение глубокой подавленности, неизбежное в этой юдоли скорби – вот с каким настроением воспринимается повседневная действительность, как только детская радость жизни или слепое наслаждение сменяется размышлениями.
Подобные установки позволяют ученому сделать следующий вывод: средневековый «дух», «образ мыслей», пылкий и грубый, твердый и одновременно слезообильный, постоянно колебался между мрачным отвержением мира – и наслаждением его пестротой и красотами. «Так неистова и пестра была эта жизнь, где к запаху роз примешивался запах крови. Словно исполин с детской головкой, народ бросался от удушающих адских страхов – к младенческим радостям, от дикой жестокости – к слезливом умилению. Жизнь его полна крайностей: безусловное отречение от всех мирских радостей – и безумная тяга к наживе и наслаждениям, мрачная ненависть – и смешливость и добродушие» [4, с. 36]. Страсти и переживания необходимо заключаются в жесткие рамки общепринятых форм, поэтому и собственные жизненные обстоятельства, и события в жизни других становились неким прекрасным спектаклем, где при искусственном освещении разыгрывались патетические сцены страдания или счастья. Отношение к жизни возводится до уровня стиля; вместо нынешней склонности скрывать и затушевывать личные пере- живания и проявления сильного душевного волнения ценится стремление найти для них нужную форму и тем самым превратить в зрелище также и для посторонних.
Эта мысль также весьма продуктивна, о чем свидетельствует дальнейший опыт Школы «Анналов» во французской историографии. В целом ряде фундаментальных работ ее представители пытались повторить подобный метод общего анализа исторической психологии эпохи [2–3].
В-третьих, интересна мысль Хёйзинги о том, что восприятие мира в Средние века ограничивалось всего несколькими основными «формами жизненного уклада», где центральную роль играл рыцарский идеал.
Поскольку политическая элита была образцом для подражания всех остальных сословий средневекового общества, ее общие установки, причудливо видоизменяясь, транслировались на все остальные сословия. Как в капле воды, рыцарский идеал отражал особенности менталитета всего средневекового общества.
Доминанта идеи рыцарства в Средние века сводится к тому, что якобы именно аристократия, верная этим самым рыцарским идеалам, призвана поддерживать и очищать окружающий мир. Праведная жизнь и истинная добродетель людей благородного происхождения – спасительное средство в недобрые времена. От этого зависит благо и спокойствие Церкви и того или иного королевства, этим обеспечивается достижение справедливости. Рыцарство призвано защищать и оберегать два других сословия. Именно поэтому почитание высокого стремления и отваги становится рядом с почитанием высшего знания и умения. Люди испытывают потребность видеть человека более могущественным и хотят выразить это в твердых формах двух равноценных устремлений к высшей жизненной цели. В рыцарстве проявляется чувственная подоплека воинской доблести: будоражащий выход за пределы собственного эгоизма в тревожную атмосферу риска для жизни, глубокое сочувствие при виде доблести боевого товарища, упоение, черпаемое в верности и самоотверженности. Это примитивное аскетическое переживание, по существу, и есть та основа, на которой выстраивается рыцарский идеал, устремляющийся к благородному образу человеческого совершенства.
Общество находилось в специфическом возбужденном состоянии, отличалось крайней нервозностью и неуравновешенностью. Поэтому средневековый менталитет сформировал рыцарский идеал как оптимальный вариант светского поведения человека в такой стрессовой ситуации. В основе этого идеала – идея аскетизма, т. е. необходимость служения обществу во имя некой высшей цели. Так люди пытались на интуитивном, неосознанном уровне противостоять социальноисторической реальности.
Вместе с тем время позднего Средневековья – один из тех сложных периодов, когда культурная жизнь высших слоев общества почти целиком сводится к светским забавам. «Действительность полна страстей, трудна и жестока; ее возводят до прекрасной мечты о рыцарском идеале, и жизнь строится как игра» [4, с. 85].
Наконец, в-четвертых, важна в плане дальнейшего развития исторической науки установка Хёйзинги по поводу того, что структурирующим моментом духовной жизни Средневековья была религиозность, которая накладывала отпечаток на все проявления средневекового коллективного самосознания.
Менталитет Средних веков строился на основе веры в сверхъестественное, религиозности, т. е. единственного способа непротиворечиво объяснить окружающий мир. Это причудливо накладывалось на ту постоянную духовную двойственность, о которой уже говорилось. В итоге сплошь и рядом наивноповерхностное понимание религиозного долга вдруг сменялось чрезмерной пылкостью.
Жизнь народа текла в привычном русле поверхностной религиозности при весьма прочно укорененной вере с ее страхами и восторженными порывами. Хёйзинга подчеркивал: «Все, что узнаешь о повседневной религиозной жизни этого времени, постоянно говорит о сменяющих одна другую чуть не противоположных крайностях» [4, с. 177].
В душе человека Средневековья все наиболее высокие и наиболее чистые чувства выражаются в религии, тогда как естественные, чувственные влечения, отвергаемые сознанием, по необходимости снижаются до уровня мирского, почитаемого греховным. В средневековом сознании формируются как бы два жизненных воззрения, располагаю- щиеся рядом друг с другом. Все добродетельные чувства устремляются к благочестивому, аскетическому, но тем необузданнее мстит мирское, полностью предоставленное в распоряжение дьявола. Когда что-нибудь одно перевешивает, человек либо устремляется к святости, либо грешит, не зная ни меры, ни удержу. Но, как правило, эти воззрения пребывают в шатком равновесии в отношении друг друга, хотя чаши весов то и дело резко колеблются, устремляясь вверх или вниз, и мы видим обуреваемые страстями людей, чьи грехи временами заставляют еще более ярко вспыхивать их рвущееся через край благочестие. Так, свойственное этому времени причудливое пристрастие к роскоши сочетается с проявлением строжайшего благочестия. Герцог Савойский вместе с шестью рыцарями своего ордена Св. Маврикия становится отшельником, но при этом носит позолоченный пояс, алую шляпу, золотой крест и не отказывает себе в добром вине [4, с. 181].
Многочисленные проявления средневековой религиозности, накладываясь на общий тон жизни этого времени, обеспечивали тотальное проникновение в мысли и чувства обычного человека определенных образов и сообщали его сознанию характерные для менталитета всего общества черты. Именно это позволяет утверждать, что средневековое общество – общество духовных эпидемий.
В заключение можно констатировать, что осуществленный Хёйзингой культурологический анализ привел к весьма эффективным результатам. Ему действительно удалось представить духовный срез огромного социума, причем не абстрактный, а привязанный к конкретной эпохе. Средневековое общество имело четко различимые черты, связанные с особенностями его менталитета. Эта духовная специфика в дальнейшем исчезла, и можно только удивляться точности той реконструкции прошлого, которую осуществил ученый.
Работа Хёйзинги «Осень Средневековья», безусловно, была известна и читаема. В связи с этим, видимо, можно утверждать, что дальнейшие исследования проблемы менталитета в рамках Школы «Анналов» находились под известным влиянием идей голландского ученого. Во всяком случае в работе известного современного исследователя А. Я. Гуревича «Исторический синтез и школа “Анналов”» (1993) приводится ряд фактов, которые позволяют прослеживать несомненную преемственность французских исследователей тематики менталитета и их голландского предшественника. Поэтому косвенное влияние идей Хёйзинги на дальнейшее развитие французской и всей мировой историографии прослеживается достаточно определенно.
Список литературы Взгляды Й. Хёйзинги и некоторые аспекты социально-психологической интерпретации истории
- Аверинцев С. С. Культурология Йохана Хёйзинги/С. С. Аверинцев//Вопросы философии. -М., 1969. -№ 3
- Сильвестров Д. Текст повествования в контексте игры/Д. Сильверстов//Й. Хёйзинга. Homo ludens. Статьи по истории культуры. -М., 1997. -С. 9-18
- Тавризян Г. М. Йохан Хёйзинга: кредо историка/Г. М. Тавризян//Й. Хёйзинга. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. -М., 1992. -С. 405-439
- Уколова В. И. Мудрость мастера/В. И. Уколова//Й. Хёйзинга. Осень Средневековья. -М., 1995. -С. 6-14
- Харитонович Д. Э. Осень Средневековья: Йохан Хёйзинга и проблема упадка/Д. Э. Харитонович//Й. Хёйзинга. Осень Средневековья. -М., 1995. -С. 371-376
- Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология/А. Я. Гуревич//Вопросы философии. -М., 1988. -№ 1.
- Зайцева Т. И. Зарубежная историография: XX -начало XXI века/Т. И. Зайцева. -М.: Академия, 2011. -144 с.
- Трубникова Н. В. Историческое движение «Анналов»: традиции и новации/Н. В. Трубникова. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. -356 с.
- Хёйзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах/Й. Хёзинга. -М.: Прогресс-Культура, 1995. -С. 31-181.
- Хёйзинга Й. Задачи истории культуры//Й. Хёйзинга. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. -М., 1997. -С. 226-249.
- Хёйзинга Й. Об исторических жизненных идеалах//Й. Хёйзинга. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. -М., 1997. С. 275-276.